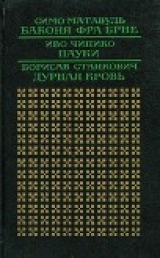
Текст книги "Баконя фра Брне"
Автор книги: Симо Матавуль
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
IX
РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ
Как всегда бывает, после великих потрясений наступил полный покой. Дней десять Брне сочинял циркуляр, предназначавшийся всем монастырям и соборным церквам; в нем Брне подробно перечислял все беды, постигшие обитель святого Франциска, и трогательными словами молил о братской помощи. Это длинное послание предполагалось разослать в двухстах экземплярах, и потому все, кроме Вертихвоста, по целым дням занимались переписыванием. Баконя выучил весь циркуляр наизусть, от слова до слова.
Вероятно, бессовестному Тодорину частенько икалось, столько раз его поминали в монастыре, и в приходах, и в суде, и вообще всюду, куда доходил циркуляр, и, уж во всяком случае, он должен был видеть дурные сны, столько проклятий сыпалось на его большую голову. Кроме проклятий, когда стало доподлинно известно, что Жбан орудует в горах вместе с бандой Радеки, за упомянутую голову была назначена награда в 300 талеров.
Что касается золотой и серебряной утвари, то подозревали, будто все прошло через руки одного купчика в ближайшем городке. Согласно решению суда, в его доме произвели обыск, а его самого временно посадили в тюрьму. Однако за неимением улик в конце концов купчика пришлось выпустить.
Таким образом, мало-помалу, по прошествии двух месяцев, надежды на то, что хоть что-нибудь из похищенного вернется, окончательно развеялись.
На циркуляр откликались тоже очень слабо. Приходили большей частью очень незначительные денежные пожертвования, сопровождаемые пространными соболезнующими письмами, да никуда не годная церковная утварь. Правда, не подвели подвизавшиеся в приходах семеро фратеров. Сложившись, они купили четырех дойных коров («чтобы молока было вдоволь!») и двух рабочих лошадей. Только фра Скряга – Сыч, дядя Клопа, не только не участвовал в складчине, но прислал новому настоятелю полное брани письмо, обвиняя всю братию в том, что она не блюдет как следует добро святого Франциска.
Все это очень тяжко повлияло на фра Брне и, вероятно, ускорило развитие его странной болезни, которая из пальцев перешла и в ступни. Молодой врач из городка прописал ему какие-то капли, но, оставшись наедине с Теткой и Кузнечным Мехом, только качал головой.
В самом деле это была странная болезнь! Целую неделю ни признака болей, и вдруг день-другой невозможно ступить на ноги. Вскоре фра Брне убедился, что от капель ему нисколько не легче, помогало только воздержание от пищи, что было тоже загадкой и раздражало его. Однажды он спросил Тетку:
– Никак не могу понять, какая, к черту, связь между ступнями и едой? Ясно, что, когда желудок наполнен, вес тела увеличивается и ослабевшим ногам приходится труднее! Все правильно, но я пробовал так: когда с вечера, скажем, не поужинаю и на другой день мне легче, я беру два тяжелых стула и ношу их, хоть полчаса, и вовсе не чувствую, чтобы их тяжесть отзывалась на суставах! Сам видишь, непонятная какая-то история!
– Мой дорогой Брне, – сказал Тетка, – от хорошей еды густеет кровь и усиливается болезнь. Потому особенно вреден тебе послеобеденный сон. Ты не должен, как сказал врач, спать после обеда ни минуты!
– Нельзя есть, нельзя спать после обеда, нельзя ничего, к чему привык за последние тридцать лет, для чего же тогда жить? – сердито пробурчал Квашня. И добавил уже мягче: – А что, если, брат Думе, мне жить по-старому, только почаще ставить пьявки, чтобы кровь оттягивалась, а?
– Гм, – промычал Думе, – Перво-наперво вспомни золотые слова шаллеровской школы, обращенные к английскому королю: «Somnum fuge meridianum»[13]13
Сон после полдня вреден (лат.).
[Закрыть].
– Брось, брат, свою школу! – прервал его Брне. – Не продолжай!
Вскоре фра Брне стал мрачен и ко всему безразличен. Всех очень удивило, что случилось это летом, когда он не только не чувствовал никаких болей, но был убежден в полном своем выздоровлении и даже перестал ограничивать себя в еде. В его поведении появились какие-то странности: он прекратил свои утренние прогулки на кухню, не отдыхал перед монастырем в тени деревьев и все чаще искал уединения. Целыми часами сидел он в галерее, перед своей кельей, либо тупо уставясь на какой-нибудь предмет во дворе, либо следя за курами, кошкой или за поднимавшейся из кухонной трубы струйкой дыма. А стоило направиться к нему, Брне тотчас скрывался в келье и запирался изнутри. Если это был слуга, пришедший специально к нему за распоряжением, Брне коротко объяснял, что и как, через дверь. Часто прятался он и без всякой видимой причины, то есть когда ему не грозило ничье посещение. За обедом и ужином он заговаривал только в самых необходимых случаях, однако каждое его слово было разумно, а смысл его речи указывал на то, что рассудок его нисколько не утратил прежней ясности. Больше того, когда Вертихвост однажды спросил его:
– Что, отче Брне? Не… червоточинка ли какая у вас в мозгу?
Брне спокойно ответил:
– Мой мозг, слава богу, здоров, и я не обязан исповедоваться, что со мной!
Другой раз он сказал Тетке:
– Я нахожусь, брат Думе, в таком состоянии, о котором писал… сейчас уже не помню – не то Августин, не то Аквинский… значит, в таком состоянии, когда человек чувствует, будто у него одна кожа, а внутри пустота – нет ни костей, ни мяса, ни крови, один воздух…
– Что-то не соображу я, да и не припоминаю, кто бы из святых отцов мог такое написать, – тревожно ответил Тетка. – Лучше не забивай себе голову, брат Брне, такими пустяками.
– А я утверждаю, что писал, и никакими пустяками я голову себе не забиваю.
Больше об этом речь не заводили. Брне продолжал вести новый образ жизни, о котором знал во всех подробностях только Баконя. Проспав днем часа два-три, дядя никак не мог уснуть ночью; таким образом, муки племянника начинались уже с вечера. Фра сначала слушал тиканье часов, потом ложился на живот, и Баконя чесал ему икры или спину либо искал в голове; тянулось это бесконечно долго; в конце концов Баконя не выдерживал и, невзирая на стоны и упреки дяди, останавливался. После того фра старался уснуть, вертелся около часа, затем вставал и принимался, посапывая и бурча себе что-то под нос, слоняться из комнаты в комнату. Баконя притворялся спящим, но фра будил племянника, расспрашивал, что случилось за день, бранил, потом опускался на колени и читал молитвы, заставляя делать то же самое и племянника. Однажды он приказал Баконе прочесть вытверженный им наизусть циркуляр. А там уже требовал читать его каждую ночь. Словом, Баконя видел, что дядя впадает в детство, и это весьма беспокоило племянника, однако обо всем, что происходило ночью, он никому даже не заикался.
В монастыре мало-помалу привыкли к странностям нового настоятеля, но своим безразличием к делам он словно заразил всех, и все пошло кувырком.
Правда, Пышка добросовестно отзванивал благовест, готовил в церкви все, что полагается, но служба (прости господи!) шла через пень колоду! После завтрака фратеры разбредались кто куда, без сбора и уговора. Навозник не только не держал под строгим надзором черную кухню, но и в своей всецело полагался на Баконю. Новый дьякон и три послушника являлись в «класс», но учителя приходили ненадолго, а то и совсем не показывались. Впрочем, Баконя жадно читал, глотая все, что попадалось под руку, и удивлял фра Тетку своей необыкновенной памятью; кроме того, он с любовью учил юного Пышку, за что Тетка преподавал ему расширенный курс латинского. Предобеденные уроки длились всего несколько минут, потом фратеры молча обедали наспех, как в казарме, и каждый удалялся в свою келью, кроме Сердара, который садился на своего недавно купленного вороного и переезжал в сопровождении Косого на ту сторону реки.
После обеда послушники снова собирались в «класс» полентяйничать до вечернего колокола; вечерню служили на рысях, словно взапуски; потом подавался ужин, всегда невкусный – заразившийся общим унынием синьор Грго все чаще искал утешения в рюмке. «Конечно, грех, но грех покаянный», – говорил он Баконе, поминая покойного Лейку.
Мы уже имеем представление, как проходила ночь в келье игумена, но и в других кельях не все было в порядке.
Тетка, чуть только запрется, сейчас же закуривает трубку и принимается разгуливать взад и вперед по своим двум комнатам. Курит, ворчит себе что-то под нос, пьет воду, поплевывает и ходит, покуда не свалится от усталости на постель как мертвый. Утром, когда Пышка распахивал окна, из них валил дым, как из трубы. Как-то Брне стал уговаривать его по-хорошему:
– Негоже так, брат Думе, ведь пропадешь раньше времени, – ты, знающий наизусть все поучения шаллеровской школы!..
Тетка с грустью сказал ему в ответ:
– Не беспокойся о моем здоровье, брат Брне! Прости, что говорю тебе прямо, но есть дела поважнее, куда поважнее, о коих следовало бы тебе побеспокоиться!
Буян по ночам читал дяде Бураку вслух, пока тот не заснет. Читал что вздумается, с пропусками, а то и с заду наперед, лишь бы тараторить: Бурак походил на некоторых мельников, которые засыпают только под стук мельничного колеса.
И новопосвященному дьякону Коту было не сладко со своим Кузнечным Мехом: спустя два часа после ужина тот долго «квасил» ноги в теплой воде с отрубями, потом через каждые два часа племянник должен был давать ему какие-то капли от одышки и какие-то болеутоляющие желудочные пилюли, – страдающий астмой Кузнечный Мех за ужином ел гораздо больше Квашни и почти каждую ночь его хватали колики.
Вертихвост жил один; сразу после ужина, не заходя в келью, он прохаживался по галерее, потягивая ракию и закусывая «по-гайдуцки» чесноком. Распалясь, он менял направление и принимался ходить перед кельей настоятеля, изо всех сил стуча каблуками, что весьма беспокоило Брне, но сделать замечание зловредному Вертихвосту настоятель не решался.
Другой бобыль, Сердар, обычно болтал с Косым. Мало того, что они не расставались по целым дням, «шатаясь от испольщика к испольщику, подобно бездомным псам» (как однажды выразился Вертихвост), но вдобавок еще пьянствовали по ночам в келье. Однажды, когда Сердар был в хорошем настроении, Квашня напомнил ему, что такое поведение не соответствует монастырскому уставу, на что Сердар едко возразил:
– А кто же здесь придерживается устава, милый Брне? С какой стати мне лезть из кожи, если все у нас пошло через пень колоду? В конце концов, ежели тебе не по душе, что якшаюсь со слугой, уступи мне Баконю, чтоб развлекал меня разговорами!..
Да и в большой трапезной по целым ночам горела свеча, из чего нетрудно было заключить, что бодрствует и Навозник.
Все в монастыре и днем и ночью шло не так, как надо.
И слуги отбились от рук. Корешок и Треска, улучив время, ставили верши и вечно ссорились с Увальнем и Белобрысым, которые доказывали, что заниматься рыбной ловлей могут только они, и поэтому старались встать пораньше и захватить лучшие места, предоставляя своим противникам сетовать на свою судьбу. Впрочем, к вечеру всякие раздоры прекращались и все – кузнец, мельник, скотник и оба паромщика – усаживались, точно родные братья, за новой кухней и «Христовой кровью» старались смягчить скорбь, которую будила в них ограбленная церковь.
Вначале всех их поражала странная ночная жизнь монастыря.
– Кой черт вдруг вселился во фратеров, и как раз сейчас, когда, казалось бы, самое время взяться за ум? – рассуждал Треска.
– Да, брат, словно все перебесились, – поддакивал Косой. – Что бы это значило?
– Думается мне, является им фра Лейка! – сказал Увалень.
– Молчи, скотина; будь так, разве он не явился бы и тебе, как покойный Дышло? – подмигивая кузнецу, возразил Корешок.
– Кто знает, брат? Ведь он поважнее дьякона и, может, не желает дружить с холопами! – вставил скотник.
– Но что за чертовщина с этим Квашней? С ним-то что?
Белобрысый опустил баклагу, отдышался и, как всегда, серьезно заметил:
– Свихнулся малость человек! После такого срама нечего удивляться, ежели человек с его душой заболеет с перепугу. А фра Брне все же человек душевный.
– Знаем его душевность! Обирала! Процентщик! Во всех наших приходах не найдется и одного мало-мальски зажиточного крестьянина, который бы не задолжал ему сто, двести, и даже триста талеров из четырнадцати процентов, – заметил Увалень.
Белобрысый рассердился.
– Верно, это мы знаем, но что ты скажешь о Кузнечном Мехе, о Бураке, о фра Сыче и прочих, которые дерут по двадцати с сотни? И разве наш фра Брне кого-нибудь пустил по миру с торгов, как они? Да в конце концов что нам до того; ты только ответь мне: разве для нас фра Брне не душевный? Измывается ли он над нами, как измывался этот осатанелый Вертихвост в тот день, когда остался за настоятеля?
– Что правда, то правда! – подтвердили все. – Дай бог здоровья фра Брне.
– Останься этот бешеный за настоятеля, он всю душу бы нам вытряс, – продолжал Белобрысый. – Вставал бы, брат, ни свет ни заря и копался, как муравей… Кто другой подумает – чудо какое! Но мы-то знаем, каков он был в молодости! Всласть покуролесил, ничего не жалел, все на баб ушло! Вот теперь и нет его беднее в монастыре. Да, он уж накопил бы для святого Франциска! Накопил… как моя покойная бабушка! Показывал бы счета, где положено, а сам набивал бы себе карманы. Ведь известно, каково под старость-то без гроша!
– Все знали об этом, и провинциал, и прочие фратеры, потому его и не избрали, – сказал кузнец. – Не беспокойтесь, ему никогда не стать настоятелем. Если Квашня и протянет ноги (не дай бог, конечно), то его сменит или Тетка, или фра Томе.
Вот какие беседы велись на посиделках. Как видно, особых причин завидовать Косому у них не было. Однажды, когда о нем зашла речь, скотник сказал:
– Боюсь, как бы этот козел нас не выследил!
– Кто выследит? – крикнул Увалень. – Косой, этот подожми хвост, этот трусливый заяц? Плевать я на него хотел! Ни за что бы не стал делать того, что он делает!..
– Что же он делает? – спросил скотник.
– Сводничает, вот что! Зачем же он каждый день таскается с Сердаром на ту сторону? – И Увалень запел плясовую:
Хоть немного и толста,
Все же Ела хороша,
Полюбовницей она
У Сердара-молодца…
– Тихо! – крикнул мельник.
– Чего там «тихо»? Кого мне бояться!
– Жбана! – шепнул кто-то.
– Все еще издеваетесь над Тодорином! – отозвался Увалень. – Клянусь пресвятой девой и ее младенцем, я бы его не поминал! Я мучил и дурачил его меньше любого из вас и все же боюсь, как бы не пришлось за это дорого расплачиваться, а вам тем более! Вы думаете, что Тодорин не отомстит?
– Тише! Тише! – закричали все, цепенея от страха. Кое-кто даже оглянулся, словно Жбан мог вдруг оказаться за спиной. Увальню захотелось еще больше их припугнуть, и он продолжил:
– Отомстит Тодорин, клянусь святым Франциском, которому он выколол глаз!.. А Тодорин-то, Тодорин, которого мы прозвали Жбаном, тот самый, что всякую минуту переспрашивал: «Я, что ли? Я?» – ну ладно, нас обманул, неучей, но как он натянул нос монахам! Вот что значит православный… Видите, я никогда не говорю «ркач», а всегда по-хорошему: православный; два сосуда, а бог один, они наши братья!
– Не по-товарищески с твоей стороны так говорить, – заискивающе начал Треска (словно и в самом деле его слушал Жбан). – Правда, мы балагурили с ним, шутили, потому что полагали его глуповатым, но зла ему не желали и не причинили, боже избави! И у меня нет никакой ненависти к Жбану!
И заречные как-то отбились от церкви. Правда, кое-кто приходил в келью к настоятелю, но уходил объятый смущением. Как только кто-нибудь появлялся, Брне тотчас отсылал племянника.
Так, без особых перемен, текли дни за днями. Боли у фра Брне не повторялись, хотя ноги по-прежнему отекали и по ночам мучила бессонница.
Однажды, когда он приказал племяннику продекламировать циркуляр, юноша, почесывая затылок, попросил:
– Если разрешите, синьор, я вам прочту наизусть что-нибудь другое.
– Та-ак! А что же? – спросил фра, изрядно удивленный.
– Да я много знаю. Житие святого Григория знаю.
– Та-а-ак! Неужто все целиком?
– Все как есть, если не перебьете, – сказал Баконя и, не мешкая далее, зажмурился, скрестил руки и затараторил: – «Блаженный Григорий бысть поставлен патриархом святой церкви римской, а прежде патриаршества бе черноризец в монастыри святого апостола Андрия…»
Так читал он нараспев с полчаса, делая паузы только для того, чтобы передохнуть. Брне похвалил его и принялся разыскивать что-то в своих рукописях, а Баконя, воодушевившись, прочел еще несколько отрывков из жития, потом выпалил штук двадцать латинских фраз, переводя их на свой лад, примерно так:
– Душа бессмертна, тело. Смертно ягненок идет. Птица летит стол. Круглый, а дом…
– Ладно, хорошо! – прервал его Брне и протянул ему пожелтелый листок. Баконя пробежал его глазами и сказал:
– Я давно знаю на память этот псалом. Меня научил вра Захария.
– Не говори ты «вра»! Сколько раз тебе повторять? Ведь ты уже не деревенщина!.. А научил ли тебя фра Захария петь этот псалом, а?
– Я знаю, что это ваш и что вообще у вас много псалмов; дядя Шакал знает кое-какие, только перевирает…
– Ладно, ладно, ну-ка, послушаем, раз ты знаешь!
Баконя опять зажмурился, скрестил руки и затянул:
О Иисусе, надежда людей,
Не отвергай души моей!
Ведь душа моя умерла бы
Без тебя, моей услады!
Ты утеха всех нас в тоске,
Ты словно солнце во тьме…
Внимайте же, братья, отцы,
Пресвятой нашей церкви столпы…
– Стой! Видишь, и не знаешь! Последние два стиха из «Страстей господних». Впрочем, все равно! Слушай, я прочту тебе новый мой псалом – о несчастье, постигшем нас, а ты выучишь его наизусть! – И Брне принялся читать свое новое сочинение, которое содержало несколько сот строф и начиналось так:
Всемогущий нас бог покарал
И свободу проклятому дьяволу дал,
И в личине Жбана-грабителя
Тот проник в святую обитель…
А заканчивалось так:
Месть, Тодорин, близка, трепещи!
От святого Франциска тебе не уйти!..
Таким образом, Баконя снискал еще большее благоволение дяди, но черт его дернул рассказать фра Тетке об их ночных развлечениях. А Тетка задумал подшутить над Брне и, сочинив несколько латинских стихов, заставил Баконю их выучить.
– Если разрешите, синьор, я знаю кое-что новое.
– Та-а-ак! – опустившись в просторное кресло у стола, сказал Брне. – Ну-ка, послушаем, если что интересное!
Баконя опустил глаза и, подняв указательный палец и рассекая им воздух, начал:
Si vis incolumen, si vis te reddere sanum
Curas tolle graves: irasci crede profanum,
Parce mero, coenato parum: non sit tibi vanum
Surgere post epulas: somnum fuge meridianum…
С первых же слов Брне вытаращил глаза, медленно поднялся с кресла и, тихонько подойдя к Баконе, влепил ему такую затрещину, что у юноши голова откинулась к плечу.
– Ослиное отродье! – приглушенно зарычал он. – Как ты посмел… позволить себе!
– Что я сделал? – спросил Баконя, отступая. – Разве здесь какие нехорошие слова? Это фра Думе…
– Как раз за это я с тобой и рассчитаюсь! – в бешенстве продолжал дядя, хватая подвернувшийся под руку кувшин, но Баконя выскочил в коридор и кинулся направо, чтобы не столкнуться с Вертихвостом, который, как обычно, гулял перед своей кельей, но Вертихвост, заметив его, крикнул:
– Ты куда, Еркович? Стой! Что тебе надо в такую пору в кухне?
– Дело у меня! – буркнул Баконя, не останавливаясь, и поднялся в трапезную.
Тетка, Сердар и Кузнечный Мех вышли из келий. Вертихвост, бранясь, пошел было за Баконей, но Сердар и Тетка остановили его. Потом они зашли к настоятелю и застали его почти без сознания.
Навозник, по обыкновению, разгуливал по длинной трапезной. Убрав кувшин с вином, он отпер дверь, но при виде бледного Бакони испуганно отпрянул назад.
– Что случилось? Уж не с дядей что? Не умер ли?
– Для меня умер, – ответил Баконя, повалившись на скамью. – Не могу с ним больше. Лучше в омут!
Прежде чем повару удалось узнать, в чем дело, вошел Сердар и начал ласково уговаривать Баконю:
– Вернись, Иве, вернись, дитя мое!.. Дядя все же дядя, если и накажет, то ради твоего же блага!
– Хорошо благо! Ни за что ни про что получать затрещины, да еще слова не вымолвит, не обозвав ослом! Я дошел до того, фра Яков, что готов руки на себя наложить. Вот уже четыре года, как я верой и правдой ему служу! А в награду одни только муки! Разве я виноват, что ему не спится по ночам, виноват, что у него отекли ноги? Нет, не могу я больше, лучше уйду в другой монастырь, а не примут, буду искать работу. Хоть в конюхи, если на то пошло!
– Куда уходить, в какие конюхи! Что ты плетешь! – сказал Сердар, уводя его из трапезной. – Не для того вовсе ты рожден, тебе быть священником и приказывать другим… Доброй ночи, Грго! Пойдем, пойдем!
Когда они спустились с лестницы, Сердар обнял его за плечо и зашептал:
– Глупый мальчишка, подумай только об одном… Разве ты не понимаешь, что твоему дяде жить осталось недолго, что не сегодня завтра и на твоей улице будет праздник… Понимаешь, что я хочу сказать?
– А разве все его добро не принадлежит монастырю? – спросил Баконя.
– Сущий младенец! – сказал Сердар растроганно, видя, до чего наивен Баконя. – Сущий младенец! – повторил он и потрепал его по щеке. – Я вовсе и не думаю, что ты обокрадешь дядю, боже сохрани, но он сам тебе завещает деньги как своему родственнику, так все делают! И ему покойный фра Вице оставил несколько сот талеров, и мне мой дядя кое-что оставил, так все поступают. Итак, Иве, будь умницей! Запомни: «Кто дыма не наглотается, у костра не согреется!» Терпи, выполняй его капризы еще немного, а потом все будет хорошо. А сейчас пойдем, мы и так слишком задержались.
Миновав двор, они очутились у другой лестницы. Баконя остановился.
– Прошу вас, фра Яков, переведите мне одни латинские стихи.
– Какие латинские стихи? – спросил Сердар удивленно. – Что тебе взбрело в голову?
– Да так, есть один… Я не найду покоя, пока их не пойму!.. Я вас прошу, очень, фра Яков. Они короткие…
– Хорошо, читай, послушаю, – прервал его Сердар, по-прежнему удивленный, и, поморщившись, приоткрыл рот: он был слабым латинистом. Баконя раздельно прочитал первые две строфы, а на третьей запнулся. Несколько мгновений Сердар стоял неподвижно, закатив глаза, и вдруг разразился таким громоподобным хохотом, что раскаты его, наверно, долетели до черной кухни.
– Ха-ха-ха-ха… parce mero… coenato parum… curas tolle graves… – повторял Сердар между приступами хохота.
Фра Тетка сбежал с лестницы.
– Довольно, ради мук Христа, довольно, фра Яков. Что ты делаешь? Хочешь человека убить?.. А ты (он обернулся к Баконе) не мог не разболтать всем?
– Я ничего не говорил, – ответил Баконя насупившись. – Я только хотел знать те бранные слова, из-за которых…
– Молчи, молчи, говори тише! – сказал Тетка, которому показалось, что у Брне скрипнула дверь. – Пойдем наверх… Это совсем не бранные слова. Не такой я человек!
– Я хочу их знать! – уперся на своем Баконя.
– Хорошо, я их переведу, – сказал Тетка, поднимаясь по лестнице. – «Если хочешь быть здоровым, если хочешь выздороветь, откинь тяжелые заботы, не раздражайся!» Видишь, что здесь плохого? И затем: «Пей вино лишь в меру, ужинай легко, гуляй после еды, не спи после обеда…»
– Что за вздор, фра Думе, объясни, ради Христа? – спросил Сердар. – Либо я рехнулся, либо с вами что-то неладное!
Думе быстро сказал что-то по-итальянски и повел Баконю в келью. Фра лежал в постели и стонал. Тетка, повертевшись немного, ушел.
И тогда Брне пустился причитать:
– Будь проклят день, когда я родился, как сказал праведный Иов. Проклят человек, поверивший человеку, как опять же сказал праведный Иов. Тяжко тому, кто творит добро, как говорит народ. Значит, ты готов уже весь монастырь всполошить, если я тебя в чем упрекнул? Так-то, значит, ты мне воздаешь за мои благодеяния! Такова-то, значит, твоя благодарность за то, что я соскреб с тебя вшей, старался сделать из тебя человека!.. Ах, Юрета, Юрета, вылитый дед Юрета, несчастное дитя, Юрета, который обокрал Зврлево и всю округу и которого гноили пять лет в тюрьме… Ах, Юрета, укрой мне ноги, подоткни хорошенько одеяло за спину, а на живот положи еще рядно, несчастное дитя, а завтра получишь, что полагается.
И черт принес Космача именно завтра!
Фра Брне сидел после обильного завтрака на веранде, мрачный, как туча, как вдруг появился староста Космач с палкой в руке и торбой за плечом. Едва взойдя по ступенькам на галерею, он заулыбался.
– Хвала Иисусу, вра Брне! С добрым утром! Как здоровье?
– Откуда ты так рано? – спросил фратер, надувая щеки.
– Еще с вечера вышел. Как говорится, по ночному холодку, днем-то жарко…
– Ладно, ладно, а зачем пожаловал, а?
Космач смутился от такой встречи.
– Накажи меня бог, только чтоб проведать тебя и сына. Барице дурной сон привиделся…
– Та-а-ак? Ну что ж, меня ты уже проведал, проведай сына и ступай откуда пришел. – Брне возвратился в келью и заперся.
У старосты задергались усы. Он огляделся по сторонам, не слыхал ли кто нанесенного ему оскорбления. К счастью, никого кругом не оказалось. Прижав губы к замочной скважине и оградив рот ладонями, Космач прошептал:
– Дорогой мой вра Брне, нынче ты не в духе, я не знал, прости, пожалуйста, но…
– Иди к черту! – прервал его изнутри Брне. – Убирайся сейчас же, если хочешь мне еще когда-нибудь показаться на глаза! Уходи!
– Хорошо, хорошо, как прикажешь! Иду сейчас же, мигом ухожу! Тебя да не послушать, а? До свидания!
Космач зашагал в другую сторону. Дойдя до трапезной и увидев настежь распахнутую дверь, он вошел в нее и с порога кухни произнес:
– Хвала Иисусу, синьор Грго! С добрым утром!
Навозник, чистивший рыбу, глянул одним глазом на незваного гостя и сухо ответил:
– Слава Иисусу и Марии ныне и во веки веков… Ступай, брат, к настоятелю!
Терпение старосты лопнуло.
– Я, милый, не просить о чем-нибудь пришел, а проведать сына!.. Где он сейчас?
– Ступай, брат, к настоятелю! – повторил Грго и повернулся к нему спиной.
У Космача защемило сердце; решив, что с Баконей стряслась беда, он кинулся обратно, обежал галерею, заглянул в церковь и, не найдя нигде живой души, крикнул со всей мочи своих легких:
– Эй, Иве Ер-ко-ви-и-и-и-ич!
Одна за другой распахнулись двери келий.
– Что случилось?.. Кто кричит?.. Чего орешь, эй? – спросил Вертихвост.
– Носит тебя черт, осел эдакий! – крикнул Брне. – Чего ревешь? Пошел вон, ослиное отродье!
– Спасибо вам, настоятель, что назвали брата настоящим именем! – съязвил Вертихвост.
Сердар, весь взъерошенный, двинулся на Вертихвоста. Тетка бросился их разнимать. Квашня, Бурак и Кузнечный Мех притворили за собой двери. Баконя, скрежеща зубами, сбежал вниз и повел отца со двора.
– Не хватает еще тебе раздувать ссору! Почему не послал за мною слугу?
– Скажи мне перво-наперво, что тут опять творится? Что с дядей? Что с другими фратерами? И что с тобой, мой бедный мальчик? Отощал совсем, словно целый год болел!
– Беда, отец! С виду будто все в порядке, а на самом деле беда, большая беда. С некоторых пор все пошло кувырком. Все друг на друга косятся, точно отравы боятся. Упаси бог! Просто невмоготу, впору бежать да и только.
– Не глупи, несчастное дитя! – стал убеждать сына умный староста, озираясь по сторонам. – Как раз и смотри теперь в оба, ты… Сейчас все тебе растолкую. Уйдем-ка подальше! Подальше отсюда!
Они направились в рощицу и уселись в тени, неподалеку от переправы.
– Значит, и у вас новости, если говоришь: «сейчас все растолкую»? Уж не беда ли какая?
Староста повертел головой и шумно вздохнул.
– Беды нет, слава господу и пресвятой деве, но… Впрочем, начну по порядку! Так вот зачем я пришел: известно ли тебе, что дядя собирает долги у всех, всех, кто только ему должен? Знаешь? – спросил Космач, глядя прямо в глаза сыну.
– Нет! – небрежно кинул Баконя. – Ну и что же?
– Как «ну и что же»? – возмутился староста. – Да ты понимаешь, что к рождеству богородицы в келье соберется уймища денег? Вра к этому сроку требует возврата долгов с процентами. К примеру, в одном нашем селе Рёвы должны ему около двухсот талеров. Стонут люди, но что поделаешь! Хоть лопни, а отдавать надо, иначе грозится в суд подать; а там еще и за издержки взыщут! Всем судом грозит! Но зачем он это делает? Может, близкую смерть чует? Вот и Барица дурной сон видела…
– Ей-богу, оставь сны в покое и говори прямо: что тебе надо?
– Так вот что: нынче осенью у дяди скопится великое богатство, и… того… как бы оно не попало в чужие руки…
– Отец! – крикнул, бледнея, Баконя.
У старосты снова задергались усы, он кинул недоумевающий взгляд на сына и продолжал:
– Я говорю: гляди в оба, примечай, куда дядя положит деньги, потому что навряд ли он будет держать их у себя. – И, широко улыбнувшись, прошептал: – А ты уже решил, что я тебя подговариваю на…
Баконя оглянулся.
– Клянусь пресвятой девой, и об этом следовало бы словечком перекинуться…
– Никаких словечек, иди-ка ты домой! – сказал Баконя, поднимаясь.
– Да погоди ты, несчастное дитя, неужто и ты от меня отступишься? Разве нельзя уж и пошутить с тобой? Как это: «Иди домой, ступай откуда пришел!» Словно вас человек глазами съест! И в конце концов монастырь принадлежит общине, наши предки его воздвигали, и вы не имеете права гнать отсюда людей.
– Да кто это «вы»? – спросил Баконя.
– Все вы! Первый Квашня, не ответивший мне даже на «Иисуса», потом Навозник, прогнавший меня из кухни; и вот ты сейчас, родное мое детище… Нечего сказать, обрадую я Барицу и твою сестрицу Косую, что выходит замуж…
– Что? Антица выходит замуж? За кого? Почему сразу не сказал? – спросил Баконя, снова усаживаясь.
– Да вот, мир им да лад, посватал ее старший Юричев…
– Шимета, да? Шимета Скопец? – прервал его Баконя. – Ну, клянусь богом, славный и красивый парень. Очень рад!
– Какая уж красота, какая радость, ежели не на что свадьбу справить! Без двадцати талеров никак не обойдешься, не считая хозяйского добра. Потому, милый, и пришел! Надеялся, даст Брне. Просто ума не приложу, что теперь делать! Зайду-ка я к нему после обеда… может, подобреет, как выспится!.. Жалко, что не послушал Барицу! Она посылала меня еще до обручения! «Ступай, говорит, сейчас же к Иве! Надо, чтобы Ива знал об этом раньше! Он послушник, значит, поважнее нас всех, и следовало бы у него первого испросить согласие!» Вот, сынок, какую тебе новость принес!
Баконя задумался. Как все на свете быстро меняется! Косая выходит замуж за Скопца; правда, Шимета на семь лет старше его, но сколько раз он, Баконя, гонялся за ним с камнями! Не успеешь оглянуться, как появятся маленькие Юричевы, которые будут называть его «дядей» и целовать конец веревочного пояса, когда он приедет в Зврлево! А мать, что хотела спросить у него согласия на брак Косой со Скопцом! Бедная, добрая мама! Правда, так не сделали, но разве это все не говорит, что она уже не считает его ребенком, которому можно давать затрещины? Потом, глядишь, выйдет замуж Чернушка, женится Заморыш, подрастет Пузан… а там и вся зврлевская мелюзга повзрослеет, а старшие улягутся в могилу! Представив себе мать, седую, сгорбленную, беззубую, Баконя загрустил и глубоко вздохнул…





