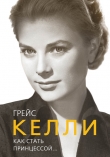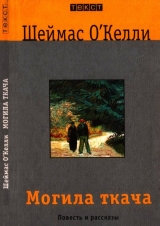
Текст книги "Могила ткача"
Автор книги: Шеймас О’Келли
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Annotation
В сборник одного из самых знаменитых ирландских писателей минувшего века Шеймаса О’Келли (1880–1918) вошли повесть «Могила ткача», грустная и удивительно оптимистическая история зарождения любви, разыгрывающаяся на фоне старого заброшенного кладбища, а также его лучшие рассказы. К героям О’Келли судьба редко благоволит, но даже в самые трудные моменты жизни они сохраняют чувство собственного достоинства и способность любить.
Произведения Шеймаса О’Келли на русском языке издаются впервые.
Шеймас О’Келли
Коротко об авторе
Могила ткача
РАССКАЗЫ
Майкл и Мэри
Хайк и Калькутта
Дом Нэн Хоган
Талант
notes
1
2
3
4
Шеймас О’Келли
Коротко об авторе
Шеймас О’Келли прожил совсем немного – всего тридцать восемь лет, но успел сделать в литературе столько и так, что имя его по праву стоит в ряду самых ярких писателей Ирландии.
О’Келли родился в 1880 году в Лафри, графство Голуэй, в довольно зажиточной семье. Шеймас рано почувствовал желание заниматься литературным трудом. Уже в двадцать лет он стал редактором – самым молодым в истории ирландской журналистики – небольшой провинциальной газеты «Саутерн стар», выходившей в Скибберене.
В 1905 году Артур Гриффит основал и возглавил партию Шин фейн, выступавшую за политическую и экономическую самостоятельность Ирландии, и молодой и весьма патриотически настроенный Шеймас становится членом этой партии. В 1906 году он переезжает в Наас и руководит газетой «Лейнистер лидер», а в 1912–1915 годах живет в Дублине, работая в газете «Сетердей ивнинг пост». Уже в эти годы его мучают ревматические атаки. Сильные сердечные и суставные боли заставляют О’Келли оставить службу. Он снимает дом, где живет с известным ирландским поэтом Шеймасом О’Салливаном.
Впоследствии О’Салливан с большим теплом вспоминал о своем друге: «Шеймас был из тех редких людей, которые излучают вокруг себя дружелюбие и спокойствие, рядом с ними чувствуешь себя защищенным, уходят прочь заботы и печали; они лечат израненные души одним только своим присутствием. Если в нашей компании оказывался Шеймас, ругань и ссоры были исключены. Под изяществом и благородством его манер скрывалась сильная личность, которая проявлялась тогда, когда это было необходимо…»
Шеймас много работает, пишет пьесы (среди них «Невеста», «Ребенок Шатлера» и другие, они идут на сцене театра Аббей с большим успехом), чудесные рассказы и повести, среди которых парадоксальная, мудрая, смешная и добрая притча «Могила ткача», трогательная история о зарождении любви, разыгрывающаяся на фоне старого кладбища.
В те годы патриотически настроенные литераторы группировались вокруг Артура Гриффита и его газеты «Нэшинелити». В 1916 году после большого восстания, в котором приняли участие многие замечательные поэты и писатели Ирландии, Гриффит был арестован. Но газета борцов за ирландскую независимость, должна выходить несмотря ни на что, и Шеймас О’Келли встает на место заключенного в тюрьму друга: теперь он – главный редактор «Нэшинелити».
В 1918 году Шеймас как обычно работал в своем офисе. Вдруг в редакцию ворвались солдаты, громя все, что попадалось им на пути. Свидетели случившегося рассказывали, как слабый, больной О’Келли пытался тростью защитить себя и печатные прессы. После разбоя друзья нашли Шеймаса в ужасном состоянии, почти бездыханного. Он так и не смог оправиться.
Активисты Шин фейна объявили Шеймаса героем, павшим в борьбе за независимость Ирландии. Они устроили ему пышные похороны, которые стали событием в жизни Дублина. Судьба Келли превратилась в легенду.
В России Шеймас О’Келли практически не известен. Но теперь и у российского читателя есть возможность познакомиться с этим своеобразным и ярким ирландским писателем.
* * *
«Могила ткача» – признанный шедевр, одна из лучших литературных сказок XX века.
Словарь ирландской литературы
Могила ткача
(Повесть)
I
Умер ткач Мортимер Хехир, и его сверстники пришли на кладбище Клун-на-Морав, или Поле Мертвых. Первым спустился со ступенек на каменной ограде гвоздильщик Михол Лински. На его лице явственно проступало волнение. Длинная согнутая фигура одолевала путь, дергаясь и виляя. Следом за ним появился камнедробильщик Кахир Бауз, которого будто сломали пополам, отчего верхняя половина его тела была параллельна земле, как у зверя. В правой руке он держал палку, на которую опирался при каждом шаге, а левую закладывал за спину, сжимая в кулаке сюртук на пояснице, и таким образом ему удавалось не перекувыркиваться через голову при ходьбе. Мать-земля, как магнитом, притягивала к себе Кахира Бауза, а Кахир Бауз как мог оттягивал момент последнего поцелуя. В то мгновение, когда он оторвался от привычного созерцания дорог и тропинок, его лицо оживилось. У обоих стариков был такой вид, будто им неожиданно повезло оказаться на воле. Долгое время они прозябали на задворках жизни, и миру не было до них никакого дела, а тут вдруг о них вспомнили, да еще позвали совершить службу, какую на всей земле никто другой совершить не мог. Волнение на лицах стариков, когда они поднимались и спускались по ступенькам, переходя через оградительную стену в Клун-на-Морав, отражало внутреннее нетерпение, с каким они относились к запоздалому спросу на себя. Не заставили себя ждать и двое темноволосых, красивых, крепко сбитых мужчин, одинаковых вплоть до веревок, которыми они подвязывали под коленями свои вельветовые штаны, а так как оба были могильщиками, то в руках они несли сверкающие лопаты. После некоторого перерыва на перилах показалась белая рука, а потом на лестнице появилась темная фигура женщины, чье бледное печальное лицо с трагической живописностью обрамляла черная шаль, накинутая на голову. Вдова ткача Мортимера Хехира, ибо это была она, последовала за мужчинами на Клун-на-Морав, на Поле Мертвых.
Стоило взглянуть на Клун-на-Морав сверху, проходя по горной тропинке, и сразу становилось ясно, что это очень старое кладбище; стоило постоять на тропинке и поглядеть на Клун-на-Морав подольше, и появлялось ощущение покоя, слышалось пение горных ветров, оплакивавших мертвых; стоило встать на стену-ограду и увидеть могильные холмы вблизи, как в голове начинали звучать строки из «Элегии» Грея; стоило перекреститься и посмотреть на мрачную стену, заросшую лишайником, повнимательнее присмотреться к надгробиям, разбегающимся во все стороны, словно желтые змейки, и сразу же вспоминался Гамлет, морализирующий на краю могилы Офелии и рассуждающий о Йорике. Стоило войти внутрь и побродить между могилами, как все это исчезало и уже не было ничего, кроме самого кладбища Клун-на-Морав. Не зная, сколько ему лет или веков, люди волей-неволей погружались в мифологию, перебирали в уме языческие древности тех времен, когда христианство было еще беззубым младенцем. Сколько же поколений, сколько кланов, сколько родов, сколько семейств, сколько людей ушли на Клун-на-Морав? Разуму под силу осознать лишь романтику здешней математики. Земля тут неровная, не такая, как везде. Ее вид определяют отчасти подавляемые мятежные возмущения внутри – постоянная жажда движений, толчки, возня. Высокая жесткая трава оплела Клун-на-Морав из конца в конец. Таким образом природа пытается контролировать более дерзких бунтовщиков. На Клун-на-Морав нет тропинок; нет ни плана, ни карты, ни какой-либо регистрации могил. Будь хоть что-нибудь, от кладбища уже давно бы ничего не осталось. Вражеские нашествия, войны, голод, междоусобицы не обошли здешние места стороной, но не тронули кладбища. Всякое погребение тут было обосновано могучими традициями. Но несколько лет назад от традиций ничего не осталось – разве что в особых случаях, когда речь шла об уходящем поколении. То ли старое кладбище стало тесным, то ли еще по каким-то причинам, примерно в миле от него возникло новое кладбище, где, как грибы, вырастали известняковые надгробия и кельтские кресты, рекламируя незначительность цивилизации тех мужчин и женщин, которые, судя по эпитафиям, сделали в своей жизни две вещи, будучи, в общем-то, не в силах этого избежать: они родились и они умерли. Иногда к датам, вроде бы в оправдание, прибавляли ничего не объясняющую цитату из Священного Писания. Остававшиеся в живых едва ли не единодушно отпускали Богу вину за то, что случилось с ушедшими. Подобного и в помине не было на Клун-на-Морав, где оставалось сравнительно небольшое количество памятников, но те из них, которых не поглотило время, не нарушали общую атмосферу. Ни одна из надписей не сохранилась в целости и сохранности, они были частично или полностью поглощены временем. Памятники же, до сих пор выдерживавшие нелегкую битву за существование, не оставляли трогательных и тщетных потуг сохранить себя. Из-за притязаний давно почивших модников хотелось плакать. Ну кому пришла в голову мысль притащить глыбу белого мрамора на Клун-на-Морав? От стыда она позеленела. Наверно, когда-то сверкали золотой краской легко читавшиеся буквы. Но об этом могут рассказать лишь визгливые ветры и лютые дожди с гор. Простые, но тяжелые камни с закругленными краями, вероятно, для ненавязчивого придания им какого-никакого сходства с человеческим обликом, теперь поражали своими фантастическими конфигурациями, словно люди, над которыми их воздвигли, нещадно воевали с ними. Некоторые плиты и вовсе валялись разбитыми, наводя на мысли о Моисее, который, сойдя с горы Синайской, увидел, как его последователи пляшут вокруг ложных богов, после чего бросил каменные таблицы Заветов на землю и разбил их вдребезги, что было самым трагическим уничтожением первого издания, какое только известно человечеству. Зато другие тяжелые квадратные потемневшие надгробия, наверняка создания языческого воображения, лежали плашмя на многочисленных коротких ножках, иногда напоминая скульптурные изображения отвратительных черных тараканов, а иногда – столики, за которыми, когда их никто не мог видеть, посиживали лунными ночами гости Клун-на-Морав, скажем, гоблины. Как правило, от ножек уже почти ничего не осталось, и столики лежали перевернутыми, словно накануне гости поссорились за картами. А те столики, которые сохранили свои ножки, выставляли напоказ глубокие трещины и надломы, подобные черному снегу весной. Возле стены, невидимой за темно-зеленым лишайником, кланы из сумеречных времен, сделав попытку перенять традицию восточных захоронений, выказали аристократическое пренебрежение родной глине на кладбище Клун-на-Морав. Они возвели вдоль мрачной стены низкие, похожие на корзины домики, поставили непомерно тяжелые железные двери с увесистыми цепями, напоминающими цепи на морском пирсе, на которых висел массивный замок – ключ от него был под силу единственно Голиафу, – а потом все это обнесли железной оградой с острыми шипами. В этих хитроумных сооружениях самые аристократические семейства хоронили своих покойников, словно они были дикими и опасными зверьми. Однако сия древняя суетность послужила возвышению местных жителей. Чтобы иметь право на место в кладбищенском сообществе, надо было указать на родственную связь с человеком, покоящимся в запечатанном пространстве. Эпитафией был сам по себе акт похорон на Клун-на-Морав. Поразительно, что оставались всего два человека, имевшие право покоиться на старом кладбище. Одним был накануне упокоившийся ткач Мортимер Хехир, а другим – еще живой бондарь Малахи Рухан. Когда земля Клун-на-Морав возьмет к себе последних представителей великого поколения, поразительная история кладбища, по крайней мере в ее практической части, завершится.
II
Гвоздильщик Михол Лински ссутулил узкие плечи и уставился вдаль, но, хотя глаза у него были маленькие и острые, все же им были непривычны большие пространства. Просторы и богатства Клун-на-Морав сбивали его с толку. Всю свою долгую жизнь он провел, высматривая крохотную точку, чтобы стукнуть по ней. Его любимым был золотистый цвет на раскаленном кончике железной палки. Стоило Михолу Лински увидеть палку, как он захватывал ее кольцом на длинной ручке, выворачивал одним движением запястья, несколько раз ловко ударял по ней молотком и опускал в воду, из которой та выходила безукоризненным и прохладным гвоздем. Делая по нескольку сотен гвоздей шесть дней в неделю да в коротких перерывах раздувая кузнечные мехи, Михол Лински выработал поразительную сноровку глаз и рук и так быстро управлялся с гвоздями, что ни один смертный не мог бы сравниться с ним в этом искусстве, и ровно столько, сколько он сражался с гвоздильщиками в крови и плоти, ровно столько оставался первым среди них, более того, он вступил в великую и неравную схватку с гвоздильными машинами. Как человека, привыкшего концентрировать свое внимание на единственном, светящемся и вполне определенном объекте, его раздражала запутанность и отсутствие порядка на Клун-на-Морав. Однако у него не возникло намерения признаться в этом профессиональном недовольстве камнедробильщику Кахиру Баузу. За преклонные годы, знание кладбища и уживчивый характер смотритель Клун-на-Морав выбрал Михола Лински своим послом, и теперь от него требовалось показать могильщикам-близнецам, сыновьям смотрителя, правильное место могилы, чтобы они вырыли ее и она приняла тело Мортимера Хехира. Никто не знал кладбища и его многочисленных захоронений лучше Михола Лински, тогда как смотритель, не имея официальных документов, был совершенно незнаком с подведомственным ему миром мертвых.
Следом за раскачивающимся на ходу гвоздильщиком шел Кахир Бауз, вздергивая при каждом шаге голову и сверкая острыми, серыми, как камни, которые он каждый день дробил на дорожные нужды, глазами. Кахир не хуже Михола знал Клун-на-Морав, да и некоторые из его родственников были похоронены тут. Ясным взглядом он впивался в насыпи, словно пытаясь проникнуть в глубь земли. Его тоже избрали послом, и ему даже в голову не приходило, что Михол Лински может в чем-то с ним не согласиться, ведь знания гвоздильщика не шли ни в какое сравнение с его знаниями. Едва Кахир Бауз замечал в траве камешек, он, не раздумывая, переворачивал его своей палкой, с профессиональной быстротой оценивая вес камешка, а потом ударял по нему той же палкой, которая, несомненно, попадала в самое уязвимое место, и, будь она молотом, камешек разлетался бы на мелкие кусочки, как стекло. В камнях Кахира Бауза интересовали не поучения, а швы. Даже надгробные камни он многозначительно выстукивал наконечником палки, ибо Кахир Бауз относился к своему искусству со страстью художника, хотя его искусство и не было созидательным. Он принадлежал к великим разрушителям, покорителям, творцам хаоса, могущественным и беспощадным критикам Каменного века.
Два старика бродили по Клун-на-Морав, не торопясь с выполнением своей миссии. В конце концов, оба уже давно не работали, отчего мир отверг и забыл их. Поэтому заново прочувствованная нужность стала для них бесценной. Им не надо было объяснять, что, едва они покончат с похоронами, как до них опять никому не будет дела. Их радовала возможность еще раз угодить человечеству, но и хотелось немножко помурыжить его. Что же до человечества, состоявшего из двух могильщиков и вдовы ткача, то оно понимало это без слов. Медленно, не раздумывая, оно следовало по Клун-на-Морав за двумя стариками. А они, обремененные годами, радовались, как дети. В каком-то месте разойдясь в разные стороны, они молча пошли дальше, здороваясь со старыми знакомыми, спотыкаясь на забытых камнях, соединяя нити миновавших дней, оживляя воспоминания, а потом, вновь сойдясь вместе, заговорили медленно, словно нехотя, об ушедших людях, о тех, кто лежал под землей. Сочувствием согревалась ожившая память, и они называли имена, перекидывались несколькими словами о сложных семейных отношениях, о забавных случаях из жизни, кого-то хвалили за добродетели, кого-то шепотом ругали за пороки, за те самые давние пороки, которые уже и не казались пороками, ведь годы всё смягчают, когда бегут в одной упряжке с самой скромной из всех добродетелей – Жалостью. Громкие скандалы Клун-на-Морав, о которых шептались старики, виделись могильщикам-близнецам и вдове ткача сквозь такую плотную завесу времени, что казались легендами, а не скандалами. Если смотреть на распутника и проститутку издалека, то они всего лишь колоритны. Как положено на кладбище, могильщики опирались на воткнутые в землю лопаты, да и бледная вдова, стоявшая поодаль, была молчаливой, замкнутой, застенчивой и немного загадочной, как все женщины с темными волосами и трагическим взглядом.
Дрожавшей в его руке палкой камнедробильщик показывал на могилы людей, о которых рассказывал. Каждый раз, когда он поднимал палку, остальные инстинктивно, с тревогой или страхом, смотрели на его руку, вцепившуюся в сюртук на спине. У Кахира Бауза было такое физическое сложение, что все вокруг постоянно боялись, как бы он не потерял равновесие. Дышавший с натугой, подобно его приятелю-камнедробильщику, гвоздильщик делал короткие и резкие жесты, и только правой рукой, при этом пальцы у него были скрючены, и выбрасывал он их так, что казалось, будто в них зажат молот, который взлетает и опускается в ярко пылающий огонь. Каждый раз, когда Михол Лински поднимал руку, все ждали, что вот-вот во все стороны разлетятся искры.
– Ну, и где нам копать? – не выдержав, спросил один из могильщиков.
Оба старика повернулись к наглецу, посмевшему прервать их беседу. Они переводили сосредоточенные и, уж точно, опасливые взгляды с одного близнеца на другого, так как не знали, кто из них кто, возможно, побаивались обмана зрения, а то и хитрости, которой молодые парни сбивали их с толку.
– Ну, и где нам копать могилу? – повторил вопрос второй могильщик, и лица стариков исказились еще сильнее. Они пытались определить и запомнить, какой из близнецов заговорил первым и какой – вторым. Подчиняясь профессиональной привычке, Михол Лински уставился на одного из братьев, тогда как Кахир Бауз держал в поле зрения обоих, а еще пытался не упускать из виду стоявшую в отдалении вдову, молча обвиняя ее в дерзости, да еще в таком деле, в котором спешить неприлично.
– Не можем же мы стоять тут вечно, – сказал первый близнец.
Это был тот парень, с которого Михол Лински не сводил взгляда, и теперь, убежденный, что не обидит невинного, он нанес удар.
– Тут много людей, не тебе чета, – сказал Михол Лински, – и им лежать на Клун-на-Морав, пока не наступит конец света.
Он обвел кладбище скрюченными пальцами правой руки.
– Тем, кто будет лежать на Клун-на-Морав до конца света, – подхватил, хрипя, Кахир Бауз, – нечего стыдиться… Им нечего стыдиться. Запомните это, молодой человек.
Михолу Лински пришлось не по душе то, что Кахир Бауз прервал его, решив прийти ему на помощь. Ему как будто указали, будто он – это он-то! – промазал, забивая гвоздь.
– Да ладно вам. Где же все-таки копать могилу для ткача? – спросил близнец, пытаясь извлечь выгоду из досады гвоздильщика – гвоздильщика, которому указали на то, что он не попал по гвоздю.
– Вы будете копать там, где похоронены все его родичи, – ответил Михол Лински.
– Для этого мы как будто и пришли сюда, – вмешался другой близнец. Подражая старикам, он произносил слова медленно. Сначала его красивое лицо разгладилось, а потом вокруг глаз прорезались морщинки-смешинки, и когда взгляд Михола Лински, дернувшись, застыл на красивом смуглом лице этого второго из близнецов, то и у него лицо сначала разгладилось, а потом вокруг глаз прорезались морщинки-смешинки, отчего у Михола Лински возникла беспокойная мысль, а не нарочно ли сбивают его с толку юные могильщики?
– Вы выкопаете могилу… – произнес он с некоторой горячностью и опять подивился тому, как Кахир Бауз перехватил его слова, словно вырвал молот из рук.
– …там, где мы скажем, – закончил фразу Кахир Бауз.
До того неприятно стало Михолу Лински, что он покачнулся и всем своим длинным кособоким телом дернулся в сторону, однако тотчас остановился. Он решил совершить злое дело. Он решил совершить такое злое дело, какое было похуже, чем выбить костыль у несчастного калеки, и могло сравниться разве что с воровством святой воды из комнаты умирающего. Незамедлительным и подлым раскрытием могильной тайны ткача он решил и Кахира Бауза и себя лишить радости последнего дня пребывания на земле Клун-на-Морав!
– Вот это место, – сказал Михол Лински, повернувшись к остальным. – Здесь и копайте.
Все двинулись к указанному месту, и первым – с поразительной живостью – Кахир Бауз, стуча своей мерзкой палкой по попадавшим под нее камешкам.
– Между этими двумя могилами, – сказал Михол Лински, и могильщики мгновенно и грозно подняли одинаковые лопаты, словно всадники на учениях – сверкающие мечи. – Между этими двумя могилами, – вновь поднял голос Михол Лински, – и есть могила Мортимера Хехира.
– Стойте! – закричал Кахир Бауз. Он впал в ярость, он был вне себя и даже ударил палкой по спине одного из могильщиков, после чего оба развернулись к нему, словно один удар причинил боль обоим.
– Эй, потише, – сказал первый могильщик.
– Эй, потише, – сказал второй могильщик.
– Сами потише, – крикнул Кахир Бауз и обратил подрагивавшее лицо к Михолу Лински. – Что это ты говоришь насчет двух могил?
– Я говорю, – даже не стараясь сдерживать гнев, отозвался Михол Лински, – что здесь могила ткача.
– Какого ткача?
– Мортимера Хехира, – ответил Михол Лински. – У нас нет другого ткача.
– Джулия Рафферти разве ткачиха?
– Какая Джулия Рафферти?
– Повивальная бабка, упокой, Господи, ее душу.
– Какая же она ткачиха, если она повивальная бабка?
– Откуда мне знать? Но я скажу тебе то, что знаю и знал всегда: здесь похоронена Джулия Рафферти, а никакой не ткач.
– А я говорю тебе, это могила ткача.
– А я говорю тебе, никакая это не могила ткача.
– Пусть меня возьмет смерть, как она взяла моего отца, но ткач похоронен тут.
– Ни один ткач не был похоронен тут, сколько ткачи живут на нашем свете. Здесь сплошь Рафферти.
– Нет, эта могила кишмя кишит ткачами.
– Вы только послушайте его, кишит мертвыми ткачами.
– Их тут не счесть – что верно, то верно.
– Да Мортимер Хехир приготовил для себя чистенькую могилку, хотя ни разу не похвастался ею, – глубокую, сухую, славную и уж точно пустую. Да тебе пришлось ли видеть могилу его отца?
– Пришлось, честное слово, видел я его могилу… сорок лет назад, день в день.
– Сорок лет назад… Шестнадцатого мая будет уж пятьдесят один год. Еще бы мне не помнить, ведь у меня и зацепка есть, потому что на другой день я сбежал в солдаты, а тетка бегом за мной, да и выкупила меня через неделю, это меня-то, когда я мечтал о большом будущем.
– Оставь в покое солдат и свою тетку тоже, мы тут ради ткача. Вот место, где был похоронен последний ткач, и я больше тебе скажу. По прямой линии отсюда…
– Ага, еще и прямая линия! На Клун-на-Морав, кроме тебя, Михол Лински, никому и в голову не придет говорить о прямой линии. Такой здесь никогда не бывало и не должно быть.
– По прямой линии, отмеренной по правилам…
– По прямой линии, отмеренной кривыми ногами, да еще спотыкающимися, да еще когда нога за ногу заходит от выпитого…
– Ты можешь меня выслушать?
– Никогда у меня не получалось выслушивать тех, кто несет околесицу. Кому-кому, но только не тебе говорить о прямых линиях, когда ни одна картинка не задерживается в твоей голове из-за тучи искр, летающих у тебя перед глазами.
– При чем тут искры и картинки, когда по прямой от могилы ткача была могила Кэссиди.
– Каких еще Кэссиди?
– Да тех, что пасли скотину для О’Ши.
– Каких таких О’Ши?
– О’Ши Руадх из Каппакелли. Хоть кого-то ты знаешь или у тебя совсем память отшибло?
– Хватит о Каппакелли! Кому интересно слушать о Руадхе О’Ши, о нем самом и его потомках, о его детях и родичах? Проклятые, награбили себе земель!
– Вот это точно. А уж как им не терпелось наложить свои рыжие лапы на этот кусочек травы и тот кусочек луга.
– Да им все подавай, что луг, что болото.
– А вот Мортимер Хехир был честным ткачом, к его рукам ни шерстинки чужой не прилипло.
– Лоб у него светился честностью и во дворе, и над станком.
– Вот только поругаться любил, когда выходил со своей трубкой на порог.
– А теперь будет лежать рядом с Руадхом О’Ши.
– И что Руадх О’Ши получил в конце концов?
– Я скажу тебе. Он получил столько земли, сколько хватило бы и слепому скрипачу.
– Ровно столько, чтобы засыпать макушку и пятки! А ты говоришь!
– Черта с два ему удастся выдавить из себя хоть слово. Все они тут молчат, на Клун-на-Морав.
– Ничего не стоит обсуждать нас, когда мы упакованы в деревянные ящики.
– Вот и ткача закопают, прыснув ему в лицо святой водой.
– И Джулию Рафферти тоже закопали, прочитав над ней молитвы, а ведь не было в ее времена женщины красивей, здоровей и веселей, да и повитуха она была искусная.
– Какой бы она ни была, да хоть трижды искусная, а нет ее тут, это я говорю!
– Полагаю, ты хочешь, чтобы я вытащил ее из земли и показал тебе?
– Да что ты, Кахир, нет, конечно. Вряд ли из вас получится красивая пара, о Джулии уж что говорить, но ведь и ты на ладан дышишь.
За этим последовал медленный, трудный, вымученный обмен репликами между двумя знатоками, которые шли от могилы к могиле, соревнуясь в том, чья память лучше, чье воспоминание достовернее, опровергая высказывания друг друга, оспаривая такие подробности, о которых никак не мог знать посторонний человек, и камня на камне не оставляя от знаний соперника, пока все вокруг не оказалось под грудой их доводов. Оба могильщика следовали за стариками в угрюмом молчании, выказывая свое нетерпение только жестами и взглядами, и вдова ткача с несчастным видом совершала обход кладбища, чувствуя себя все хуже и хуже после очередного отвергнутого места, словно особо исключительное кладбище Клун-на-Морав не принимало ее покойного мужа и лишало его заслуженных привилегий. Как все великие эпосы, спор закончился на том, с чего начался. Ни до чего не договорившись, ни на чем не сойдясь, старики в конце концов выдохлись. Михол Лински уселся на перевернутое безобразное надгробие, а Кахир Бауз прислонился к памятнику, наполовину ушедшему в землю и напоминавшему корму покинутого морского корабля. Так они отдыхали, не сводя друг с друга глаз, подобно парочке зловещих грифов.
Могильщики понемногу теряли терпение. У них стояло дело. Ткача надо было похоронить. Время поджимало. И они, отойдя в сторонку, решили держать совет. Когда братья обменялись мнениями, они коротко рассмеялись, подводя итог.
– Михол Лински прав, – произнес один из братьев.
Михол Лински просиял. Зато Кахир Бауз выглядел так, словно его отхлестали по щекам. Он отодвинулся от памятника.
– Михол Лински прав, – повторил другой брат.
Они решили положить конец спору, приняв чью-то сторону. Подняв лопаты, могильщики зашагали к тому месту, на которое указал Михол Лински.
– Стойте! – крикнул Кахир Бауз, замахиваясь палкой на одного из могильщиков, когда тот быстро повернулся к нему красивым смуглым лицом, не предвещавшим Кахиру Баузу ничего хорошего.
– Только тронь меня, – громко произнес он, – и я…
Какое-то движение произошло за его спиной – как оказалось шевельнулась шаль на вдове, и это свело на нет угрозу могильщика, слова умерли у него на губах, и щеки полыхнули огнем. Словно она закричала: «Ах, не трогайте бедного, несчастного старичка! Не делайте ему больно!» А могильщик как будто крикнул в ответ: «Очень уж он достал меня, но я не собирался его бить. А теперь, когда вы попросили меня, то я и грозить ему не буду».
Все-таки испугавшись, Кахир Бауз немного отпрянул, нанеся некоторый вред своему важному виду, а потом оперся на палку, и могильщики приступили к работе.
– Не сомневайтесь, это могила ткача, – проговорил Михол Лински.
– Если так, – откликнулся Кахир Бауз, – то могила его отца должна быть на глубине в семь футов. Ты сам говорил утром.
– Не стоит даже говорить об этом, – откликнулся Михол Лински. – Всем известно, что одним из чудес Клун-на-Морав было захоронение последнего ткача на семи футах, так он сам наказал своим родичам. И всем известно, что он лежит на глубине в семь футов.
– Вспомни-ка лучше, – не успокаивался Кахир Бауз, – что для Джулии Рафферти не рыли землю так глубоко – в лучшем случае на три фута.
Могильщики углубились не дальше чем на три фута, когда одна из лопат глухо стукнулась о гнилое дерево. Этот страшный удар ни с чем нельзя было спутать. На мгновение воцарилась тишина. Неожиданно Кахир Бауз вспрыгнул на кучу земли рядом, напомнив механического зверя с подрагивающей спиной, и немыслимым усилием попытался выпрямиться. Ему удалось поднять уши и тупо срезанный нос. Уже лет двадцать, как он не стоял прямо. Когда Кахир Бауз разогнул свое чудное тело, с его языка сорвалось кудахтанье, которое на самом деле должно было стать победным криком. Не отрываясь, он смотрел на Михола Лински и наслаждался триумфом, от которого даже прослезился.
По своему обыкновению, Михол Лински смотрел в одну точку, и эта точка находилась в могиле, точнее, в том самом месте, где лопата задела гроб. На лице у него были написаны сомнение и страх. Медленно отведя взгляд от могилы, он перевел его вверх, на торжествующего и кудахчущего Кахира Бауза.
У Михола Лински был такой вид, словно он хотел что-то сказать, но не мог подобрать слова. Тогда он отошел немного, отказавшись от дальнейших военных действий, и, стоя поодаль, почесал одну ногу другой позади лодыжки, словно некое громадное насекомое. Одновременно его скрюченные пальцы коснулись переносицы. Это было поражение.
– Похоже, не та могила, – проговорил один из могильщиков, и оба посмотрели на Кахира Бауза.
– Теперь и вам ясно, что не та, – сказал камнедробильщик. – Вы нарушили покой Джулии Рафферти. В свое время она многим помогла явиться в этот мир, и нехорошо платить злом за добро, мешая ей спать сном праведницы. – С этими словами он повернулся к неподвижно стоявшему Михолу Лински. – Ах-ах, чеши, чеши свои ноги. Будем надеяться, Джулия простит тебе твои сегодняшние дела.
Молча, быстро, почтительно близнецы засыпали могилу. Вдова глядела перед собой все с тем же таинственным видом – молча и терпеливо. Один из братьев повернулся к Кахиру Баузу.
– Надеюсь, вы знаете, где могила ткача? – спросил он.
С соответствующим возрасту, кислым видом Кахир Бауз поглядел на могильщика:
– Надеешься?
– Конечно же, вы знаете.
У Кахира Бауза был вид человека, который знает, где находятся райские врата, и может – если захочет – просветить невежественное человечество. Мол, поживем – увидим! Знающим взглядом он обвел луга за кладбищем и сказал: