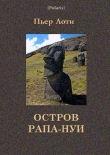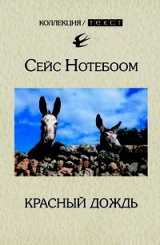
Текст книги "Красный дождь"
Автор книги: Сэйс Нотебоом
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
Соседи
Скрюченного старика, жившего возле Марии, мы прозвали между собой Эвмеем – по имени свинопаса, который первым узнал возвратившегося на Итаку Одиссея. Чтобы рассказ был понятен, надо сперва описать деревню, где все мы живем. Церковь , ayutament(ратуша, где вершится вся местная политика), два бара – Casinoи La Rueda(«Колесо») и множество мелких лавчонок располагаются на главной ее улице. Пространство по обе стороны от нее разбито на пересекающиеся под прямым углом переулки. Домики – беленькие, низкие. Внутрь не заглянешь, не то что в Голландии. Там кипит тайная жизнь. По вечерам, проходя по опустевшим улицам, я слышу голоса говорящих по-испански телевизоров – единственной связи острова с остальным миром. Вдоль нашего края деревни проходит Avenida de la Pau– улица Мира, объездная дорога для транспорта, следующего в сторону моря. Высокие дома строить не разрешается, но здесь и трехэтажные считают высокими, наверное, оттого, что они выросли у нас на глазах. На острове полно мест, где когда-то ничего не было. То есть были пустые, просторные пляжи, вдоль которых теперь понастроили отелей, были таинственные дорожки, по которым теперь нам запрещено ходить, короче – прогресс наступает на остров. От Avenidaотходит несколько узких, причудливо переплетающихся улочек. Здесь не разъехаться двум машинам, здесь – в zona agricultural [12]12
Сельскохозяйственные угодья ( исп.).
[Закрыть]– запрещено строительство.
В конце одной из этих неасфальтированных улочек начинается тропа, ведущая туда, где когда-то жили Эвмей, Мария с Барталомео и тремя детьми, а за ними, еще дальше, живем мы, мужчина и женщина. Мужчина прибыл на остров первым, в 1969 году, вы с ним уже знакомы. Женщину зовут Симона, она попала сюда десятью годами позже. Остальные ушли в прошлое: сперва исчезли Эвмей с сыном, вслед за ними – Мария со своим кланом. О связанной с этим трагедии я еще расскажу.
Нашим домом заканчивается дорога в большой мир. Добраться до нас практически невозможно, и это хорошо. Толстое дерево загораживет нас, и мы почти ничего не слышим, кроме свиней, ослика и кур Мануэля. Постойте! А Мануэль откуда взялся? Мануэль – сын Хуана и брат Лизы, дочери того же Хуана, жены Ксавьера и матери Изабеллы; что же до Изабеллы, то она обожает ослика и ведет с ним долгие беседы, которые ослик терпеливо выслушивает, потому что понимает: Иза одинока, она – единственный ребенок и ее родители работают. Хуан инвалид, но это не мешает ему прекрасно управлять лодкой, выходить в море, охотиться на pulpos [13]13
Осьминоги ( исп.).
[Закрыть]и выращивать гигантские тыквы; разделенный на две половины дом напротив нас, где жили Мария и Эвмей, принадлежит его жене Хозефе, сестре Бартоломео. Трагедия случилась, когда Хозефа отказалась продлить Марии срок аренды. Поклонников сельской идилии просят не беспокоиться. Эвмей уехал, половина белого арабского дома опустела. А Мария осталась. Она была привязана к своей сосне и своему месту на краю света так же, как и мы. А мы были привязаны к ней, к протяжному боевому кличу, которым она сзывала разбежавшихся детей, к тому, как она разговаривала с Летучей Мышью, экономила воду и, наконец, выставляла нам раз в год умопомрачительный счет за то, что приглядывала за домом в наше отсутствие. Со своим мотоциклом она обращалась, как с боевым конем, была профессиональной сплетницей, не умела читать и с легкостью вписалась бы в любой еще не созданный эпос. Счета за нее составляли дети, но это обнаружилось позже, когда она проиграла свое сражение и сосна была срублена.
В краткий период междуцарствия опустевший дом Эвмея заняла Лизина сестра-красотка; она завела себе ухажера из guardia civil [14]14
Гражданская гвардия ( исп.).
[Закрыть], который возвращался по ночам домой, неся на плече орущий магнитофон. У нее были необычайно красивые глаза, голубые, как лед; позднее – когда ухажер исчез и наступила наконец долгожданная тишина – в них поселилась печаль. А теперь напротив нас живут Ксавьер и Лиза, а в доме рядом с ними – Лизин брат Мануэль, и по четкому расписанию их жизни можно проверять часы. Выезд на ночное дежурство в аэропорт (Ксавьер), отъезд с Изой в школу (Лиза), возвращение домой вечером, когда закрывается его ресторан (Мануэль). Шум их автомобилей взрывает оглушительную тишину окраины. Я привык к ним; приятно чувствовать, что ты не один на свете. Летом Мануэль снабжает нас помидорами, дынями и, время от времени, яйцами – в порядке компенсации за поведение петухов, начинающих радоваться солнышку с полшестого утра, отчего, как он не без оснований считает, мы просыпаемся слишком рано. Следующий номер нашей программы: знакомство с Вилли, Сарком и Тибетцами – Первым и Вторым. У Тео Сонтропа [15]15
Сонтроп, Тео (р. 1931) – голландский поэт, литературовед и издатель.
[Закрыть]есть незабвенная строка: «Собак придворных лай». Сарк, Вилли и оба Тибетца были придворными собаками и облаивали все, что шумело и считалось, с их точки зрения, достойным внимания: шаги незнакомца, почтальона на велосипеде, шум автомобиля (который вполне мог ехать в противоположную от нас сторону). Сарк, крупный меланхоличный охотничий пес, не любивший нежностей, принадлежал Ксавьеру. Лаял он хриплым басом, жил за домом, у ограды. Наш автомобиль скоро перестал его интересовать, но он продолжал облаивать всех остальных, включая мотоциклиста, ежедневно навещающего свою лошадь Принсе, что пасется за той стеной, на которую выходят окна моего кабинета. Когда мне нечем заняться, я выхожу из дому и мы смотрим друг на друга, вернее, я смотрю в ее бездонные глаза, а она ждет, что я угощу ее винными ягодами с растущего на моем участке дерева. Вороная кобыла Принсе прекрасна и длиннонога, как все лошади на острове. Лошадям здесь поклоняются, словно божествам, они играют главную роль в деревенских праздниках. Наездники – caixers– в своих белых штанах, сапожках, фраках и прямоугольных шапочках с торчащими уголками выглядят так, словно явились из девятнадцатого века. Местная знать (иногда даже дамы из городского совета) тоже участвует в скачках во главе с пастором, которого уважительно называют caixer capella.Они образуют длинную процессию, впереди которой, верхом на ослике, едет специальный человек – fabiol, играющий на пронзительно верещащей флейте. Потом все идут к мессе, а потом начинается бал. Исполняются зажигательные мелодии, всегда одни и те же. Со всего острова собираются молодые люди и мальчишки, танцующие – другого слова не подберешь – на лошадях. Искусство состоит в том, чтобы поставить лошадь на дыбы и как можно дольше удерживать ее в этом положении. Соревнование обычно выигрывает пастор. Мальчишки, весело перекликаясь, скачут между лошадьми, играет громкая, пронзительная музыка, лошади перебирают ногами в воздухе. Только великолепному наезднику удается исполнить этот трюк и никого не задеть, возвращая лошадь в естественное положение. Вдоль деревенской улицы ставят палатки, там всем желающим наливают pomade– гремучую смесь лимонада с джином, изобретенную местными жителями, как и соус mahoneza, который в остальном мире называется майонезом.
Хозяин Принсе – племянник Мануэля и Лизы. Он ежедневно приезжает в черном бархатном жокейском шлеме, чистит Принсе, расчесывает хвост и гриву, а потом катается на ней. Верхом на Принсе он галопом проносится мимо, мне из-за стены видны только их головы. Мы в это время обычно обедаем – под аккомпанемент непрерывного лая Сарка, по-видимому принимающего Принсе за гигантскую собаку. Город Кенигсберг сверял часы по Канту; я обхожусь Принсе, Сарком и петухами.
А Вилли возненавидел почтальона на велосипеде, и тот отказался возить почту не только соседям, но и нам. Вилли выглядел в точности, как растрепанный, спутанный клубок шерсти; оставалось привязать его к палке, и вышла бы отличная швабра. Когда он, опрокинувшись на спину, упоенно катался по двору, весь наличный мусор намертво застревал в его шерсти. Мыс Вилли любили друг друга; его, в отличие от Тибетца, не привязывали, и Вилли предпочитал нашу территорию. Тибетец тоже принадлежал Мануэлю; он целыми днями лежал у стены, привязанный на очень короткую веревку. История нашей любви была короткой, но бурной. Он редко лаял, бедняга, – одинокая, несчастная немецкая овчарка с грустными глазами. Мануэль построил ему бетонную будку у курятника, но Тибетец все равно грустил: веревка-то длиннее не стала. Будка находилась в дальнем от нас конце участка Мануэля; по вечерам я потихоньку пробирался туда с угощением, и он от восторга и благодарности едва не опрокидывал меня. Будь веревка подлиннее, он смог бы подняться на задние лапы, и положить передние мне не плечи. Он тихонько поскуливал от тоски, которую не в силах был сдержать. Я пробовал поговорить о состоянии пса с Мануэлем, но тот ответил, что держит Тибетца на привязи только летом, когда приходится целыми днями торчать в ресторане. Нельзя сказать, что он не любил пса. Ночью, возвратившись домой, он всегда отпускал Тибетца побегать, и я слышал, как, обезумев от счастья, пес носится сперва как ураган, кругами, а потом взад и вперед по дорожке. Вряд ли такое безразличие – отличительная черта испанцев. Жители деревень всего мира искренне уверены, что любят животных, но любовь эта весьма своеобразна.
Те, кто уезжают на зиму, теряют право голоса. Это относится как к саду, так и к собакам соседа. С ноября Сарка брали поохотиться за кроликами, и это его немного развлекало. Зимою ресторан Мануэля работал только по выходным, и он рассказывал, что берет Тибетца с собой на прогулку. Но к лету умер Вилли, а еще через год – и Тибетец. И только я чувствую, что они, как и Летучая Мышь, до сих пор живы. Бывают минуты, когда я совершенно уверен в этом. Мария много лет кормила Летучую Мышь, когда мы уезжали. Она окликала ее издалека и продолжала звать, пока не доходила до калитки. Не могла смириться с тем, что ее лишили дома ради удобства детей деверя, и, по-хозяйски подзывая кошку, показывала всем, что она остается для нас желанным гостем. Мария не только кормила Летучую Мышь, но и следила, чтобы, пока нас нет, с кошкой ничего не случилось. Я всегда благодарил ее за заботу и добавлял: если Летучая Мышь погибнет в наше отсутствие и ее придется похоронить под bella sombra [16]16
«Прекрасная тень» – быстрорастущее вечнозеленое дерево из Южной Америки, обладающее способностью разрастаться вширь до бесконечности ( исп).
[Закрыть], Мария не будет в этом виновата. Но Летучая Мышь решила проблему по-своему: ушла как-то раз – и не вернулась. «Отравили», – говорила Мария, бросая многозначительные взгляды на дом по ту сторону дороги. Я ей не верил. В семейную трагедию нельзя вмешиваться ни в коем случае, особенно если в ней участвует персонажи вроде Марии. Никогда не забуду, как она явилась к нам в слезах и спросила, не приятельница ли нам «та дама из телевизора», погибшая в автомобильной катастрофе. Искренне считая, что все иностранцы должны знать друг друга, она хотела выразить нам соболезнование. Мы стали выяснять, кто эта дама, и поняли, что Мария имела в виду Грейс Келли. Не знаю, удалось ли нам убедить ее в том, что с «дамой из телевизора» мы не знакомы.
Ушел Вилли, ушел Тибетец. Я не мог понять, зачем Мануэль, переждав зиму, взял Тибетца Второго, прекрасно сложенного молодого пса, который, по его мнению, обещал вырасти до гигантских размеров. Этот, сказал он мне, настоящий породистый пес, и я понял, что Тибетца Первого он считал недостаточно породистым. Для меня существовал только один Тибетец, но осуждать Мануэля я не мог. Долгими зимами он использует свободное время, чтобы украсить свой дом. На снежно-белой крыше укрепил каменную фигурку, смахивающую на сову, выкопал маленький пруд, в котором задумчиво плавают золотые рыбки, и выкрасил классически-белые стены розовой краской, которую мы привезли ему черт-те откуда.
Длинные дни. По утрам графиня-англичанка, направляясь к своим конюшням, проезжает на «лендровере» по узкой дорожке меж наших стен; в воскресные дни отправляется с лошадьми на ипподром, чтобы принять участие в гонках на двуколках. Ослик, пасшийся вдали, подходит ближе, чтобы выслушать вместе с нами длинный монолог Изы, вернувшейся из школы и не заставшей родителей дома. Ослика зовут Пасо; чтобы поболтать с ним, она влезает на стену, подбираясь поближе к его серой физиономии. После сильного шторма Ксавьеру пришлось переложить одну из стен, окружающих наш дом, а Лиза дает нам полный отчет о своих попытках похудеть и о трудных экзаменах, которые придется сдать, чтобы получить место медсестры. Мы здесь чужаки; кончится лето, и наступит тишина: мы отправимся туда, где протекает неведомая им половина нашей жизни, и они наконец останутся одни. Но им хочется, чтобы мы знали, как много теряем, уезжая неизвестно куда: в прошлом году они сделали снимки моего субтропического сада, засыпанного снегом. Пальмы, кипарисы, bella sombra, юкка, кактусы превратились в причудливые белые глыбы, в снеговиков невиданной формы, заполнивших сад, в котором недоставало только садовника.
Почта
Вначале был Мигель. Древний старик с сухим птичьим лицом, прекрасно ориентировавшийся в лабиринте узеньких, перепутанных улочек, проложенных, казалось, по чертежам пьяного паука.
Все местные собаки знали его и никогда не облаивали. Тощий, как скелет, с пронзительными глазками и легкой, скользящей походкой, он проходил не меньше пяти километров в день, держа всю почту в руке – в ту пору ее было немного. Мигель давным-давно умер, но в одной из своих книг – «Отели Нотебоома» – я описал его: всегда в одном и том же легком сером костюме; рубашка, не заправленная в брюки, выступает в роли пиджака. Несмотря на тишину, в которой я жил, мне ни разу не удалось услыхать его приближение. Легкими шагами он огибал дом, входил через черный ход, внезапно оказывался рядом и негромко произносил: «Letter» [17]17
Письмо ( англ.).
[Закрыть]. Руки его слегка дрожали, мы знали об этом. Иногда Мигель соглашался выпить стаканчик коньяку, если считал, что он давно не заходил к нам. Раз он послал мне письмо в Голландию к Новому году. Судя по стилю, оно было позаимствованно из старинного письмовника, как и изящный, наклонный почерк. Заключительная часть письма оказалась невообразимо длинной. Он желал мне бесконечной жизни и вечного здоровья, и возвращаться каждое лето назад, и чтобы источник, питающий мою почту, не иссяк вовеки, и наконец просил принять без сомнений уверения в том, что навеки останется моим верным слугою.
Так оно и шло, покуда Мигель, одинокий человек, никогда не покидавший острова, в один миг оказался страшно далеко от него, уйдя из жизни. Всякий раз, проходя мимо домика, где он прожил почти девяносто лет со своею сестрой, я вспоминаю, как единственный раз побывал у них в гостях. Дом насквозь пропах крепкими черными сигарами, которые он курил. Сестра испекла печенье, которое здесь называют pasticet [18]18
Специфическое местное угощение, обычно его пекут по торжественным случаям или на Рождество
[Закрыть], а он подал настойку на травах, которая была такой крепкой, что слезы подступили к глазам. Бальзаминовая настойка, секрет его бесконечной жизни.
Сменил его очкарик, который до смерти боялся Вилли и потому не очень любил носить нам почту. Что-то в очкарике приводило этот флегматичный клубок шерсти в неистовство: едва заслышав шорох шин его велосипеда, Вилли летел навстречу и начинал с лаем скакать вокруг. Крошечная, в одну комнату почта располагалась в переулке, неподалеку от церкви. Если писем долго не несли, я сам шел туда и почти всегда находил отложенную отдельно стопку того, что должны были доставить нам. Честно говоря, ситуация меня раздражала, но изменить ее я был не в силах: ни с Вилли, ни с почтальоном договориться было невозможно.
В те времена Интернета еще не существовало. Телефона у меня не было, и связь с миром поддерживалась лишь через почту. Правда, китаец из Роттердама, владелец ресторана «Золотой дракон», разрешал мне по воскресным вечерам звонить от него; и мне тоже туда звонили. Это продолжалось тринадцать лет. Китайца звали Кок; прежде чем осесть на острове, он успел объехать полмира. Вдобавок он был замечательным рассказчиком, поэтому еда, его рассказы и телефонные звонки из Голландии сплетались в причудливый узор. Едва получив чашку супа-вонтон, я отставлял ее в сторону, чтобы позвонить, а стоило ему дойти до кульминации захватывающего рассказа, как раздавался звонок из Голландии. Но мне не хотелось заводить собственный телефон, и, когда Кок, объявив себя банкротом, отдался в руки правительства Испании (которое до сих пор с ним нянчится, потому что когда-то он был самым первым китайцем, приехавшим на остров), я остался вовсе без связи.
Очкарика сменил Хуан, beau garçon [19]19
Красивый парень ( фр.).
[Закрыть]лет тридцати. Почему Вилли позволял ему, в отличие от очкарика, приезжать к нам на велосипеде, осталось загадкой. А потом появилась Марта. Она была маленькой, красивой и такой белокожей, словно ежедневно купалась в ослином молоке. Приехала она из Риохи, была объявлена примером для подражания и поступила работать на почту. Доставку заказной корреспонденции ей удалось превратить в некий ритуал, во время которого обсуждалось все, включая содержание последнего номера «Эль Пайс». Едва она появилась, как Хуан превратился в некое подобие Lady Chatterley's lover, они восхитительно смотрелись рядом. Через некоторое время почте понадобилось более просторное помещение, и контора переехала на параллельную Avenidaулицу, в новое здание, где вдобавок установили вентилятор. Теперь эмигранты, живущие на острове, приходят сюда за почтой и вытаскивают ее из алюминиевых ящичков в стене; я почти никогда не захожу в этот закуток. Но раз в год посещаю праздник, который Хуан и Марта устраивают на почте – чуть-чуть закуски и вдоволь pomade, – чтобы пообщатся с местной публикой, которая после трехдневного празднования и заключительного фейерверка, не уступающего самому Нью-Йорку, выглядит так, словно с честью вышла из борьбы с пронесшимся над деревней ураганом.
В прошлом году Хуан и Марта поженились. И Марта перестала приносить заказную корреспонденцию. Ее снова доставляет Хуан, я слышу, как этот счастливчик, насвистывая, подъезжает к дому на велосипеде. Иногда мы говорим с ним о Мигеле, который проходил пешком то расстояние, которое Хуан проезжает. Но ведь теперь гораздо больше почты, замечает он, и мы вспоминаем мертвых, потом говорим о живых, обо всем, что переменилось и никогда не станет таким, как прежде, и он уезжает – в новой форменной желтой рубахе, которую придумал для почтальонов неизвестный дизайнер в далеком Мадриде.
Курочка
Я представитель кочевого племени, состоящего из двух человек. Племя мое ежегодно пересекает Францию и переваливает через Пиренеи, держа курс на Арагон и Барселону, откуда добирается до острова. Автомобиль набит под завязку всем, что может пригодиться летом: книгами и архивами, камерами и компьютерами и, конечно, солидным запасом индонезийских острых приправ, которых здесь не достать, и выглядит так, словно пассажиры его – сезонные рабочие-марокканцы. По дороге мы ночуем у друзей в Нормандии, Пуату и Бордо. И каждый год проезжаем через Хаку, потому что там находится красивейший католический собор Испании. Старый винный погребок против собора, суета Барселоны и, наконец, невыносимо шумный дневной паром. Ночной паром идет слишком медленно, плаванье длится девять часов; скорый, дневной, укладывается в четыре, но это – тяжкое испытание. Испанцы обожают шум и совершенно нечувствительны к нему. Пассажиров рассаживают в зале, все стулья повернуты в одну сторону, и, едва эта штуковина, разогнавшись, поднимается на подводных крыльях и ложится на курс, как включается длинный ряд телевизоров, и не просто включается, а на полную мощность. Чаще всего показывают детскую программу, придуманную специально, чтобы отбить у детей всякую охоту к чтению. Кричащие, вопящие, лающие, визжащие животные разрывают друг друга на части; люди разбиваются в лепешку; кровь выплескивается за края экрана; цивилизация на время этого четырехчасового гимна насилию отключается. Но, оглянувшись вокруг, замечаешь, что на экраны никто не смотрит. Можно подумать, они загнали себе в уши заглушки: одни пялятся на пролетающие мимо волны, другие дремлют; есть и такие, кто пытается разговаривать, перекрывая вой электроники. Просьбы уменьшить громкость не помогают, как и указания на то, что на экраны никто не смотрит: «Наверняка есть люди, которым хотелось бы, чтоб мы увеличили громкость». На палубу выходить не разрешается, а в единственном находящемся вне этого зала баре грохочут глубокие басы и звонкие литавры безжалостного тяжелого рока: пассажиры должны чувствовать себя, как дома, на то и каникулы.
Около девяти родной берег выплывает нам навстречу. Мы высаживаемся «по другую сторону» и едем вечерними дорогам к своему тихому уголку. Пологие холмы, поля и деревни, знакомые, вечные и неизменные. До дому мы добираемся почти в полной темноте, но в каком-то смысле нам это на руку: можно вообразить, что все в порядке. Каждый приезд начинается с беспокойных вопросов. Приходил ли плотник? А маляр? Сделал ли садовник то, о чем его просили? Работает ли телефон? Ответ на каждый из этих вопросов лаконичен: нет.
Люки не покрашены. Дверь не починена. Засохшее дерево не спилено. Телефон не работает. Свет в доме соседей не горит. Но Венера появляется в небе, а за нею – все остальные звезды. И ночная птица, как всегда, заводит вдали свою грустную песенку. Кто-то там жалуется, кроншнеп или сова. Все верно. На свете полно людей, которым нельзя доверять. Вскоре, узнав нашу машину по шуму мотора, появляется кошка Мануэля, Леонор. Она зашла к нам в гости в прошлом году и частично заполнила пустоту, образовавшуюся после ухода Летучей Мыши. Стоит Мануэлю с сыном отправиться в ресторан, как Леонор прибегает поесть к нам. Дважды в день. Мы знаем, что ее кормят дома, и не можем понять, почему она такая худая. Белая кошечка с коричневыми пятнами и сломанным хвостом. На этот раз Леонор выглядит ужасно, я смог узнать ее только по сломанному хвосту: она жутко исхудала, один глаз затянут бельмом и похож на голубой пластиковый шарик без зрачка. Другой – живой, яркий, янтарного цвета. Не знаю, как работает кошачья память, но она ведет себя так, словно мы никуда не уезжали – наверное, потому, что все это время кто-то регулярно кормил ее. Я беру Леонор на руки – она почти ничего не весит. Завтра мне предстоит узнать, что у нее появилось трое малышей, о которых надо заботиться. И что Тибетец Второй умер, ушел вслед за Вилли и Тибетцем Первым. А пока поглядим-ка, позволит ли нам дом уснуть. Горожане в деревне. Другие звуки. Сперва – никаких. Потом, около полуночи, подъезжает машина Мануэля – я не хуже Леонор знаю шум ее мотора. Потом – шум другого мотора – прибывает его сын. Потом – глубокая тишина; ветер колышет ветви деревьев, шуршащих едва слышно: так ударник шуршит щеточкой по своему барабану. Потом – в пять – просыпаются петухи, но теперь гораздо дальше, чем прошлым летом. Так я узнаю, что Мануэль избавился от кур. Шесть часов – машина Ксавьера: уехал на утреннюю смену или отправился на рыбалку. Восемь – Лиза повезла Изабель в школу, после этого можно включать Би-би-си, чтобы узнать мировые новости: Афганистан, Ирак, Дарфур, Буш, Бангладеш, Израиль, ФАТХ, ХАМАС – пора приступать к сбору опавших листьев.
Китс: But where the dead leaf fell, there did it rest [20]20
Где мертвый лист упал, там он остался ( анг.).
[Закрыть]. С этой работы всегда начинается и первое мое утро, и все последующие.
Il faut cultiver son jardin [21]21
Надо возделывать свой сад ( фр.).
[Закрыть]. Вольтер это понимал, а мировые новости в ту пору тоже существовали.
Я не японский монах и не кланяюсь каждому дереву, но я люблю их. Первые часы я работаю замечательным инструментом, который немыслимо назвать граблями: широкий веер тонких металлических спиц, загнутых на концах, которым очень удобно подгребать к себе листья. Листья, веточки, прошлогоднюю траву, раковины улиток, черное сухое черепашье дерьмо, сосновые шишки и иголки, камушки, щепочки, отколовшиеся от стен, птичьи перья, оранжевые шарики несъедобных фиников из-под пальм, узенькие серые листочки – от лоха, высохшие и длинные – от олеандров, жесткие, пергаментные листья фикусов, подгнившие отростки огромных старых кактусов, похожие на боксерские перчатки, и – приятная новость: желтенькие цветочки на кактусах, которые через два месяца превратятся в зрелые плоды. Мы наводим порядок. Под миндальным деревом лежат два яйца. Особое значение этой находки я оценю только через несколько дней.
Теперь надо заняться тем, что требует починки.
Телефон жизненно необходим, с него и начнем. Без телефона нет Интернета, а без Интернета ничего никуда не отошлешь – чувствуешь себя пауком, вокруг которого оборвали паутину. Сразу становится ощутимым расстояние между нашим домом и деревней; впрочем, ни там, ни в городе, который еще дальше, не осталось переговорных пунктов, откуда можно позвонить за границу. Звонить приходится из автомата, по карточке, за сумасшедшие деньги. Связь поддерживают телефонистки из Турции, Марокко или – вы не поверите! – Индии, но почему-то всесильные дамы, сидящие на краю света, никогда не могут вас соединить. Через два дня я озвереваю, через четыре – смиряюсь, через шесть перестаю что-либо понимать; потом узнаю, что вице-консул, представляющий на острове Королевство Нидерланды, знаком с кем-то, кто знает бывшего сотрудника телефонной компании, который объясняет: дело в том, что наши международные звонки не регистрировались; на девятый день является веселый перуанец Августин с кудрями до плеч и замечательным чувством юмора. Он осматривается, видит мои книги и спрашивает, чем я занимаюсь. Я пишу. Periodista? [22]22
Журналист? ( исп.)
[Закрыть] Si, periodista.Какое совпадение, его старший сын изучает periodismo. Где? В Лиме, в университете. Семья живет там, а он работает здесь, чтобы срубить побольше денег. Шестеро детей, понимаете ли. Я понимаю.
Эмиграция ради заработка, сорвавшийся с места мир, великое переселение народов. У Консуэло, уборщицы, которая приходит к нам раз в неделю, родители живут в Эквадоре, а дочка – здесь. Она работает в отеле, каждый день, с шести утра, чтобы иметь возможность посылать деньги в Кито.
Пока телефон не работает, я занимаюсь в саду делами, которые не так сильно запущены, как остальные. Сразу ясно, что зимой было много дождей, а так как в этом году мы приехали раньше, чем обычно, то застали сохранившиеся на пуансетии почти бесплотные ярко-красные листочки – словно она специально задержалась, чтобы показаться мне в своем изумительном зимнем наряде. Она снова подросла, если не подрезать ее регулярно, вымахает приличное дерево. Пальмы стоят, прямые и стройные, концы нижних веток загибаются вверх, в начале сентября предстоит тяжелая работа. Третья юкка, которую мне в прошлом году пришлось подрезать, чтобы она не расползлась по всему участку, поняла намек и прилежно тянет вверх, к свету, длинные, острые, как кинжалы, листья. Высокий ствол венчает башенка крупных белых неторопливо расцветающих колокольчиков. Через три недели они раскроются до конца, а потом, всего через несколько дней, для них все кончится, и сухой стебель останется торчать, как memento mori, над узкими, острыми листьями.
Жизнь постепенно входит в привычный ритм. Леонор знакомит нас со своими котятами, но мы договариваемся, что она будет, как обычно, приходить одна. Она ест вместе с нами: кормящей матери необходимо хорошо питаться. Через две недели шерстка ее начинает блестеть, через три – вновь обретает снежную белизну. Она умеет сидеть, опершись кончиками передних лапок о край стола; после того, как она ослепла на один глаз, обоняние развилось у нее необычайно: стоит какому-то запаху привлечь ее внимание, она начинает принюхиваться, тянется носом в нужную сторону и просительно кладет меховую лапку на мою левую руку; живой янтарный глаз смотрит на меня, странно контрастируя с мертвым, прикрытым синей пленкой бельма. Остатки еды Леонор вытаскивает из мисочки и раскладывает по полу, выложенному красными плитками; не проходит и двух минут, как появляются муравьи: у них нюх раз в сто сильнее, чем у кошек. Эти трупоеды маршируют сомкнутым строем и в несколько минут сметают все, что выложила на пол Леонор.
Явление нового персонажа. Сперва, много раньше, чем я сам что-то слышу, раздается глухой, как похоронный колокол, лай Сарка, охотничьего пса Ксавьера. Чуть позже и до моих глухих ушей доносится шум мотора и хлопок заслонки почтового ящика, прикрепленного к стене сарая без дверей, служащего нам гаражом. Это уже не Хуан, возивший почту на велосипеде, это дамочка в белой майке и шлеме на скутере, выкрашенном в ярко-желтый почтовый цвет. Хуан переехал, объясняет она, они теперь живут в Риохе. Марту мучила ностальгия.
Но теперь он будет тосковать, замечаю я.
Она тоже так считает. Островитянам кажется, что материк страшно далеко. Она думает, что он когда-нибудь вернется. Ему нравится здесь: простор и свобода. Разве меноркианец может прижиться в таком городе, как Логронотам? Но перед отъездом Хуан заставил ее поклясться, что она будет доставлять мою почту аккуратно; о том, что иногда почты бывает очень много, он тоже ее предупредил. И о том, что не надо бояться пса, потому что пес сам боится людей.
Для меня он служит башенными часами; я точно знаю, на кого он лает и в котором часу. Вечером, в восемь с четвертью, когда мы садимся обедать, он лает на хозяина Принсе, который приходит с двумя огромными датскими догами чистить лошадь, а потом, в черной каскетке для верховой езды, скачет на ней по тропинке. Он виден мне над забором, я поднимаю стакан в его честь.
А он салютует, поднося хлыст к козырьку каскетки, и исчезает. Через полчаса он возвращается галопом, поднимая облако пыли, под аккомпанимент лая Сарка. Как раз в это время начинаются новости по испанскому телевидению. Я не хочу ставить спутниковую антенну и довольствуюсь тем, что здесь доступно. Множество убийц и убийств с живописными подробностями и портретами преступников крупным планом. Следом – лесные пожары, жертвы коррупции, пойманные с поличным мошенники, прикрывающие лица, вонючее болото политики, патетически-деструктивная оппозиция, которая не может смириться с тем, что проиграла выборы. Мстительность, crispaciyn [23]23
Нервотрепка, раздражение ( исп.).
[Закрыть].
Потом – картинки к международным новостям, которые я уже слышал с утра по Би-би-си: автомобильные аварии, разрушенные дома, жертвы, голод; за ними – разгул спорта. Но я смотрю не на экран, а в сад; Леонор вскакивает ко мне на колени. Я вижу, как медленно меркнет свет, и слушаю крики первых ночных птиц.
Кассиопея повисла у меня за спиной; если я встану в пять утра, то увижу на ее месте Орион и пойму, что скоро рассветет, а солнце здесь, на острове, светит по-настоящему – сияет, господствует, властвует надо всем.
Потом я слышу тихий звук из-под mile-a-minute [24]24
Миля в минуту ( англ.).
[Закрыть]: значит, Курочка появилась на своем посту. Курочка – наша новая соседка, благодаря которой разрешилась загадка появления упомянутой пары яиц. Я не знал, сколько они там пролежали, и побоялся их есть, но прошло несколько дней, и под мальвой обнаружилось новенькое белоснежное яичко. К тому времени я уже заметил черную курочку, бродившую по саду и убегавшую, нервно кудахтая, стоило подойти чуть ближе, и понял, кто мог подкинуть нам яичко. Прошло еще два дня, и она снова отложила яичко, но кто-то успел подобраться к нему раньше меня и высосал досуха.