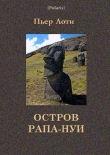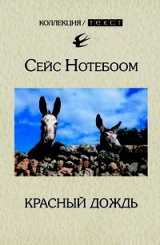
Текст книги "Красный дождь"
Автор книги: Сэйс Нотебоом
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
«Рембрандт-отель»
Случай, о котором пойдет речь, произошел в Лондоне, и было это – я точно знаю – не позже 1972 года. Размышляя о прошлом, я понял, что жизнь мою можно разделить на три периода: лондонский, парижский и берлинский – по городам, в которых в каждый из периодов я предпочитал жить. Здесь речь пойдет о Лондоне, первом иностранном городе, в котором я попал в театр. В школьные годы в мою бедную голову намертво вдолбили, что Лондон – город туманов; о том же твердили старые черно-белые фильмы, где фигурировали duble-deckers [100]100
Двухэтажные автобусы ( англ.).
[Закрыть]и London Bridge.
Я сел на паром до Харвича, море было довольно бурным; наступило утро, и с палубы открылся вид на огни порта. Но тут, как и было обещано, поднялся туман и окутал берег романтическим флером, отчего все вокруг приобрело особое очарование. В ту пору я путешествовал еще не слишком много, но, набравшись опыта во Франции и Скандинавии, успел понять, что в разных странах и обычаи разные.
На станции я оказался в шесть утра; было холодно, из порта доносился рев туманной сирены. Люди вокруг читали утренние газеты и почти не разговаривали друг с другом. Я спросил в буфете чаю, который оказался непривычно крепким; пока я расплачивался, буфетчик, называя меня Loveи Dear, поражался тому, что я не собираюсь смягчить вред, наносимый организму этим смертельно опасным напитком, добавив в него молока. Я не знал еще, что англичане обращаются так друг к другу всегда, слова эти ровно ничего не значат, и решил, что во мне есть что-то особенное и буфетчик искренне полюбил меня. В ответ я немедленно влюбился в Англию и люблю ее до сих пор. Прибыл поезд, влекомый локомотивом, жалобные крики которого я узнал издалека – благодаря тем же фильмам. Следующим поводом для изумления оказались купе: каждое имело персональный выход на перрон. Понятия не имею, как это выглядит теперь, но в памяти моей сохранились плюшевые диваны и копченая рыба с тостами, которую подали на завтрак с чашкой Lethewater [101]101
Вода из мифической реки забвенья, Леты, и одновременно жидкий чай, похожий на мутную водичку.
[Закрыть]. Пейзаж за окном тонул в сероватой мгле, и ситуация не слишком изменилась, когда мы прибыли в город. Не помню, где я в тот раз останавливался, зато помню, что ухитрился посеять что-то из своего небгатого багажа, пока шел по улице, и, переходя дорогу, едва не попал под красный «двухпалубный» автобус, потому что не знал, что в Лондоне левостороннее движение. Запах дыма, крики мальчишек-газетчиков – к таким словам школьный английский меня не подготовил; когда же наконец открылись пабы, я оказался в совершенно невообразимом мире. Мне безумно нравилось все. Плюшевая обивка, духота, дым сигарет, гармонировавший с туманом за окном; здесь меня тоже называли Dearи Love, но, прежде чем выдать стакан, требовали рассчитаться за выпивку, и я платил огромными, тяжелыми монетами, в которых не сразу научился разбираться… Вспоминая все это, я понял, что привычка уничтожает главные прелести путешествия: только радостное возбуждение при встречах с чем-то новым и осторожная подозрительность, с которой приходится действовать в незнакомом месте, делают путешествие волнующим и незабываемым. Я сходил в театр; убей меня, не помню, что за пьеса там шла, зато помню, что, попав в антракте в буфет, был потрясен, увидев там бренди и джин с тоником: в Голландии такого тогда не водилось. В Городском театре Амстердама я впервые посмотрел Чехова с Ко ван Дайком и Ханом Бентц ван ден Бергом, Жана Ануя с Палом Стейнбергеном и Фи Карелсен и первые пьесы Хьюго Клауса с Иной ван Фаассен, Тоном Лутцем и Хансом Крузо [102]102
Здесь и далее Нотебоом упоминает имена популярных голландских актеров XX века.
[Закрыть]; я полюбил театр так сильно, что совершал регулярные паломничества в Лондон, чтобы поглядеть на Джона Гилгуда, и Пегги Эшкрофт, и Мегги Смит, и Алека Гиннесса, а оттуда, на другом пароме, отправлялся в Париж, где шли пьесы Сартра, Жана Жене и, конечно, Ануя. Вот только – почему у дверей театра сердце мое не сжимается больше? Я помню, когда это случилось впервые. И точно знаю где: в Городском театре Амстердама. Не важно, какую пьесу давали. Но и сейчас, в далекой Испании, стоит закрыть глаза, я вижу сквозь бесконечный коридор времени этот зал, место, в котором я чувствовал себя как дома. 1951 год. Ряды красных кресел. Старый друг взял меня в тот раз с собой, скорее всего, давали Чехова, но чтобы знать наверняка, надо посмотреть репертуар за тот год. Дома, в Амстердаме, это проще – там стоит ящик, набитый театральными программками; тут приходится копаться в памяти. Итак: декорации – Николас Вайнберг и Мегген Коорнстра, исполнители – Анк ван дер Муур, Гюс Остер, Йохан Реммелс, Эллен Фогел, Мери Дрессельхауз, Миин Даумайер ван Твист – их имена навеки запечатлены в моей памяти, и я хочу уберечь их от неумолимого забвения, превращающего людей в легенды, понятные на самом деле лишь участникам представления.
То, чего мы больше не видим, в конце концов исчезает. Но в тишине комнаты в далекой Испании мне все еще слышится голос Ко ван Дайка, голос, который я не забуду до самой смерти.
Передо мной как наяву Анк ван дер Муур в роли Электры, впивающаяся зубами в собственную руку, но как рассказать об этом? Мне еще не было двадцати в тот первый раз, я помню, как мы стояли на Лейдсеплейн, у театра. «Здесь, – сказал я с присущей юному возрасту самоуверенностью, – не позже чем через пятьдесят лет поставят мою пьесу». Мой спутник весело посмеялся над такой наглостью, но оказалось, что ошибся я только в количестве лет. Не через пятьдесят, а всего через пять лет моя первая (и единственная) пьеса была поставленна именно на этой сцене. Называлась она «Лебеди Темзы», я больше никогда не позволял ее ставить, но вспоминать об этом опыте до сих пор приятно. Эллен Фогель, Миин Хамел, Андре ван ден Хёвел, уже немолодой Йохан Реммелтс и Жаклин Ройардс-Сандберг, которой к тому времени перевалило за девяносто, – я смотрел, затаив дыхание, как оживали благодаря им выдуманные мною персонажи. Не все критики ругали спектакль, он прошел целых тридцать два раза; потом Димитрий Френкель Франк, убрав чересчур жалостные места, превратил спектакль в телепостановку, но моя карьера драматурга на этом завершилась. Следующую мою пьесу завлит театра «Центр» уронил с багажника велосипеда, и порыв ветра унес ее в канал. Называлась она, если я ничего не путаю, «Испанские контрабандисты». Что же касается следующей пьесы, то память моя не сохранила даже ее названия, а текст куда-то подевался. Дело происходило в Швейцарии, среди действующих лиц был лауреат Нобелевской премии, а один из персонажей не очень хорошо вел себя во время войны, вот пусть и лежит себе там, где лежит, под всепрощающим пеплом прошлого.
Все это никак не повлияло на мою любовь к театру и актерам. Где-то я прочел, что Мольер (а может быть, Вольтер, чьи пьесы вообще не ставили, – выходит, я попал в неплохую компанию) сказал, что у актеров нет души, потому-то их и хоронят за кладбищенской оградой. Может, так оно и есть, но именно этим объясняется то, чем они привораживают меня. Слова «отсутствие души», скорее всего, означают наличие нескольких душ одновременно, а души Гамлета, дяди Вани и Шейлока, слившись в одном человеке, делают его глубже, интереснее и позволяют избежать мучительной одномерности, которой страдает большинство людей. С другой стороны, настоящим актерам со временем становится трудно различить, где кончается воображаемый мир и начинается реальность. Если сосед по дому, которого вы видели в роли короля Лира, станет рассуждать о трудностях парковки в Амстердаме с той же страстностью, с какой он накануне произносил свои монологи, это, согласитесь, может несколько усложнить разговор.
Ты знаешь все их приемы, от которых нелегко избавиться даже в обычном разговоре, ты узнаешь их по голосу в ослепительной тьме, даже если они обсуждают налоги, но до чего трудно представить себе, что можно говорить с ними на обычные темы. Услыхав их голоса – даже в полусне, – ты замираешь… Как замер я, услыхав через стену знакомый голос в лондонском «Рембрандт-отеле».
Не помню, что давали в театрах в тот мой приезд: «Офицера-вербовщика» с Мэгги Смит или «Заложника» Брендана Бехана в постановке Джоан Литтлвуд. После того как «Помидорная акция» [103]103
Организованная левыми в сезон 1969/1970 года безобразная акция против, как они это называли, «элитарности» театра, когда молодежь забрасывала актеров во время спектакля помидорами, что нанесло голландскому театру колоссальный ущерб.
[Закрыть]вышвырнула меня вместе с моими любимыми актерами из амстердамских театров, я продолжал совершать ежегодное паломничество в Лондон и Париж – двадцатью годами позже к ним добавился Берлин.
Итак, вернувшись со спектакля довольно поздно и слегка навеселе, я нисколько не обрадовался пробуждению около шести утра под бодрые голоса ведущих agricultural news [104]104
Новости сельского хозяйства ( англ.).
[Закрыть], доносившиеся из соседнего номера. Цены на свиные желудки и телячьи отбивные, легко проникая на мою суверенную территорию, казались дурным сном, пока до меня не дошло, что они вполне реальны; заорав, я принялся колотить в стену, но пшеница, рожь и овес орали громче; пришлось звонить портье. Тот спросил номер комнаты, в которой орет радио, но я не мог сообразить, как пронумерованы комнаты и какой номер располагается справа от моего, 241-го, – четный или нечетный; пришлось вылезти из постели, чтобы, поглядев на соседнюю дверь, сообщить номер портье, и тут – началось.
Едва я успел улечься и прослушать цены на гусей, индюшек и кур, как в соседней комнате залился специфически английским перезвоном телефон. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, дзинь-дзинь – продолжалось это довольно долго, и стало ясно, что сосед просто не слыхал моего бешеного стука; наконец она (это оказалась она) сняла трубку, и, едва прозвучало: HALLO, я понял, что этот сильный, аристократический голос мне знаком. А теперь постараюсь передать все нюансы разыгравшегося за стеной абсурдистского радиоспектакля.
– I AM SORRY, I CAN'T HEAR YOU! [105]105
Извините, мне вас не слышно! ( англ.)
[Закрыть]
Нет, этого не может быть.
– WHAT'S THAT YOU'RE SAYING? WHAT!?! LET ME PUT MY RADIO DOWN [106]106
Что вы говорите? Что?! Постойте, я приглушу радио. ( англ.)
[Закрыть].
Внезапная тишина, pork bellies [107]107
Свиные желудки ( англ.).
[Закрыть]исчезли без следа. Потом – крик ужаса:
– ОЕОЕОЕ, I AM AWFULLY SORRY! [108]108
Ой-ой-ой, приношу свои глубочайшие извинения! ( англ.)
[Закрыть](Я знаю, я знаю этот голос!) PLEASE TELL THE GENTLEMAN I AM AWFULLY SORRY!! [109]109
Пожалуйста, передайте этому джентельмену мои искренние извинения! ( англ.)
[Закрыть]
Тишина. ПЛЮХ! Что-то тяжелое свалилось в воду? Снова: ПЛЮХ! И еще раз: ПЛЮХ!!! – гораздо сильнее двух предыдущих. Бормотание, отдельные сердитые фразы. Потом:
– IF THAT'S WHAT YOU THINK YOU MUST BE MAD. – Тишина. – NO, INSPECTOR. – Тишина. – HA-HA [110]110
Если вы действительно так считаете, вы сошли с ума… Нет, инспектор… Ха-ха ( англ.).
[Закрыть].
Тут я покончил с попытками идентифицировать голос. Спать больше не хотелось, Лондон хорош и в семь утра. Что же до похмелья, так у англичан уже тогда имелся специальный тоник, что бы приводить в чувство страждущих. Я оделся и вышел из номера. Но голос все не отпускал меня. Уже покидая отель, я вспомнил имя героини, которую играла эта актриса, но имя самой актрисы вернулось в мою бедную голову, только когда мы случайно столкнулись в коридоре. На ней была широченная пелерина зеленого твида, отделанная бархатом, и того же бархата огромный берет, делавший ее похожей на собаку невиданной породы.
– GOOD MORNING! – протрубила она.
Мисс Марпл, Маргарет Резерфорд, умершая в 1972, игравшая в «Самом глупом убийстве» и «Паддингтоне, 16:50», где она, сидя у окна купе на Паддингтонском вокзале, видит сцену убийства в отправляющемся поезде. И конечно, никто не хотел ей верить, и, конечно, она пошла вдоль рельсов, ища доказательств, и, конечно, неподалеку оказалось поместье, и, конечно, она поступила туда на службу (о, этот фартучек с белым кантиком и кокетливая беленькая шапочка на ее громадной голове!), и, конечно, она отыскала убийцу. Я спускался вслед за ней, а внизу стоял не кто-нибудь, а мистер Стрингер, который никогда не играл в пьесах Агаты Кристи, но участвовал во всех фильмах, где снималась Маргарет, потому что был ее мужем.
– GOOD MORNING, MY DARLING, – провозгласила она, и он потянулся, чтобы поцеловать ей руку, хотя стоял восемью ступеньками ниже. Только теперь все наконец стало на свои места. Троекратный «плюх» происходит, когда кто-то залезает в ванну; обрывки фраз были репликами из роли, которую она разучивала. Паузы между ними – пропущенные реплики партнера. Она прервала мой сон, а я прервал работу, которой она занималась, сидя в ванне. Ветер взметнул пелерину, ее величественная фигура исчезла за углом, а я навеки занес это видение в хранилища своей памяти – раздел «Театр»», подраздел «Лондон» – и, счастливый, вышел на улицу.
Овчарка
Прованс я сперва сочинил и только потом увидел. Это не метафора: я довольно много прочитал о Провансе, потом описал его в книге, а уж потом впервые ступил на его землю. В самое первое свое путешествие я отправился почему-то не на юг, ставший для меня в конце концов второй родиной, а на север, так и оставшийся мне чужим. Шел 1953 год, следы войны еще не исчезли, и те годы окрашены в памяти в серый цвет: цвет строек и строгих правил, сохранившихся аж с довоенного времени, провинциальности и теократического мышления не только в вере, но и в политике, – заложенные в ту пору бомбы замедленного действия в шестидесятых начнут взрываться именно на юге. Холодная война оказалась и в самом деле холодной: люди леденели от ужаса, представляя себе возможность применения атомного оружия. Огромные куски континентов вырвались из-под опеки метрополий в результате деколонизации; прошли последние тяжелые войны: Европа дралась за Индокитай, Индонезию, Алжир; первые столкновения сил шли на границах поделенного победителями мира – в Будапеште, Берлине, Корее. Время, когда я, девятнадцатилетним, путешествовал автостопом по колоссальным просторам Северной Европы, не было приятным – но это было первое мое большое путешествие, окольный путь, приведший в конце концов, на юг. Именно тогда я узнал, что существует лишь один компас, которому можно доверять, – тот, что у нас внутри. У идущих неведомыми путями без такого компаса мало шансов достичь чего-либо. Дело не в великих свершениях, но в малом толчке: взгляде, фразе, мысли, – от которого закрутятся колеса зубчатых передач, и позже, иногда – гораздо позже, в результате их движения случится что-то важное или станет ясно, как жить дальше. Не знаю, куда делась юная француженка, за которой я помчался на север в 1953 году. Посвятив ей свою первую книгу, я потерял ее след, но совсем недавно, в Провансе, во время прогулки осенним вечером вдоль виноградников моего друга М. увидел застывшую в небе темную тень Мон-Ванту и вспомнил о девушке и о романе, с которого началось наше с нею знакомство, романе, подарившем мне Прованс. Я говорю высоким стилем. А высокий стиль несовместим с пустой болтовней. Но скажите-ка, каким еще стилем говорить о стране, которую описывал сам Петрарка, глядя на нее с высоты Мон-Ванту? И лучше я расскажу все по порядку.
Роман, о котором пойдет речь, написал Анри Боско, и назывался он «Ферма Теотим». Трудно сказать, насколько хорош был тогда мой французский, но до сих пор помню ощущение чуда, которое я испытал, едва начав его читать.
En aoūt, dans nos pays, un реи avant le soir, une puissante chaleur embrasse les champs… [111]111
В августе в наших краях к концу дня над полями струится жар… ( фр.)
[Закрыть]Теперь-то я знаю, с какой интонацией положено произносить эти слова, я ощущаю музыку языка, накаленную жаром таланта автора. Жар, запах лаванды, темные кипарисы, неумолкающий стрекот цикад, старые оливы и голубая дымка, в которой растворяются бесконечные ряды виноградных лоз и которую не удавалось изобразить на полотне никому, пока не явились импрессионисты. В ту пору мне не привелось еще испытать этот жар, я никогда не бывал так далеко на юге, и тем не менее я почувствовал все это. Я словно оказался на этой métairie(ферме), ощутил жару, застывшую в окружавшем дом воздухе, и понял, что хозяева должны, затаившись внутри, дожидаться вечера, когда ночная прохлада освободит их. Дом в Провансе назывался mas, и это короткое, каменное слово точно отражало его сущность: крепость, надежное укрытие от зимнего холода и летней жары. История любви, рассказанная в книге, давно стерлась из памяти, но атмосферу, дух Прованса, стиль автора я не могу забыть до сих пор. Едва начав читать, я понял, что должен туда поехать. Я был очень молод и уверен в том, что описанный мир просто обязан оказаться таким, каким я его вычитал. И все оказалось точно таким: деревенское кафе в тени платанов, сбор винограда, полуденная жара.
Теперь, после стольких лет, уже и не понять, что из перечисленного набора мне тогда только почудилось, но образ Прованса остался для меня почти неизменным. Конечно, появились супермаркеты и хай-тек, а обочины дорог в окрестностях Авиньона и Нима утыканы рекламными щитами с плотностью, немыслимой в пятидесятые годы нигде, кроме Дикого Запада, но все еще существуют городишки с рынками по четвергам и площадями, на которых слышен перестук jeu-de-boulesballen [112]112
Популярная во Франции игра в шары.
[Закрыть], на улицах встречаются девушки, чьи глаза темны, как вишни, и старые дамы под плеск воды в фонтане в сотый раз пересказывают друг другу одни и те же истории – разумеется, в тени платанов. В одном из таких мест живет мой друг М., в его доме я регулярно гощу уже много лет; и дом этот точь-в-точь такой, как описанный в книге Анри Боско, – старая провансальская ферма со стенами, окрашенными в цвет заходящего солнца. Дом стоит в стороне от деревни, со всех сторон окружен виноградниками, из окон открывается вид на Мон-Ванту, а с другой стороны – на виднеющийся вдали шпиль деревенской церкви. Деревня небольшая, вдоль ее узеньких извилистых улочек плотно стоят дома со средневековыми подвалами и толстыми стенами, безразличные к жизни, текущей снаружи. Дорога, ведущая из Карпентра в Со и Виль-сюр-Озон, проходя сквозь деревню, прихотливо изгибается. На ней помещаются: кафе под названьем La Siucle [113]113
Столетие ( фр.).
[Закрыть], почта, отделение «Сельскохозяйственного банка», maison de la press [114]114
Газетный киоск ( фр.).
[Закрыть], где можно купить «Утреннюю Ниццу» и «Провансаль», и маклерская контора, торгующая всеми старыми домами в округе; у въезда в деревню, в глубине площади, на которой время от времени устраивают конный рынок, – мэрия, а узкая дорожка за ней ведет к нескольким скорбным склепам, немного напоминающим кладбище «Алисканы» под Арлем, потому что и здесь когда-то побывали римляне и оставили своих мертвых. А за кладбищем, на приличном расстоянии, словно деревня немного стыдится такого соседства, стоит пустующий замок маркиза де Сада, ожидая нового хозяина, который не побоится призраков замученных девушек и воспоминаний об изощренных пытках (существовавших, вполне возможно, лишь в больном воображении автора известных романов). А еще – маленький музей и памятник погибшим в Первой мировой молодым французам, которым никогда не узнать ни о произошедших здесь переменах, ни о том, насколько этой деревне удалось остаться прежней.
Она не знаменита, моя деревня, ее нет в зеленом справочнике Мишлена, ей нечем привлечь путешественника, она то, что она есть? – деревня в Провансе: горстка домов, окружающих церковь, мэр с вице-мэром, жандармерия, и при ней – собака. Вот о них-то и пойдет рассказ: о собаке и моем друге М., чехе из Америки, враче и ученом, человеке, издающем изумительные книги для библиофилов и живущем на два дома: один – там, где его лаборатория, в Калифорнии, другой – там, где его фабрика, в Праге. Юным офицером он покинул оккупированную советскими войсками Прагу в багажнике автомобиля, изучал медицину в Дании, стал профессором в Лос-Анджелесе, говорит по крайней мере на шести языках, но время от времени застревает здесь, в Провансе, и превращается в настоящего винодела – пока его снова не сорвет с места зов одной из сторон его богатой натуры: судьба, как он сам говорит, вечного скитальца-эмигранта.
По узкому шоссе от деревни до поворота, где на четырехгранном столбике М. укрепил чугунный крест в честь старика фермера, у которого он купил дом, можно дойти минут за двадцать. Отсюда начинается дорога, вдоль которой М. посадил кипарисы; лет через сто они будут отбрасывать на песок длинные тени. Слева и справа тянутся виноградники, к концу лета здесь созревают грозди темно-синих мелких жестких ягод, из которых выходит непритязательное местное вино, знать не желающее о существовании других, великих вин, шествующих по жизни с высоко поднятой головой. Потом я сижу под шелковицей со своим другом и adjoint-maire [115]115
Помощник мэра ( фр.).
[Закрыть], который всю жизнь ухаживает за виноградниками, мы пьем пурпурное вино из бутылей без этикеток, и оно никогда не кончается.
У ног М. лежит, всегда настороже, немецкая овчарка, следящая за каждым его движением и вскакивающая, стоит ему подняться, словно между ними существует незримая связь. Я скорее кошатник, чем собачник, так что мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к мистической связи между ними и относиться к ней спокойно. Мне даже стало нравиться их изумительное взаимоподчинение – потому что я узнал их историю.
Однажды летом, сидя под той же шелковицей, вице-мэр рассказывал моему другу о растущем количестве краж со взломом и о том, что людей, пропадающих время от времени в густых лесах на склонах Мон-Ванту, стало трудно разыскать. Шеф местной полиции (здесь ее называют gardes champêtres, «полевой жандармерией») подтвердил его рассказ и расстроенно добавил, что недавно погибла полицейская собака, а у мэрии нет денег на покупку новой. М. спросил, что за собака у них была. Немецкая овчарка. С этой породой у М. были связаны неприятные ассоциации: во-первых, таких собак держал у себя в Берхтесгадене [116]116
Место в Баварских Альпах, любимая резиденция Гитлера.
[Закрыть]один мерзкий тип, а во-вторых, его родственника, пытавшегося бежать через чешскую границу, насмерть загрызли собаки именно этой породы. Знал он и о врожденном дефекте породы – проблемах с тазобедренным суставом; но среди знакомых М. был человек, разводивший и обучавший овчарок в Богемии. Человек этот носил совершенно не подходящую фамилию Кролик, тем не менее собаки у него были замечательные, и мой друг решил купить одну для нашей деревни. Едва ли не каждая деревня в Провансе имеет собственного эксцентричного иностранца, который становится частью местного пейзажа и фольклора, и история с собакой – le chien du docteur américain– должна была занять в этом фольклоре почетное место. Но все оказалось не так просто: едва М. купил собаку, как возникла сложность, справиться с которой не смог бы никто, кроме собачьего психоаналитика: собака по имени Фула, которую купил М., не желала расставаться с ним ни на секунду, словно не он купил ее, а она – его. Если бы речь шла о людях, это назвали бы любовью с первого взгляда. Делать нечего, М. повез Фулу назад и спросил пана Кролика, как быть с собакой, которая пытается забираться вслед за ним в душевую кабинку, спит только возле его кровати и храбро защищает любимого хозяина от опаснейшего врага в лице чайника со свистком. Пан Кролик мог только посочувствовать: случаи, когда собака обожествляет хозяина, встречаются крайне редко, с ним самим такое случалось всего несколько раз в жизни. Собака, объяснил пан Кролик, считает его, М., «запах» (хотя я в данном случае употребил бы слово «душа» как более подходящее) «запахом вождя своей стаи», так что ничего изменить не удастся. Если М. оставит собаку у него и возьмет другую, Фула впадет в депрессию, откажется от еды и, скорее всего, умрет. Ему, сказал заводчик, такая собака даром не нужна, денег он за нее не возмет, и пусть М. отвезет собаку во Францию, где шеф gardes champêtresс нетерпением ее ожидает.
Но и шефу gardes champêtresне подошла собака, умирающая от мук любви вместо того, чтобы охотиться за преступниками. Он глянул собаке в глаза и понял: ей нельзя разлучаться с хозяином и М. придется возить ее за собой по всему миру, а деревне – обходиться без полицейской овчарки. Проблему разрешил пан Кролик; он позвонил из далекой Богемии и предложил компенсировать ущерб: привезти им новую собаку, но не слабонервную девчонку, а настоящего мачо, здоровенного, как крупный волк, пса по имени Хир (по-чешски это значит «Грозный»),
И он выполнил свое обещание. Делегация мэрии отправилась вместе с М. в аэропорт Марселя, где Хир, поприветствовав мэра и вице-мэра, обратил свой нос в сторону Фулы и – немедленно влюбился (у них уже есть сын по имени Атос), а после навел страху на бандитов, воров и наркодилеров. Слава его быстро распространилась по Провансу, сразу стало известно, что эту собаку monsieur le docteur américainподарил мэрии, совершив, таким образом, поступок почти героический; фото М. попало в газету, его наградили орденом, а деревня сделалась местной легендой.
Monsieur le docteur américain, который, вообще-то, уже был гражданином Чехии, немедленно получил французское гражданство. Законным провансальцем шествует он теперь по своим виноградникам, словно тенью сопровождаемый Фулой, возлюбленной Хира и матерью Атоса. И однажды, прекрасным, не слишком жарким летним днем, мы все собираемся за длинным столом под шелковицей; солнце катит над полями, а мы обедаем. Стол ломится от еды, закупленной с утра на рынке в Иль-сюр-ля-Сорг: оливки и баранья нога, распространяющая вокруг запах тимьяна и розмарина, козьи сыры в пепле и травах, пастис и молодое вино. Собаки дремлют под столом, и им снится, что так будет вечно, а я слушаю, как вице-мэр рассказывает свои истории, слежу за тем, как шеф gardes champêtres сажает в служебный автомобиль с голубой «мигалкой» всю свою семью и выезжает, аккуратно вписываясь в прихотливые изгибы дороги, и понимаю, что нахожусь в мире Жионо и Боско, мире южного солнца, в мифической стране, которая в такие дни кажется одним из преддверий рая, и еще я понимаю, почему больше пятидесяти лет назад, прочитав первые страницы «Фермы Теотим», захотел уехать именно сюда, подальше от кальвинистского, мрачного, послевоенного севера.