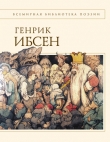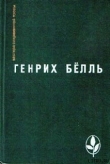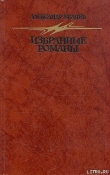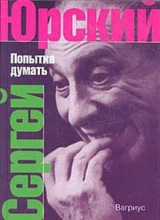
Текст книги "Попытка думать"
Автор книги: Сергей Юрский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Но ведь симпатичным может быть не обязательно талант. Скромный, честный труженик может вызвать наши симпатии. Скромный?
Женившийся на самой яркой девушке их круга, новой Клеопатре, требующей от мужчины подвига за право ее любить? Скромный? Купивший самую дорогую и роскошную виллу, претендующий на профессорскую должность?
Из профессорских качеств одно у него безусловно есть – рассеянность. Он забывает. Забыл свои домашние туфли посреди гостиной, забыл половину дел, порученных ему тетушкой. Но это пустяки. (Хотя и значащие – Ибсен математически точен, у него нет случайных деталей.) Но дальше: он забыл, что сегодня в его честь состоится вечеринка у Бракка, где он согласился присутствовать. Как можно такое забыть ему, человеку честолюбивому? Как можно такое забыть, когда это первое и пока единственное приглашение в родном городе?
Гораздо позднее Зигмунд Фрейд напишет целую книгу о таких «забываниях» и с точки зрения психоанализа объяснит подобные «забывания» подсознательной волей, скрытым желанием забыть. При всех издержках его концепции в философском и общегуманитарном плане в ней будет то рациональное зерно, которое войдет во все учебники психологии и психиатрии. Ибсен не читал Фрейда. Не из будущих исследований, а из жизни вытекали его психологические открытия. Художник, как часто это бывает, опередил ученого.
Тесман «забыл» про вечеринку, потому что хотел забыть, сам того не сознавая. Отказать Бракку никаких оснований нет – Тесман многим ему обязан. Но под благодарностью на дне души лежит неприязнь. Тут и былая ревность, все еще не утихшая, и страх перед ловкостью и умелостью Бракка во всех делах, и ожидание подвоха… и вообще они люди несовместимые.
Но вот все уладилось. Собираются на вечеринку. А пока – «по стаканчику пунша!» Все, кроме Левборга. «Это не по моей части», – говорит он. Гедда уговаривает. Соблазнитель Бракк иронизирует: «Холодный пунш ведь не яд!» «Для кого как», – отвечает Левборг.
Правда, для него это яд, он знает. Порядочный Тесман не участвует в уговаривании, это бесчестно – соблазнять алкоголика, бросившего пить. Тесман увел Бракка в сад, оставил Гедду развлекать Левборга. Но вот забежал:
Тесман. Знаешь, Гедда, я хотел спросить тебя, не принести ли все-таки сюда пуншу? По крайней мере тебе? А?
Гедда. Спасибо, мой друг. И парочку пирожных…
Тесман. Хорошо.
И принес пунш и два стакана.
Гедда. Но ты налил два стакана! Господин Левборг ведь не желает.
Забыл! Опять забыл! Сам растерялся от удивившей его забывчивости. Неловко пробормотал, что фру Эльвстед потом придет, что это для нее… Но ведь забыл то, что нельзя было забывать, стаканчик-то и оказался роковым.
А дальше состоялось парное «забывание», приведшее к катастрофе.
Левборг прямо на улице потерял драгоценную рукопись, Тесман поражается – «и даже не заметил». Забыл про то, в чем смысл его жизни! Тесман говорит: «Пожалуй, это одно из замечательнейших произведений, которые когда-либо были написаны!»
Тесман. Признаюсь тебе в одном, Гедда. Когда он кончил, во мне шевельнулось что-то нехорошее.
Гедда. Нехорошее?
Тесман. Я позавидовал Эйлерту, что он мог написать такую вещь.
И вот ее-то Эйлерт теряет.
И «даже не замечает». Тесман подобрал, догнал Эйлерта и…
Гедда. Почему ты не отдал ему пакет сейчас же?
Закономерный вопрос. И страннейший ответ:
Тесман. Я побоялся… он был в таком состоянии…
Ну, не отдавать, но сказать-то можно было! Или хоть на следующий день при встрече с Теа, сходившей с ума из-за пропажи.
Тесман (Гедде). Но ты, верно, сказала, что она у нас?
Гедда. Нет. А ты разве сказал фру Эльвстед?
Тесман. Нет, мне не хотелось…
Чертовщина какая-то. Человек все время говорит, что он хочет отдать чужую величайшую ценность ее владельцу, но как доходит до дела, даже не говорит, что ценность у него. Надо побежать, надо отдать…
Гедда. Нет, не отдавай!.. Дай мне сначала прочесть.
Тесман. Нет, милочка Гедда, никак не могу, не смею, ей-богу.
Он из рук не выпускает рукопись. Но вот сообщение – тетя Рина при смерти. Тесман забегал – где пальто, где шляпа? И… забыл рукопись, которую уже пора отдать, уже утро…
Гедда. Пакет, Тесман!
Тесман. Давай!
Гедда. Нет, нет, я пока спрячу сама.
Тесман уходит. Отдал. Хотя предчувствовал почему-то, что это опасно. Сам же говорил об этом! Оставил! И Гедда сжигает рукопись.
Как ни кричит потом Йорген, как ни стучит кулаками по столу, его гнев серьезно опровергается словами Гедды.
Гедда. И ты признался мне, что позавидовал ему.
Тесман. Господи! Ведь нельзя же было понимать этого так буквально!
Гедда. Во всяком случае, я не могла вынести мысли, что кто-нибудь может затмить тебя.
И это при известном нам отношении Гедды к мужу? Насмешка, что ли? Да. И очень жестокая. Она вытаскивает наружу подспудное желание Тесмана.
И наконец, в финале Тесман «забывает» вдруг свою любовь к Гедде и саму Гедду. Он весь в бумагах. Он искупает свой грех восстановлением книги Левборга по черновикам. Он забывает свои слова первого акта: «Гедда – ведь это венец всего!» Теперь Гедда мешает. Надо уйти от нее в укромный уголок. Или она пусть уйдет в укромный уголок болтать с Бракком. Мешает Гедда. Когда раздастся выстрел и все обнаружится, будет потрясение. Но актер, играющий Тесмана, не может не почувствовать, что это, если можно так выразиться, ожиданное потрясение. А может быть, рискнуть, сказав: втайне желаемое потрясение? Раньше, чем Гедда ушла из жизни, она ушла из жизни Тесмана. Так построена автором эта сложная линия. Так она ощущается при первом чтении. Так осознается в процессе многократного исполнения этой роли.
Неужели он мог желать гибели своей жены? Он, тихий, добрый Тесман? Выдумки, выдумки! Но вспомним другую пьесу Ибсена – «Строитель Сольнес». Там есть монолог Сольнеса, где он говорит, что его вина в возникшем пожаре его дома и гибели в огне двух его малолетних детей. Неужели он мог желать гибели своих малюток? Нет, не желал. Но жаждал катастрофы в подсознании, чтобы начать новую жизнь. Видел неисправный дымоход, замечал опасность, но «забывал» починить. Он – строитель! – забывал. И свершилось. Он обязан был не забыть, но забыл. В этом его вина.
Тесман был обязан в атмосфере только что случившейся гибели Левборга заметить состояние Гедды, вспомнить, что в комнате, куда она уходит, лежит заряженный пистолет, но не вспомнил, забыл. И зритель не может сочувствовать его горю. Это не роковые совпадения трагедии. Это случайности «новой драмы», отражающие жестокую закономерность.
И наконец, сама героиня. Слово «проницательность», многократно уже употребленное по отношению к ней, проявляет ее острый ум и ее интуицию. В черном свете видит она окружающих ее людей. Жестка и жестока с ними. И в результате все ее оценки оказываются обоснованными. Ее последовательное тотальное отрицание почти революционно. В каждой сцене, в каждом контакте взрывает она буржуазную успокоенность. Именно это отпугивало в ней зрителей премьеры столетней давности. Именно это привлекало внимание крупнейших актрис начала века. Именно это современных зрителей, особенно женщин, заставляет с уважительным интересом вглядываться в героиню. Зрительницы не отворачиваются от ее злостных поступков, но пытаются понять их причину. Это трудно. Как и в случае с Левборгом, здесь мы имеем дело с яркой индивидуальностью (что привлекательно), граничащей с крайним индивидуализмом (что замыкает героиню в себе, окружает ее непроницаемой скорлупой).
Гедда не революционерка. Гедда экстремистка. Ее поведение, как всякий экстремизм, в своем глобальном нарушении мещанских норм, в своей запредельности смыкается с конформизмом и, в конце концов, с тем же мещанством. Бракк говорит ей: «Не избежать скандала… Того, чего вы до смерти боитесь». Да, боится скандала. Демонстрирует свою независимость от Тесмана и его карьеры, но хочет жить в роскошной вилле, хочет иметь лакея и верховую лошадь для прогулок. Не любит мужа, но вовсе не собирается уйти от него. В свое время не решилась соединить свою судьбу со скандальным Левборгом и поражается, как это замужняя Теа открыто говорит о своей любви к Эйлерту.
Красота – вот мерило ее жизни. Но все, что она видит, лишено для нее красоты. Отвратителен запах цветов, мизерна кропотливая научная деятельность, которой занимаются муж и его коллеги, омерзительна мысль о беременности и будущем ребенке. Однажды она восклицает: «Наконец-то смелый поступок… В этом есть красота».
Это о том, что Левборг покончил с собой выстрелом в висок – так красиво! Но когда выясняется, что выстрел был не добровольный, а случайный, и не в висок и не в грудь (это бы «тоже ничего»), а в живот, тогда: «Только этого недоставало! За что я ни схвачусь, куда ни обернусь… всюду так и следует за мной по пятам смешное и пошлое, как проклятие какое-то!»
В своем отрицании, в своей красоте и незаурядности Гедда тоже вырвалась из бесконечного ряда песчинок. Она глыба. И у нее – тоже был выбор – давить, властвовать или самоуничтожиться. Она властвовала. В своем ограниченном кружке она была Клеопатрой, утверждающей новую мораль. В доступной ей сфере она хотела «держать в руках судьбу человека». И получилось. Все зависели от нее – и Тесман, и тетя Юлле. И простодушная Теа попалась в ее сети. И Бракк, полный вожделения к ней, зависит от ее решения. А ей не нужен любовник. Ей нужна власть. Поэтому она и не сближается с ним, и не отпускает его, сохраняя в нем смутные надежды. Последний, но главный – Эйлерт. Он вошел в ее дом независимым человеком. Она нашла его слабое место, и он болезненно и мучительно попал в число подданных. Но он слишком талантлив и слишком строптив. Ему была дана не смутная надежда, как Бракку, а пистолет и приказ на самоуничтожение. Пусть коряво, пусть искривленно, но приказ был выполнен. Да, Клеопатра. Да, Наполеон в юбке, воюющий с беззащитными мещанами на узеньком домашнем поле битвы.
Но вот изменились обстоятельства. Оказалось, что Гедда множеством нитей связана с презираемым ею миром: Левборга больше нет. Тесман и Теа объединились в мышиной работе с бумагами покойного, но Гедде не пробиться в их мирок. Остался Бракк. Но теперь уже она зависит от него. Он шантажирует и не ждет больше ее воли, а требует подчинения. Власть кончилась. Оборвались нити. А просто жить она не может. Нет любви. Ни к людям, ни к природе, ни к прошлому. Нет памяти. Сверхчеловек совершает свою последнюю акцию – убивает себя. Вот все, что в результате оказалось подвластно свободной воле.
Не будем идеализировать историю. Вместе с именами героев в ее анналы попадали имена и деяния злодеев. Был Нерон, был Герострат, была святая инквизиция. Были многие людоедские войны с призывом уничтожать врага, его жилище, его родных и детей дотла. Были кровавые тираны и кровавые разбойники. В древнейшие времена самые невинные приносились в жертву богам. Но все это злодейство творило свои кровавые дела либо из ошибочно узко понятой справедливости, либо под циничным прикрытием той же справедливости. Черное почитало себя белым, или притворялось белым, или издевательски заставляло признать себя белым. Зло свершалось «во имя того, чтобы…» или «потому что…». Жертвы приносились, чтобы задобрить богов, инквизиция действовала от имени Бога, войны велись во имя веры. Самые жестокие и коварные властители действовали якобы в интересах народа и от имени народа.
Корысть, месть, зависть, ревность, властолюбие – вот подлинные побудительные причины преступления, всегда скрываемые, всегда камуфлируемые под деяния «во имя» и «от имени». Зло творит свои черные дела, но всегда старается рядиться под добро. Тем самым признавая существование добра и его первенство. Как ни страшен, как ни силен ад, он лишь полюсная противоположность рая. Рай существует. Так думали люди.
Но вот новое явление. Процитируем очень интересную статью Ксении Мяло «На путях бунта: от протеста к террору»: «… Уже в XVIII веке обозначилась и другая линия, исходящая из представления о человеке как вместилище разрушительных и несущих смерть инстинктов, которым тем не менее надо даровать свободу. С уникальной последовательностью эта посылка была доведена до своих крайних выводов в творчестве маркиза де Сада. В философии Сада «свобода» как абсолютная ценность укрепляется не «кровью тиранов», но кровью любого человека, которую другой человек пожелает пролить во имя утверждения собственной свободы. «Примите свободу преступления, – писал Сад, – и вы навсегда войдете в состояние бунта, как входят в состояние благодати»».
То есть впервые сформулирована мысль хуже чем людоедская: цель преступления – само преступление. Объект насилия неважен, возможна любая подмена. Впервые, но не в последний раз. Скверна насилия как самовыражения норовит прилепиться к днищу корабля революции. Эскалация бесовщины от узких кружков самоубийц и сексуального бунта, от бомбистского анархизма и нечаевщины до левацкого загиба и до терроризма 70‑х годов. До группы «Баадер-Майнхоф» в ФРГ, до «красных бригад» в Италии.
Зловещими хамелеонами меняя цвета, окрашиваясь то красным, то черным, террористы творят насилие и проповедуют насилие. Вот несколько высказываний (взято из той же статьи Ксении Мяло).
Теоретик анархизма Макс Штирнер: «То, что надвигается на нас, – это не новая революция, а мощное, гордое, бессовестное и бесстыдное преступление».
Ульрика Майнхоф (группа «Баадер-Майнхоф»): «Мы должны взрывом вызвать фашизм к жизни, чтобы все увидели его, и тогда народ обратится к нам в поисках руководства». Она же: «Насколько интереснее учиться грабить банки и выскакивать на полном ходу из машины, чем сидеть за пишущей машинкой».
Ульрика Майнхоф (о поджоге универмага во Франкфурте-на-Майне, где погибло множество людей): «Прогрессивное значение пожара в универмаге заключается не в уничтожении товаров, оно заключается в преступности акта, в правонарушении как таковом».
Андреас Баадер: «… Человек и история творятся самопожертвованием и убийством».
Бернардина Дорн (лидер группы «везерменов», в связи с убийством бандой Мэнсона беременной актрисы Шарон Тейт и ее гостей): «… Сначала они приканчивают этих свиней, затем обедают в той же комнате, а потом еще втыкают свинье Тейт вилку в живот. Здорово!..»
Антонио Негри (профессор Падуанского университета, ныне находящийся под следствием по обвинению в террористической деятельности): «Полное жизни животное, свирепое со своими врагами, дикое и свободное в своих страстях, – такой мне хочется видеть коммунистическую диктатуру».
Вот предел демагогии, вот крайнее выражение маскировки, подмены понятий и лозунгов.
Одиночные убийства. Взрывы и поджоги в общественных местах, похищения, пытки, устрашающие акции вандализма, коллективные самоубийства (как это было при конце группы «Баадер-Майнхоф» в тюрьме «Штаммгейм»). Бунт против буржуазности, бунт против мещанства. Подавленная, стертая 1/5 000 000 000 человечества утверждает себя через крайний индивидуализм и через насилие. Они говорят о терроре, заключенном в самом строении общества и ежесекундно применяемом в отношении каждого из его членов. Говорят об «исполнительском терроре» – о поголовной вине всех людей, одетых в униформу. Называют (не без основания) буржуазное государство фашистским, борются с ним и сами исповедуют фашистский дух и фашистские методы. Для полного самовыявления, для полного проявления силы индивидуумы-насильники вынуждены группироваться. Создаются банды, отряды, целые тайные армии. Союз индивидуальностей рано или поздно, но неизбежно приводит к созданию жесткой системы, где все определяют дисциплина и приказ начальника, иногда безличного, невидимого и незнаемого рядовыми членами группы. Крайности смыкаются в этом порочном круге. В борьбе с цивилизацией используются все более извращенные достижения цивилизации – оружие, химия, транспорт. Цивилизация создает все новые средства для уничтожения самой себя. Дому человечества угрожает опасность быть разрушенным.
Оговоримся: эта апокалипсическая картина отражает лишь подпольное микробное кишение. Запас прочности еще велик, народный здравый смысл не утерян, мощны силы, способные противостоять скверне. Но сейчас речь идет о симптомах болезни. Болезни, быть может, опасной. Социальный оптимизм, вера в будущее не должны делать нас беспечными в отношении процессов, которые могут замедлить и даже на время извратить неодолимый материальный, духовный и социальный прогресс.
Во времена Ибсена все это еще не расцвело ядовитым цветом. Это были еще зеленые побеги сорняков, растущие рядом с идеями обновления и прогресса. Что-то доносилось из Европы – отдельные вспышки, тогда еще трудно отличимые от обыкновенной уголовщины. В Норвегии всего-то – кружок Йегера, где собиралась модная богема, все зло видевшая в христианстве. Кружок выработал «новые десять заповедей», из которых первая – «Не почитай отца и мать», а последняя – «Покончи с собой». Но тогда это казалось чем-то несерьезным – масками смерти на карнавале. Члены этого кружка, конечно же, читали и смотрели Ибсена, были его поклонниками: он воплотитель «нового духа».
А что же Ибсен? Да, этот «кабинетный» по преимуществу человек ощутил и выразил «новый дух». Но он же – еще тогда – увидел обратную сторону зарождающегося процесса. Не он один, но в театре – он первый и по-своему. Он отверг рутину и явил «дух протеста», но художественным гением догадался, что говорит не о духе социальной революции, а о будущем левацком бунте. Он выразил, но нигде не утвердил, не романтизировал этот дух. Там, за поляной новых невиданных цветов, он предощутил пропасть и дал ощутить ее тем, кто следовал за ним. Не декларациями. Всегда – средствами театра, средствами нового драматического письма. Именно отсюда это неожиданное, из глубины идущее осмеяние, снижение «нового героя». В странных вспышках смеха, возникающих в зале во время трагических событий, и есть мгновения прямого разговора автора со зрителем помимо персонажа, проявление авторской точки зрения. Автором задана невозможность катарсиса – очищения, зритель должен насторожиться, напрячься от финала и оглянуться на себя и на жизнь.
Через тридцать лет появятся первые пьесы Бертольта Брехта. К концу 20‑х годов сформируется его театр и его эстетика – театр откровенно политический, агитационный, эстетика откровенно нетрадиционная, выворачивающая все привычное наизнанку, пародирующая. Ибсен и Брехт только на первый взгляд кажутся полюсными противоположностями. Брехтовское «очуждение» должно в числе своих предков называть пьесы великого норвежца. Осмеливаюсь утверждать это не в результате прочитанных исследований, а как актер, которому довелось играть и того и другого драматурга и который на собственном опыте ощутил это сходство.
Политический театр Брехта старался разрушить привычные театральные эмоции, разорвать действие – зонгом, пародией, неожиданной параллелью, прямой публицистикой. Цель – заставить зрителя думать над реальной проблемой, а не переживать некую условную проблему. Для Брехта театр с его традициями, с его массовостью, с его силой воздействия – инструмент для пробивания дыры сквозь эмоции в сознание. Метод – резкий обрыв действия, смещение жанровое и ритмическое.
Ибсен не имел подобных целей, не ставил подобных задач. Действие у него замкнуто в сюжете и не рвется. (Хотя вспомним «Пер Гюнта»!.. И все же в большинстве пьес не рвется.) Но внутри действия тонко и почти неуловимо происходит это самое смещение. И тогда – рывок от драмы почти к пародии, и тогда эти неожиданные реакции зрителя. Цель – пробить скорлупу театральности, вывести зрителей в реальный мир и поставить перед реальной катастрофой. Новыми средствами воздействовать на новых людей. Остеречь и заставить думать. Вот она – активная позиция автора.
Ибсен не имел прямых последователей, не имел учеников. И, однако, влияние его на всю западную драматургию огромно. И не только на драматургию. И не только на западную. Можно бы покопаться в текстах и в многочисленных трудах исследователей – проследить эти влияния: и в философском, и в психологическом, и в профессионально-драматургическом плане. Но сейчас речь о другом.
Речь о позиции, о зоркости и об ответственности художника. Культ сверхчеловека, культ насилия, примат зверства в человеке, которое гораздо омерзительнее самых жестоких проявлений в животном мире, за последние два века нашли довольно многочисленных воспевателей.
Современники Фридриха Ницше (в том числе и Ибсен) почитали его скорее поэтом, чем философом. Не будем спорить с ними. Но, доведись Ницше дожить до гитлеризма, он вряд ли смог бы сохранить сверхчеловеческое спокойствие в отношении последствий своих слов и поступков, как его герой Заратустра. Наверно, он был бы подобен ученому, который в кабинете теоретически делал выкладки о возможности расщепления атома, а потом увидел атомный взрыв над Хиросимой и услышал от организаторов взрыва благодарные ссылки на свое имя.
Гамсун, поэт духовного и физического голода, поэт мистической женственности, остро чувствовавший возможность реванша для ничтожной песчинки человечества в сверхпроявлениях, дающих неуязвимость, пришел к партии Квислинга, сотрудничавшей с немецким фашизмом.
Пиранделло всем сердцем посочувствовал жертвам насилия – социального и индивидуального. Но он столько раз пережил и выразил безвыходность положения, что уверился в неизменности насилия, в его естественности. Не только обстоятельства, но и идеология привели его в фашистскую партию Муссолини. К счастью, у него хватило чутья и мужества осознать ошибку.
Поэтизация насилия в любых формах и само насилие – оторваны друг от друга или связаны?
«Переступить», нарушить давящую мораль; нарушить угнетающий закон и сделать это не тайно – не прятать жертву, а выставить на публичное обозрение. Видимая безмотивность преступлений создает маску бескорыстия (хотя на деле зачастую это именно маска, а вовсе не бескорыстие). В этом есть что-то просящееся на подмостки, что-то от жуткого театра. «Революция – это театр на улице!» (с. 205), – пишет один из теоретиков терроризма. А вот еще террористка Б. Штюрмер в «Воспоминаниях о банде Баадер-Майнхоф»: «Все мы вошли в политику как в продолжение студенческих хэппенингов» (с. 204). Игровое начало, театр присутствуют во всех мистериях молодых бунтарей. И вполне осознанно. Мещанские буржуазные будни перечеркиваются освобожденным карнавалом, блаженным экстазом: уличные беспорядки, «коллективная любовь», горящие машины жалких собственников, факелы универмагов и кинотеатров с воющей и гибнущей толпой, а потом обязательно ритуальные клятвы подполья, детектив конспирации, по собственным признаниям террористов, являющийся калькой с современного кино, и… пытки, убийства, кровь, о которых кричат сами убийцы по телефону, кричит западное радио, телевидение. Безмолвно кричат жертвы с миллионов фотографий в газетах, роскошных журналах на дорогой бумаге – кричат кошмаром изощренной жестокости.
В мире, где все это происходит, сам театр (в обычном смысле – как профессиональное учреждение, где актеры разыгрывают представление перед зрителями) тоже меняется. Театр выплескивается на улицу, улица врывается в театр. И тут вспоминается и выносится на знамена формула необыкновенно одаренного, полубезумного поэта и мечтателя Антонена Арто: «Театр – это преступление». И вот уже преступление становится не просто элементом сюжета, а самим предметом разглядывания. Сперва условно, а потом и реально. Сперва разворачиваются на сцене преступления морали: попрание стыда, приличий, брезгливости – всех охранительных покровов человеческой души. А потом и сам акт смерти ставится на службу для возбуждения нового «катарсиса» в пресыщенном зрителе. Миллионы раз на тысячах сцен и экранов все более натурально пробуют осуществить для зрителя насильственную смерть. Во всех подробностях, под микроскопом, замедленно, чтоб ничего не пропустить. И наконец, само реальное убивание, отнимание жизни снимается на пленку и выдается за искусство (правда, подпольно, но от этого с не меньшим рыночным спросом), – это было в США. «Нельзя же понимать все так буквально!» – может быть, воскликнул бы поэт театра Антонен Арто, будь он жив и знай он об этом. Но уже выкликал эти слова Йорген Тесман. И Гедда Габлер уже совершила преступление, почувствовав первый импульс именно в желаниях Тесмана.
«Новая драма» Ибсена создала психологическую катастрофу перед зрителем. Новейшая драма – хэппенинг – создавала реальную катастрофу для зрителей, потому что сами зрители включены в действие. Терроризм, используя театральные средства вместе со средствами устрашения, претендует на вызывание национальной и даже мировой катастрофы. Намерения и последствия перестают быть столь удаленными, что связь их не прочитывается. Жан Жене, пришедший в литературу из уголовного мира, ныне известный поэт и драматург, певец преступления, пишет: «Насилие и жизнь – это почти синонимы. Росток, разрывающий оцепенелую землю, птенец, пробивающий скорлупу яйца, оплодотворение женщины, рождение ребенка – все это суть явления, которые можно назвать насилием. Всякая организованная социальность пронизана «брутальностью», жестокостью, всякое «спонтанное насилие жизни», естественно продолжаемое революционным насилием, стремится разбить эту «организованную жестокость». Мы обязаны Андреасу Баадеру, Ульрике Майнхоф, Холтеру Майнсу, РАФ в целом тем, что они заставили нас понять – не словами, а своими действиями: лишь насилие может покончить с жестокостью» (с. 200–201).
В этом панегирике насилию трудно различить «хорошее» насилие от «плохой» жестокости. Если все дело в социальной организованности, то банда – тоже зародыш социума (как, кстати, показали дальнейшие события с «красными бригадами», в частности убийство Альдо Моро и последующий судебный процесс).
Не посмеем вмешиваться в авторские симпатии и авторское право Жана Поля Сартра. Он написал огромную книгу о Жене, он посвятил ему свое замечательное исследование о Бодлере. Он увидел в нем надежду французской литературы. Ему виднее. Но горько вспоминать, что Сартр – один из крупнейших французских драматургов, писатель, мыслитель, философ – в свои шестьдесят лет бегал в кедах по Парижу, рассовывая маоистские листовки прохожим, подогревая и без того раскаленную атмосферу насилия, бессмысленного, безадресного. Это было в 68‑м. Да, французский маоизм отличался от китайского, не все еще факты насилия в Китае были известны. Но в 66‑м году был убит хунвэйбинами Лао Шэ, выдающийся писатель. Убит среди множества и множества других. А ведь его не мог не знать и не ценить Сартр.
Новый «катарсис» – в замене клюквенного сока Пьеро настоящей кровью безымянной жертвы.
Ибсен – так давно, еще в самом начале великого кризиса духа, еще в самом начале великих перемен, – одним из первых начал ломку старого и выразил «новый дух». Но он не совершил ошибки, не побежал вслед за своими последователями, как это сделал Сартр. Ибсен остался за своим письменным столом, как капитан за штурвалом. Подобно своему деду-моряку, он знал, что нужно много мужества, стойкости, зоркости, чтобы выстоять в бурю. Мир грозно тревожен. Есть смерть, есть насилие, есть война. Не закроем на это глаза, покажем людям то, что есть. Но не прославим! Не воспоем! Восстанем против насилия. В этом труд. В этом позиция. В этом борьба.
P. S. Спектакль «Гедда Габлер» был поставлен в театре имени Моссовета в 1984 году. Режиссер – Кама Гинкас.
Роли исполняли: Гедда – Н. Тенякова, Тесман – С. Юрский, Бракк – Е. Стеблов, Левборг – Г. Бортников, Теа – И. Аленикова, Тетя Юлле – Г. Костырева.
Спектакль прошел при аншлагах более 100 раз.
P. P. S. Я вспомнил об этой статье после 11 сентября 2001 г.