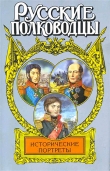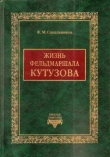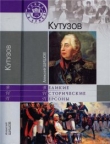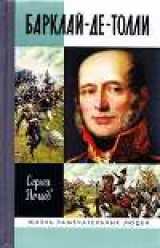
Текст книги "Барклай-де-Толли"
Автор книги: Сергей Нечаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
Тем временем обстановка на западной границе России становилась все тревожнее, и одним из инициаторов разработки планов будущей войны с Францией стал Барклай-де-Толли, подавший в марте 1810 года Александру I записку с названием «О защите западных пределов России».
Это был набросок целой стратегической программы действий в случае вооруженного столкновения с Наполеоном. Так как за два года до войны было крайне трудно точно угадать, куда направит удар будущий противник, Барклай-де-Толли предлагал заняться укреплением обороны на трех основных направлениях: в Прибалтике, в Белоруссии и на Украине. Оборона должна была опираться на оборонительные линии по Западной Двине и Днепру в сочетании с уже имевшимися, но требовавшими усиления и модернизации крепостями – Рига, Динабург, Бобруйск, Киев, а также на особые укрепленные лагеря и крупные склады продовольствия.
Действующая армия была важной составной частью этой системы. Но сухопутные силы России были разбросаны по огромной территории от Финляндии до Камчатки. К тому же восьмой год шла война с Персией, и на Кавказе находилось около 30 тысяч человек под командованием генерала от кавалерии А. П. Тормасова. Шестой год продолжалась война с Турцией – Молдавской армией, в составе которой было порядка 46 тысяч человек, командовал генерал от инфантерии М. И. Голенищев-Кутузов. Немалые силы находились и в столь знакомой Барклаю-де-Толли Финляндии. Так что войск было много, но они были весьма разобщены. Это понятно, «такое размещение было прямым следствием войн, которые вела Россия» [8. С. 261].
В связи с тем что западная граница оставалась практически без прикрытия, 19 (31) марта 1812 года последовало высочайшее повеление о составлении из всех войск, собранных в западных губерниях, двух армий. Одна из них, получившая название 1-й Западной, была вверена самому Барклаю-де-Толли, а другая, названная 2-й Западной, – князю Багратиону. Оба главнокомандующих были облечены равной властью, но Барклай-де-Толли, как военный министр, мог передавать Багратиону приказания именем императора.
3-я Резервная (Обсервационная) армия была сформирована в апреле и поступила под командование генерала от кавалерии А. П. Тормасова.
Однако следует отметить, что, помимо плана Барклая-де-Толли, существовало еще не менее трех десятков проектов ведения будущей войны против Наполеона, исходивших как от русских генералов, так и от иностранцев. В частности, наступательный проект предлагал князь Багратион, которого «захлестывали обида и стыд от самой мысли об отступлении» [5. С. 447].
При этом «некоторые русские участники войны и историки, условно говоря, “недруги Барклая”, полагали, что у российского командования не было заранее продуманного замысла отступления, каковое, по их мнению, осуществлялось стихийно, на ощупь, под давлением обстоятельств» [114. С. 36].
* * *
На самом же деле идея «скифской войны» родилась задолго до 1812 года, и впервые она была выдвинута именно Барклаем-де-Толли. На этот факт обращают внимание ряд весьма уважаемых авторов. Например, А. И. Попов пишет:
«Очевидно, что русское командование заранее предполагало применить “скифскую тактику” – об этом говорят все распоряжения Барклая перед войной и в самом ее начале» [114. С. 39].
Генерал М. И. Богданович считал:
«Весьма неосновательно мнение – будто бы действия русских армий в первую половину кампании 1812 года, от вторжения Наполеона в пределы России до занятия французами Москвы, ведены были без всякого определенного плана. <…> Не подлежит сомнению… что план отступления наших армий внутрь страны принадлежит не одним иностранцам… <…> и что главный исполнитель этого соображения, Барклай-де-Толли, сам составил его задолго до войны 1812 года» [19. С. 93–94].
Богданович пишет о Барклае-де-Толли:
«Давно уже он уверен был в необходимости отступать для ослабления неприятельской армии, и это убедительно доказывается словами, им сказанными знаменитому историку Нибуру в то время, когда Барклай, будучи ранен в сражении при Прейсиш-Эйлау 1807 года, лежал на одре болезни в Мемеле. “Если бы мне довелось воевать против Наполеона в звании главнокомандующего, – говорил тогда Барклай, – то я избегал бы генерального сражения и отступал до тех пор, пока французы нашли бы, вместо решительной победы, другую Полтаву”.
Нибур тогда же довел слова Барклая-де-Толли до сведения прусского министра Штейна, который сообщил их генералу Кнезебеку, а Кнезебек – Вольцогену и Фулю» [19. С. 104].
Отметим, что прусский министр Штейн – это Генрих-Фридрих-Карл фон Штейн (1757–1831), министр торговли, промышленности и финансов в кабинете короля Фридриха-Вильгельма III, возглавивший в октябре 1807 года прусское правительство. Генерал Кнезебек – это Карл-Фридрих фон Кнезебек (1768–1848), который во время войны 1806–1807 годов состоял при главной квартире русской армии. Соответственно, Людвиг фон Вольцоген (1774–1845) и Карл Фуль (1757–1826) – это тоже были прусские генералы на русской службе.
Свидетельство М. И. Богдановича имеет принципиальное значение, и есть смысл разобраться, откуда авторитетный военный историк взял эту информацию. Сам он ссылается на «Мемуары» французского генерала Дюма, опубликованные в Париже в 1839 году.
Гийом-Матьё Дюма, родившийся в 1753 году, был потомственным дворянином. В феврале 1805 года он получил чин дивизионного генерала, участвовал в сражениях при Ульме и Аустерлице, в марте 1806 года стал военным министром при Неаполитанском короле Жозефе Бонапарте, а когда тот занял испанский престол, вместе с ним покинул Неаполь и в июле 1807 года стал военным министром Испании.
Как видим, генерал Дюма был человеком весьма серьезным, и допустить какую-то непроверенную информацию из его уст крайне сложно. Вот, дословно, что он пишет в своих «Мемуарах»:
«Я узнал, что государственный советник Нибур, сын знаменитого датского путешественника, с которым я познакомился во время пребывания в Гольштейне, находится в Берлине. Я поспешил пойти увидеть его; а так как мы заговорили о предстоящей войне против России и о догадках, которые можно было бы сделать относительно наступательных планов императора Наполеона, он мне сказал, что с тех пор, как он узнал о том, что генерал Барклай-де-Толли стал главнокомандующим русских армий, он не сомневается, что тот будет реализовывать план оборонительной кампании, который он представил во время Тильзитского мира. <…> Нибур провел три месяца в Мемеле в близких отношениях с Барклаем-де-Толли, который, будучи тяжело ранен при Эйлау, был перевезен в Мемель, куда перебрался двор Пруссии. Нибур отлично запомнил все детали этого плана комбинированных отступлений, которыми русский генерал надеялся завлечь великолепную французскую армию в самое сердце России, даже за Москву, истощить ее, удалить от операционной базы, дать ей израсходовать свои ресурсы и снаряжение, а потом, управляя русскими резервами и с помощью сурового климата, перейти в наступление и дать Наполеону найти на берегах Волги вторую Полтаву. Это было страшное и очень верное пророчество; оно мне показалось таким позитивным и таким важным, что, едва присоединившись к генеральному штабу, я тут же поведал о нем князю Ваграмскому (маршалу Бертье. – С. Н.). Я не мог сомневаться, что он не доложит об этом императору, но со мной об этом больше не говорили» [165. С. 416].
Поясним, что упомянутый Нибур – это Бартольд-Георг Нибур (1776–1831), родившийся в Копенгагене и привлеченный в 1806 году министром Штейном на прусскую службу. А князь Ваграмский – это маршал Луи-Александр Бертье (1753–1815), неизменный начальник Генерального штаба Наполеона.
Как видим, генерал Дюма избегает принятых в мемуарах формулировок типа «по слухам…» или «рассказывали, что…», а называет конкретные имена людей, и это все были люди весьма ответственные и не склонные к фантазиям. В связи с этим довольно спорным выглядит мнение историка В. М. Безотосного, который пишет:
«Мнение Дюма-мемуариста – носит легендарный характер, и как свидетельство, полученное из третьих рук (Барклай – Нибур – Дюма), должно быть взято под большое сомнение. Даже если такой разговор имел место, то одно дело – частное мнение командира бригады, не несущего ответственности за свои слова, коим был Барклай в 1807 году, и совсем другое – план военного министра, принятый после серьезного анализа всех деталей обстановки и трезвой оценки последствий» [13. С. 90].
Да, в 1807 году Барклай-де-Толли был только генерал-майором, но после этого, как мы уже знаем, он получил богатейший опыт боевых действий в Финляндии. Там противник, ведя настоящую «скифскую войну», настолько измотал русских бесконечными отступлениями и нападениями партизан, что Михаил Богданович, став военным министром, твердо решил использовать этот опыт в борьбе с «Великой армией» Наполеона. И произошло это именно «после серьезного анализа всех деталей обстановки и трезвой оценки последствий». В этом вообще можно не сомневаться, так как Барклай-де-Толли всегда все делал только после серьезного анализа и оценки последствий.
Другое дело, что планы Барклая-де-Толли – а это был человек, аналитические способности которого высоко ценил император Александр – несколько раз корректировались. Тот же В. М. Безотосный отмечает, что «мысли Барклая не оставались законсервированными и неподвижными» [13. С. 90].
* * *
Как мы уже говорили, в марте 1810 года Михаил Богданович представил императору записку «О защите западных пределов России», в которой предлагал организовать оборонительные линии по Западной Двине и Днепру. Но тогда точно сказать, куда направит свой главный удар Наполеон, было невозможно. По этой причине Барклай-де-Толли считал, что нужно действовать «по обстоятельствам и при случае наступательно» [13. С.91]. Подчеркнем – при случае. И совершенно не факт, что этот случай представился бы…
Уже осенью 1810 года Барклай-де-Толли докладывал императору, что из-за недостатка средств и нехватки времени программа сооружения крепостей на предполагаемой линии обороны сокращается, и это послужило причиной для определенных изменений в вопросах планирования.
В начале 1811 года из-под пера военного министра вышли два варианта предполагаемых военных действий: наступательный и оборонительный.
Летом 1811 года «царь, по общему утверждению, неофициально утвердил план Фуля» [13. С. 92].
В некоторых источниках этого человека именуют Пфулем [27]27
Карл Людвигович (Карл Людвиг Август) фон Фуль (von Pfuel) (1757–1826) – барон, генерал-лейтенант (1809); с августа 1812 года выполнял дипломатические поручения императора Александра I, в 1814–1821 гг. – российский чрезвычайный посланник и полномочный министр в Гааге.
[Закрыть]. Он родился в Штутгарте и был видным прусским военным теоретиком, офицером Генштаба. После поражения Пруссии в 1806 году Фуль перешел на русскую службу в чине генерал-майора и вскоре стал ближайшим советником императора Александра. В 1811 году он был привлечен к составлению плана военных действий против Наполеона, и его план был основан на взаимодействии двух армий, из которых одна должна была, опираясь на специально построенный Дрисский лагерь, сдерживать противника, а другая – действовать ему во фланг и в тыл.
Генерал М. И. Богданович подчеркивает:
«В составлении Фулева плана не имел участия ни Барклай-де-Толли, ни кто-либо другой из наших известных военных людей. Барклай, военный министр <…> не только не одобрял этого плана действий, но приводил его в исполнение против воли» [19. С. 101–102].
Собственно, Барклай-де-Толли особо и не приводил «педантично-абстрактный» план Фуля в исполнение, что дало основание историку В. В. Пугачеву написать:
«Если по Барклаевому плану велась фактическая подготовка, то план Фуля по существу не оказал никакого влияния на русские военные приготовления» [116. С. 34].
«Это мнение ученого наталкивает на мысль, что план Фуля в 1811 году должен был маскировать настоящий ход подготовки к войне» [13. С. 92].
Относительно наступательного варианта плана Барклая-де-Толли следует сказать следующее: он был разработан после того, как в октябре 1811 года была заключена русско-прусская конвенция. Михаил Богданович сам был одним из подписавших этот документ, но он прекрасно понимал, что Пруссия – союзник ненадежный, а посему вариант был очень скоро скорректирован «с учетом внешнеполитических изменений». Тут, кстати сказать, военный министр окажется совершенно прав: буквально накануне войны Пруссия перейдет на сторону Франции, что станет важной дипломатической победой Наполеона.
* * *
В том же 1811 году И. Б. Барклай-де-Толли, младший брат министра – он тогда был полковником и отвечал в картографическом ведомстве генерала К. И. Оппермана за рекогносцировку и составление планов – доложил, что, по его оценкам, армия Наполеона насчитывает 500 тысяч человек, а вместе со шведами и турками – 600 тысяч человек.
Как мы очень скоро увидим, русская военная разведка весьма реально оценивала силы противника. Противопоставить им на главном направлении удара Россия могла лишь около 200 тысяч человек, а посему планы военного министра свернулись к тому, что необходимо будет вести оборонительную войну. В письме императору от 18 июля 1812 года Михаил Богданович написал:
«В настоящее время, когда должно заниматься исключительно безопасностью государства, возникает вопрос о том, как сосредоточить скорее все действующие силы армий, а не рассеивать их за границей на рискованные предприятия» [17. С. 304].
Что он имел в виду? Наверняка русские войска, находившиеся в это время слишком далеко от предполагавшегося театра военных действий, – например, в Финляндии и даже в Сербии.
* * *
Еще раз подчеркнем: к этому времени, благодаря донесениям разведки, все симптомы скорого нападения Наполеона были уже явными и Барклай-де-Толли стал предпринимать усилия по дезинформации противника.
В «игру», в частности, был задействован уже известный нам Давид Саван, который, говоря современным оперативным языком, «должен был играть роль резидента, потерявшего связь с центром» [13. С. 100]. Через генерала Нарбонна он передал французам сведения, из которых следовало, что русские собираются дать сражение в приграничной полосе. Это весьма укрепило уверенность Наполеона, всегда делавшего главную ставку на генеральное сражение. Вот и теперь он писал своему брату Жерому: «Я перейду Неман и займу Вильно. <…> Когда этот маневр будет замечен неприятелем, он будет либо соединяться, чтобы дать нам битву, либо сам начнет наступление» [159. С. 470]. Поэтому легко представить себе степень удивления и раздражения французского императора, когда в начале войны он узнал об отходе русских войск.
* * *
Но вернемся к плану барона Фуля, который предусматривал создание Дрисского лагеря между дорогами на Санкт-Петербург и Москву: лагерь должна была занять армия Барклая-де-Толли, закрыв оба направления и приняв на себя главный удар, тогда как армия князя Багратиона должна была действовать в тыл и фланг французам.
Михаил Богданович не одобрял этот план, и, как пишет В. М. Безотосный, «вряд ли можно до такой степени принижать в тот критический для государства момент аналитические способности бесспорно умного человека, каким был Александр I, что он не смог разглядеть бросающиеся в глаза противоречия между проектами своего советника-теоретика и опытного практика – военного министра. Сомнительно, чтобы русский император <…> оказался настолько неграмотным в военном отношении и не отличил существенные расхождения во взглядах авторов» [13. С. 101].
Фактически император Александр держал про запас оба плана. Это значило, что «остановиться на каком-то одном плане действий власть не смогла. Отчасти это отражало умонастроение императора Александра, нередко в своих действиях предпочитавшего уйти от окончательного, твердого решения» [5. С. 434].
С другой стороны, такое двойственное положение весьма устраивало государя: неудачу всегда можно было бы списать на военного министра, а лавры победы присвоить себе. По этой причине, кстати, Александр I и прибыл в армию, постоянно вмешивался в ее управление и старался направлять ход событий, что крайне раздражало Михаила Богдановича, знавшего, что, согласно параграфу 18 «Учреждения для управления Большой действующей армией», «присутствие императора слагает с главнокомандующего начальство над армией» [140. С. 7].
В подобных условиях, естественно, Барклай-де-Толли «не мог чувствовать себя полноправным хозяином и считал себя первым помощником императора» [13. С. 103].
Император Александр I был умным человеком и понимал, что план отступления перед Наполеоном будет воспринят в штыки в русском обществе. Потом, 24 ноября 1812 года, он так и написал Барклаю-де-Толли:
«Принятый нами план кампании, по моему мнению, единственный, который еще мог иметь успех против такого врага, как Наполеон <…>, неизбежно должен был встретить много порицаний и несоответственной оценки в народе, который <…> должен был тревожиться военными операциями, имевшими целью привести неприятеля в глубь страны. Нужно было с самого начала ожидать осуждения, и я к этому приготовился» [13. С. 104].
А приготовился государь, бывший «едва ли не самым искушенным человеком в России в искусстве дворцовых интриг и мастером закулисных комбинаций» [15. С. 12], следующим образом: сначала «подставил» генерал-майора Фуля, который за шесть лет нахождения на русской службе так и не выучил ни одного русского слова, а второй жертвой общественного мнения сделал Барклая-де-Толли. Насколько цинично это было осуществлено – мы скоро увидим.
Александр Павлович вообще был мастером двойной игры. Недаром же Наполеон говорил про него:
«Александр тонок, как булавка, остер, как бритва, фальшив, как пена морская; если бы надеть на него женское платье, то вышла бы прехитрая женщина» [90. С. 226].
Очень верно подмечено! Мы же пока отметим то, что и своего военного министра император в 1812 году «подставил» по двум направлениям: во-первых, он дал лишь словесное одобрение отступательного плана ведения войны, без официальных документов, на которые мог бы сослаться Михаил Богданович; во-вторых, покинув армию, он не отдал четкого приказа по поводу того, кто остается главнокомандующим над всеми русскими войсками.
Мнение историка Е. Р. Ольховского:
Барклай-де-Толли обладал обширными познаниями в военном деле и в военной истории, любил учиться и обогащаться новыми знаниями. Он избегал любых излишеств, больших обществ, не любил играть в карты. Барклай-де-Толли вел скромную жизнь. Солдаты уважали своего командира за необыкновенную храбрость, правдолюбие, заботу о них. Как выглядел Барклай-де-Толли? Он был высокого роста, имел продолговатое бледное лицо, голова была лысой, носил бакенбарды. Поступь его и все приемы выражали важность и необыкновенное хладнокровие. Наружность его, с первого взгляда внушавшая доверие и уважение, являла в нем человека, созданного командовать войсками. <…> Спокойствие духа никогда ему не изменяло, и в пылу битвы он распоряжался точно так, как это было в мирное время. Он не обращал ни на кого внимания, не замечал, казалось, неприятельских выстрелов. Бесстрашие его не знало пределов. В обращении с равными он был всегда вежлив и обходителен, но ни с кем близко не сходился; с подчиненными от высших до низших чинов был кроток и ласков. Никогда не употреблял оскорбительных или бранных выражений, всегда настоятельно требовал, чтобы до солдата доходило все то, что ему было положено по уставу.
Барклай-де-Толли неважно владел правой искалеченной рукой и слегка прихрамывал на правую ногу. Это внушало уважение к нему, от него веяло величественностью. Неутомимый в походе, Михаил Богданович почти все время проводил верхом на коне и слезал с него только для того, чтобы засесть за служебные бумаги, за «кабинетные труды». Равнодушие его ко всему, что касалось его личных удобств, было полным[105. С. 171–172].
Глава шестая
«Гроза двенадцатого года»
Соотношение силВ марте 1811 года в России «был произведен рекрутский набор по два человека с 500 душ» [142. С. 133].
В результате, как отмечает военный историк В. П. Федоров, из того, что было и «что успели сделать для сформирования резервов, было составлено три армии: 1-я Западная, 2-я Западная и 3-я Дунайская. Из резервов на скорую руку были образованы 1-я и 2-я Резервные армии, и, наконец, к 5 мая была еще сформирована 3-я Обсервационная армия, порученная генералу от кавалерии графу Тормасову, но нужно, опять-таки, не забывать, что резервные армии не успели получить окончательную организацию и, следовательно, не имели настоящего числа людей, а были, скорее, лишь кадрами трех действующих армий. Следовательно, при окончательном подведении итогов боевой готовности России к предстоящему кровавому спору во внимание принимать нужно лишь состав двух действующих армий и третьей обсервационной Тормасова, которая в силу необходимости сделалась тоже действующей, ибо Дунайская армия Кутузова была еще далеко, да и не успела окончательно освободиться от Турецкой войны» [142. С. 133–134].
К началу войны 1812 года Барклай-де-Толли командовал 1-й Западной армией, размещенной на границе Российской империи в Литве.
Когда он получал это назначение, император Александр сказал, что «настал момент, когда важнее деятельности по министерству становится служба непосредственно в войске» [8. С. 297].
Михаил Богданович согласился с этим и лишь поинтересовался, что делать с министерством.
«Вы останетесь министром, – последовал ответ, – однако же все дела канцелярские станет вершить князь Горчаков. Конечно же, и Алексей Андреевич, как глава Военного департамента, не будет отдел сих в стороне» [8. С. 297].
Услышав имя графа Аракчеева, Барклай-де-Толли сразу понял, что вопрос окончательно решен, и сдал «дела канцелярские» князю Алексею Ивановичу Горчакову, своему заместителю, участнику войны с Наполеоном 1806–1807 годов, кавалеру ордена Святого Георгия 3-й степени.
26 марта (7 апреля) 1812 года Барклай-де-Толли приехал в Ригу, где последний раз он был двадцать лет тому назад, а 31 марта (12 апреля) он уже прибыл в Вильно, где находилась главная квартира его армии.
По уточненным данным историка А. А. Подмазо, 1-я Западная армия имела на тот момент следующий состав [107. С. 60–64]:
Командующий: генерал от инфантерии М. Б. Барклай-де-Толли
Начальник штаба: генерал-лейтенант Н. И. Лавров
Генерал-квартирмейстер: генерал-майор С. А. Мухин
Дежурный генерал: флигель-адъютант полковник П. А. Кикин
Начальник артиллерии: генерал-майор граф А. И. Кутайсов
Начальник инженеров: генерал-лейтенант X. И. Трузсон
1-й пехотный корпус: генерал-лейтенант граф П. X. Витгенштейн
5-я пехотная дивизия: генерал-майор Г. М. Берг
14-я пехотная дивизия: генерал-майор И. Т. Сазонов
Две бригады кавалерии
Три артиллерийских бригады
Всего в корпусе: 28 батальонов, 16 эскадронов, 3 казачьих полка и 120 орудий.
2-й пехотный корпус: генерал-лейтенант К. Ф. Багговут
4-я пехотная дивизия: генерал-майор герцог Е. Вюртембергский
17-я пехотная дивизия: генерал-лейтенант З. Д. Олсуфьев 3-й
Бригада кавалерии
Две артиллерийских бригады
Всего в корпусе: 24 батальона, 8 эскадронов и 78 орудий.
3-й пехотный корпус: генерал-лейтенант Н. А. Тучков 1-й
3-я пехотная дивизия: генерал-лейтенант П. П. Коновницын
1-я гренадерская дивизия: генерал-майор граф П. А. Строганов
Два казачьих полка
Две артиллерийских бригады
Всего в корпусе: 26 батальонов, 2 казачьих полка и 84 орудия.
4-й пехотный корпус: генерал-адъютант граф П. А. Шувалов
11-я пехотная дивизия: генерал-майор Н. Н. Бахметьев 1-й
23-я пехотная дивизия: генерал-майор А. Н. Бахметьев 2-й
Бригада кавалерии
Две артиллерийских бригады
Всего в корпусе: 25 батальонов, 8 эскадронов и 78 орудий.
5-й резервный (гвардейский) корпус: цесаревич Константин Павлович
Гвардейская пехотная дивизия: генерал-майор А. П. Ермолов
1-я кирасирская дивизия: генерал-майор Н. И. Депрерадович
Две лейб-гвардии артиллерийских бригады
Всего в корпусе: 23 батальона, 20 эскадронов и 74 орудия.
6-й пехотный корпус: генерал от инфантерии Д. С. Дохтуров
7-я пехотная дивизия: генерал-лейтенант П. М. Капцевич
24-я пехотная дивизия: генерал-майор П. Г. Лихачев
Бригада кавалерии
Две артиллерийских бригады
Всего в корпусе: 24 батальона, 8 эскадронов и 84 орудия.
1-й кавалерийский корпус: генерал-адъютант Ф. П. Уваров
Всего в корпусе: 24 эскадрона и 12 орудий.
2-й кавалерийский корпус: генерал-адъютант барон Ф. К. Корф
Всего в корпусе: 24 эскадрона и 12 орудий.
3-й кавалерийский корпус: генерал-майор граф П. П. Пален
Всего в корпусе: 24 эскадрона и 12 орудий.
Летучий казачий корпус: генерал от кавалерии М. И. Платов
Всего в корпусе: 14 казачьих полков и 12 орудий.
По информации Д. Н. Бантыш-Каменского, во всех войсках 1-й Западной армии «было под ружьем 127 000 человек, орудий – 558» [11. С. 355], а по данным Н. А. Троицкого – «120 210 человек и 580 орудий» [136. С. 63].
До дня вступления «Великой армии» Наполеона в Россию расположение корпусов армии Барклая-де-Толли было следующим: главная квартира – в Вильно; корпус П. X. Витгенштейна – в Россиене, Кейданах и Юрбурге; корпус К. Ф. Багговута – в Оржишках и Яново; корпус Н. А. Тучкова 1-го – в Новых Троках (рядом с Вильно); корпус П. А. Шувалова – в Олькениках; корпус Д. С. Дохтурова – в Лиде (рядом с Гродно); кавалерийские корпуса: Ф. П. Уварова – в Вилькомире (рядом с Ковно); Ф. К. Корфа – в Сморгони (за Вильно); П. П. Палена – у Лиды; гвардия – по дороге в Дриссу, за Вильно, в Свенцянах. Летучий казачий корпус атамана М. И. Платова был выдвинут в район Гродно.
2-я Западная армия под командованием генерала от инфантерии князя П. И. Багратиона стояла у Волковиска, 3-я Резервная Обсервационная армия генерала от кавалерии А. П. Тормасова – у Луцка.
Кроме того, Дунайская армия адмирала П. В. Чичагова стояла на юге, в Молдавии и Валахии.
Еще примерно 35 тысяч человек составляли гарнизоны Риги, Митавы, Динабурга, Борисова, Бобруйска, Мозыря, Киева и Ольвиополя.
Генерал М. И. Богданович утверждает, что «число русских войск, расположенных на западных границах, простиралось вместе с казаками до 193 тысяч человек, а без казаков было под ружьем регулярных вооруженных сил до 175 тысяч человек» [19. С. 118].
По данным А. И. Михайловского-Данилевского, в трех армиях было «под ружьем 218 000 человек» [95. С. 30].
«Великая армия» Наполеона насчитывала, согласно М. И. Богдановичу, 608 тысяч человек, в том числе 492 тысячи человек пехоты и 96 тысяч человек кавалерии [19. С. 124].
По данным Н. А. Полевого, «“Великая армия” состояла 1-го июня 1812 года из 678 000 человек, из которых – 356 000 французов и 322 000 иностранцев» [110. С. 4].
А вот по информации французского военного историка Анри Лашука, в армии Наполеона было «не менее 600 000 человек, одиннадцать армейских копрусов, четыре кавалерийских корпуса и 1500 артиллерийских орудий» [80. С. 484]. Но при этом уточняется, что для вторжения в Россию были предназначены: на левом фланге – около 200 тысяч человек, в центре – около 80 тысяч человек, на правом фланге – 70 тысяч человек. Итого: 350 тысяч человек. Кроме того, к ним следовало бы добавить 30 тысяч человек из корпуса маршала Макдональда и 30 тысяч человек из вспомогательного австрийского корпуса князя Шварценберга.
В тылу находились резервы численностью в 140 000–150 000 человек (из них потом будут сформированы корпуса маршалов Виктора и Ожеро).
Если просуммировать все названные Анри Лашуком цифры, то получится 550 000–560 000 человек, но никак не 608 тысяч и уж тем более не 678 тысяч.
С другой стороны, по информации Анри Лашука, численность трех русских армий М. Б. Барклая-де-Толли, П. И. Багратиона и А. П. Тормасова составляла 213 813 человек, а вместе с резервами – 317 тысяч человек [80. С. 496].