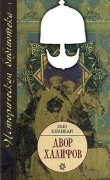Текст книги "Почему РФ – не Россия"
Автор книги: Сергей Волков
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
Глава II.
Прерванная традиция
Мировая революция против российской государственности
В драматических событиях и потрясениях, меняющих облик государств, конечно, есть некоторые закономерности, но ни одна из них не несет в себе неизбежности. Всякое событие может произойти, а может не произойти. Поэтому причины – это то, что дает событию возможность реально случиться, а не «объективные предпосылки» в виде «недовольства масс» и т.п., которые имеются практически всегда. В любом обществе всегда наличествуют группы населения, недовольные существующим порядком вещей, и когда нечто свершается, обычно на нечто подобное и списывают, не смущаясь тем, что в подавляющем большинстве случаев при наличии тех же самых обстоятельств ничего не происходит (после того, как событие произошло, нет ничего проще, чем задним числом найти для него «глубинные причины»). Да и в тех случаях, когда пресловутое недовольство и играет какую-то роль, оно работает обычно не тогда, когда очень плохо, а когда достаточно хорошо, но хочется лучше, или на фоне сравнительного благополучия вдруг случается ухудшение, или не оправдываются какие-то ожидания и т.д.
Политическая борьба (хоть через выборы, хоть через бунт) состоит, грубо говоря, в том, что некоторое активное и дееспособное меньшинство лишает власти другое меньшинство с помощью большинства, причем не всего, а всегда лишь некоторой его части (по отношению к целому ничтожно малой), лишь бы она была достаточно велика в нужное время и в нужном месте. Сценарий же насильственной «революционной» смены власти везде примерно одинаков: собирается агрессивная толпа и идет «на власть», и если с ней не могут справиться, она делает свое дело, захватывая государственные учреждения и давая возможность своим руководителям провозгласить новую власть, или же до этого не доходит (если власть заранее капитулирует). По большому-то счету совершенно достаточной причиной всех и всяческих революций является наличие людей, желающих их совершить. А удается им это в зависимости от ситуации: наличия подходящего момента, степени решимости власти к сопротивлению и её к тому возможностей. Вот причины создания такого положения, при котором, условно говоря, «толпу не разгоняют» и есть причины революции.
Революции (когда имеет место принципиальная смена власти или государственности, что у нас и произошло) не бывают результатом верхушечного заговора или переворота (это совсем другой «жанр»: люди, имеющие возможность совершить дворцовый переворот, не имеют нужды выводить на улицу сотню тысяч человек и разнуздывать стихию с риском в ней же утонуть). «Российская революция» (этапами которой были 1905 год, февраль и октябрь 1917-го) была закономерным итогом многолетней борьбы революционного движения (создания разветвленной сети ячеек, пропаганды в той среде, которая должна была играть роль ударной силы и т.д. и т.п.) на пути к своей цели. То есть с этой-то стороной все ясно. Вопрос, почему получилось и получилось в 1917-м, а не в 1905-м.
Были ли в империи серьезные проблемы внутреннего характера? Разумеется, были: и не доведенная до конца столыпинская аграрная реформа, и низкая степень самосознания и крайне слабая консолидированность предпринимательской среды, и отсутствие государственнического «политического класса», и непомерные претензии «общественности» к власти. Но наличие проблем такого рода может в дальнейшем влиять на развитие событий, но сам политический акт «свержения власти» никогда не обусловливает. Значение аграрного вопроса, кстати, неимоверно преувеличено (вопреки распространенному заблуждению, он и в Гражданской войне не имел приписываемого ему значения), да и вообще в деревне революции не делаются. Какого-то «ухудшения положения трудящихся», постоянно прогрессировавшего и достигшего апогея к 1917 г., не наблюдалось; напротив, совершенно очевидно, что на протяжении предшествующих десятилетий жизненный уровень всех слоев населения постоянно возрастал, а не падал.
В самом «событии» решающее значение сыграл, конечно фактор войны, но не в том смысле, как его обычно трактуют («усталость от войны», «непонимание целей» и т.д.): в 1905 г. «усталости» вообще не было, а революция была, цели в 1914-м были не более ясны (или не ясны), чем в 1917-м, а проблемы это не составляло. А уж насчет каких-то неимоверных «тягот» и того, что «царизм проиграл войну»…
«Царизм» войны не проигрывал. К февралю 1917 г. русский фронт был совершенно благополучен, дела на нём обстояли никак не хуже, чем на западе и не существовало ни малейших оснований ни чисто военного, ни экономического порядка к тому, чтобы Россия не продержалась бы до конца войны (тем более, что не будь Россия выведена из войны, война бы кончилась гораздо раньше). Русская промышленность, разумеется, имела худшие шансы быстро приспособиться к войне, чем германская, но к лету 1916 г. кризис был преодолен, от снарядного голода не осталось и следа, войска были полностью обеспечены вооружением и в дальнейшем его недостатка не ощущалось (его запасов ещё и большевикам на всю Гражданскую войну хватило).
В ту войну противнику не отдавали полстраны, как в 1941–1942 гг., неприятельские войска вообще не проникали в Россию дальше приграничных губерний. Даже после тяжелого отступления 1915 г. фронт никогда не находился восточнее Пинска и Барановичей и не внушал ни малейших опасений в смысле прорыва противника к жизненно важным центрам страны (тогда как на западе фронт все ещё находился в опасной близости к Парижу). Даже к октябрю 1917 г. если на севере фронт проходил по российской территории, то на юге – по территории противника (а в Закавказье – так и вовсе в глубине турецкой территории). В той войне русские генералы не заваливали врага, как сталинские маршалы 30 лет спустя, трупами своих солдат. Боевые потери русской армии убитыми в боях (по разным оценкам от 775 до 908 тыс. чел.) соответствовали таковым потерям Центрального блока как 1:1 (Германия потеряла на русском фронте примерно 300 тыс. чел., Австро-Венгрия – 450 и Турция – примерно 150 тыс.). Россия вела войну с гораздо меньшим напряжением сил, чем её противники и союзники.
Пресловутые тяготы войны – вещь весьма относительная. Выставив наиболее многочисленную армию из воевавших государств, Россия, в отличие от них не испытывала проблем с людскими ресурсами. Напротив, численность призванных была избыточной и лишь увеличивала санитарные потери (кроме того, огромные запасные части, состоявшие из оторванных от семей лиц зрелого возраста служили благоприятной средой для революционной агитации). Даже с учетом значительных санитарных потерь и умерших в плену общие потери были для России несравненно менее чувствительны, чем для других стран (заметим, что основная масса потерь от болезней пришлась как раз на время революционной смуты и вызванного ей постепенного развала фронта: среднемесячное число эвакуированных больных составляло в 1914 г. менее 17 тыс., в 1915 – чуть более 35, в 1916 – 52,5, а в 1917 г. – 146 тыс. чел.) общие потери были для России гораздо менее чувствительны, чем для других стран.
Доля мобилизованных в России была наименьшей – всего лишь 39% от всех мужчин в возрасте 15–49 лет, тогда как в Германии – 81%, в Австро-Венгрии – 74, во Франции – 79, Англии – 50, Италии – 72. При этом на каждую тысячу мобилизованных у России приходилось убитых и умерших 115, тогда как у Германии – 154, Австрии – 122, Франции – 168, Англии – 125 и т.д.), на каждую тысячу мужчин в возрасте 15–49 лет Россия потеряла 45 чел., Германия – 125, Австрия – 90, Франция – 133, Англия – 62; наконец, на каждую тысячу всех жителей Россия потеряла 11 чел., Германия – 31, Австрия – 18, Франция – 34, Англия – 16. Добавим ещё, что едва ли не единственная из воевавших стран, Россия не испытывала никаких проблем с продовольствием. Германский немыслимого состава «военный хлеб» образца 1917 г. в России и присниться бы никому не мог.
При таких условиях разговоры о стихийном «недовольстве народа» тяготами войны и «объективных предпосылках» развала выглядят по меньшей мере странно: в любой другой стране их должно бы быть в несколько раз больше, а население России не самое избалованное в Европе. Так что при нормальных политических условиях вопрос о том, чтобы «продержаться» даже не стоял бы. Напротив, на 1917 г. русское командование планировало решительные наступательные операции. Но, как известно, именно такое течение событий не устраивало тех, кто с победоносным окончанием войны терял практически всякие шансы на успех.
Значение фактора войны состояло в том, не случись этого тогда, российская государственность и «ancien regime» имели шанс вовсе избежать гибели. В принципе, повторилось все то, что имело место двенадцатью годами раньше, только вместо малой войны за далекой восточной окраиной наличествовал реальный фронт, требующий полного напряжения сил, который нельзя было бросить. И это решило дело. Для всякого нормального патриотически настроенного человека того времени, а тем более офицера иерархия ценностей строилась в такой последовательности (по «убыванию»): российская государственность (как это шло от основателя империи: «и так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное»), монархия, династия, конкретный монарх, а вовсе не наоборот (как это представляется нынешним «профессиональным монархистам»). Такой она была и для самого Императора. В той ситуации все их помыслы сводились прежде всего к тому, чтобы не допустить крушения фронта любой ценой. После того, что уже случилось в Петрограде к 2 марта, было абсолютно ясно, что задавить это без блокады столицы, без полного переключения на «внутреннюю» войну (как минимум несколько армейских корпусов, причем походным порядком, а не по железной дороге) и сепаратного мира невозможно. Но император Николай был бы последним, кто бы пошел на это.
Но если военный фактор – вопрос момента, то неготовность и неспособность власти противостоять революционному движению носила для конца XIX начала XX вв. вневременной характер. В этом отношении повторилось все то, что имело место двенадцатью годами раньше. Дело даже не в полицейской недостаточности (хотя это важный фактор; при определенной степени самозащиты режима революционное движение вовсе невозможно, но тогда таких режимов в Европе вообще не было), а в том, что сама эта недостаточность была результатом более глубокой причины.
Обычен взгляд, ставящий революцию в вину интеллигенции, которая-де разложила народ или даже всему образованному слою. Я его не разделяю. Ну пусть даже интеллигенция в тогдашнем значении термина. В Вехах справедливо отмечалось, что интеллигент – плохой учитель, плохой инженер и т.д. Но в России было много хороших учителей, инженеров и др. (гораздо больше, чем плохих), которые никого не разлагали, а делали свое дело. Образованный слой это сотни тысяч молчаливых чиновников, офицеров, инженеров, врачей и т.д., среди которых хоть 500, хоть 1 000 крикливых публицистов капля в море. В конечном счете роль сыграл либерализм не интеллигенции, а самой власти. И этот либерализм лишь в некоторой степени был порожден атмосферой, создаваемой либерализмом интеллигенции, а в большей её собственными неадекватными представлениями и о народе, и, главное, о тех, с кем ей (власти) пришлось иметь дело.
Дело в том, что традиционное общество (в лице российского старого режима), принципиально неполитическое, столкнулось с тем новым, что было порождено условиями второй половины XIX в. грубо говоря, политикой – политической борьбой, политическими организациями и партиями, апеллирующими к массе и использующими соответствующие средства борьбы, в первую очередь политическую пропаганду. Традиционный режим столкнулся с вещами, против которых у него не было противоядия, с которыми он не умел и не мог бороться, потому что средства борьбы были ему незнакомы, непривычны, и он ими не располагал. Но именно потому, что в России крушение старого порядка произошло заметно позже, шанс осознать, что происходит, и что надо делать, у режима был, но он им не сумел воспользоваться, полагаясь на привычные представления о мире и о себе.
Власть бороться политически не умела и не считала нужным, традиционно полагаясь на верноподданнические чувства «богоносцев», не вникала и не разбиралась в сути революционных учений, реагируя только на формальные признаки нарушения верноподданничества в виде прямого призыва к бунту и насильственных действий. Сама она никакой политработы (воспитания в духе противодействия противнику, разъяснения и критики его идей и т.п.) не вела. Попытки контрпропаганды оставались делом отдельных энтузиастов, к чьим усилиям власть ещё с середины XIX в. относилась даже несколько подозрительно (откровенно антигосударственная пресса, пропагандирующая разрушительные для режима идеи, но не трогающая конкретных лиц, процветала, а того же Каткова, критиковавшего высокопоставленных персон, постоянно штрафовали и закрывали). Стремление максимально отгородить от политики госаппарат и особенно армию (офицер не имел права состоять ни в каких полит.организациях, хотя бы и монархических, принимать участия ни в каких политических мероприятиях, хотя бы и верноподданнических) привело к тому, что люди, по идее являющиеся её опорой, совершенно не ориентировались в ситуации, а вся «политика» оказывалась обращенной только против власти. При чтении мемуаров охранителей старого режима, видно, что они совершенно не понимали, с кем имеют дело. Достоевский пытался показать, но, видимо, большого впечатления не произвел. Революционер – это человек нового типа, «человек политический». Поэтому тот же Нечаев, не говоря уже о революционерах начала XX в., современному человеку вполне понятен, а какой-нибудь сенатор или генерал нет (когда им пытаются приписать мотивации в духе собственного опыта, получается так же смешно, как изображение «бывших» современными актерами).
В результате «прогрессивная интеллигенция» воспринималась не адекватно своей сути, а в качестве уважаемого оппонента, к которому должно прислушаться, и диктовала моду, которая оказывала влияние и на настроения политических верхов. Когда в 1905-м впервые пришлось столкнуться с реальной угрозой, эти верхи продемонстрировали полное ничтожество, и их позиция оказала деморализующее влияние и на силы правопорядка.
Картинка из киевской газеты (так называемый «Саперный бунт»): вооруженная толпа под красными флагами шествует через город, «снимая» другие части. Направляются войска, начальник которых в духе времени принимается… митинговать. Освистанный, отступает. Посылают Оренбургский казачий полк – та же история. Поехал генерал, командир корпуса. Этому и говорить не дали, так и плелся в экипаже позади толпы. И тут на пути – возвращавшаяся с занятий учебная команда Миргородского полка (порядка 100 чел.) с его командиром, полковником фон Стаалем. Тот, при попытке его разоружить, разговаривать не стал, а дал залп. И бунта не стало. Саперы разбежались и вернулись в казармы. Перепуганное начальство подняло голову, но ему не только спасибо не сказало, а отнеслось довольно холодно, страха ради общественности и реакции Петербурга.
Доходило до анекдотов. В городе бунт, реальная власть в руках революционного штаба. Начальник гарнизона, имея под руками вполне надежную дивизию, но видя настроения в Петербурге, колеблется, боясь «не совпасть» и угробить карьеру. И тут какой-то прапорщик запаса, которому «за державу обидно», надев погоны штабс-ротмистра, является к нему, представляется адъютантом командующего округом и убеждает дать ему батальон, с которым благополучно арестовывает штаб и водворяет порядок. Нечто подобное он проделал ещё в нескольких местах, пока не был разоблачен и осужден.
Картина тотальной недееспособности властей, боязни ответственности, нерешительности и т.п. тогда была продемонстрирована, конечно, потрясающая. Но элементарные требования новой эпохи (политика против политики, пропаганда против пропаганды, воспитание против воспитания) осознаны не были, и за 12 лет в этом направлении сделано ничего не было.
Вокруг «великой бескровной» нагромождено порядочно мифов как «слева», так и «справа». Но «общим местом» является придание ей некоторого исключительного значения и отрыв её от событий предшествующих и последующих. В «юридическом» смысле значение февраля как раз не очень велико. Как бы там ни было, а передача власти Временному правительству произошла вполне легитимно: его состав был утвержден царствующим императором, им же было предписано войскам принести присягу этому правительству. Строго говоря, он не был «свергнут», а лишь вынужден к отречению (можно, конечно, спорить, имел ли император право отрекаться, правильно ли поступил и т.д., но это дела не меняет). Равным образом не была тогда упразднена и монархия как государственный институт, российская государственность продолжала существовать и 99% российских законов продолжали действовать.
А все-таки значение февраля определяется тем, что именно тогда победила Революция как таковая. Февраль 17-го невозможно оторвать ни от октября 17-го, ни от 1905–06 гг. Смешно представлять в роли его творцов думских деятелей, которые, может быть, и воображали, что они чем-то управляют, но на самом деле гучковы-милюковы ни дня реальной властью (таковая с первых дней была сосредоточена не во Временном правительстве, а в Петросовете) не обладали, а через полтора месяца потеряли и формальную. Февраль не был результатом стихийной вспышки или спонтанного заговора, а лишь закономерным звеном в истории борьбы «революционного движения» против российской государственности, но звеном решающим. Без Февраля, конечно, не было бы и Октября, но и самого его не было бы без 1905 года и всего того, что к тому времени сложилось и организовалось. Теперь удалось то, что не получилось двенадцатью годами раньше.
Что, собственно, случилось тогда? Исчезла настоящая власть – фактор, игравший роль иммунной системы, и болезнетворные бактерии получили возможность неограниченного размножения. Можно, опять же, спорить, насколько она была эффективна, но даже будь она гораздо худшей, чем была, эту-то функцию она бы все равно выполняла. Остов – российское государство – продолжал по инерции существовать, а российской власти не стало; нерв, стержень был вынут, и заменить его было нечем.
Разумеется, конечной задачей «революционного движения» была ликвидация самой российской государственности, и на Феврале оно остановиться не могло, он был лишь решающим этапом, после которого достижение её было лишь вопросом времени. Достаточно взглянуть на динамику «революционных выступлений», которые, будь конечной целью Февраль, лавинообразно росли бы до него, а после – прекратились. На деле все было прямо противоположным образом – февраль открыл им дорогу: в армии за три года войны их было меньше, чем за три месяца после февраля 1917-го; то же относится и к аграрным и прочим беспорядкам. Определенную роль сыграло и то, что при огромном (шестикратном) за время войны количественном росте офицерский корпус не мог не наполнится и массой лиц не просто случайных (таковыми было абсолютное большинство офицеров военного времени), но совершенно чуждых и даже враждебных ему и вообще российской государственности. Если во время беспорядков 1905–1907 гг. из 40 тысяч членов офицерского корпуса, спаянного единым воспитанием и идеологией нашлось лишь несколько отщепенцев, примкнувших к бунтовщикам, то в 1917 г. среди трехсоттысячной офицерской массы оказались, естественно, не только тысячи людей, настроенных весьма нелояльно, но и многие сотни членов революционных партий, ведших соответствующую работу.
Дальнейшее было предрешено. Развитие любой революции характеризуется тем, что к власти последовательно приходят все более радикальные элементы. Так и тут, большевики, изначально уступавшие численно и по влиянию другим левым революционным партиям, получив безграничную свободу деятельности, быстро вырвались вперед, ибо были единственной силой, способной безгранично «играть на понижение». Они были единственной партией, чья цель лежала за пределами российской государственности как таковой. Даже наиболее левые участники революционного процесса, те же эсеры, были социалистами все-таки «почвенными», их замыслы не шли дальше установления желаемых порядков в России, о мировой революции они не помышляли. Поэтому для них существовала черта, через которую они не могли переступить. Они не могли сознательно желать (хотя их правление объективно этому способствовало) ни поражения России в войне, ни полного разрушения всех государственных структур. Они не могли призвать солдат немедля бросить фронт и полностью разнуздать разрушительные инстинкты толпы.
Для большевиков никаких ограничений не существовало в принципе, им нечем было дорожить в стране, которая мыслилась лишь как вязанка хвороста в костер мировой революции (каковая, по их предположениям, должна была начаться сразу после захвата ими власти в России). Поэтому они могли себе позволить бросать самые радикальные лозунги и, как верно заметил академик С.Ф. Ольденбург, «темные, невежественные массы поддались на обман бессмысленных преступных обещаний, и Россия стала на край гибели». Но если «революционная демократия» могла предаваться фантазиям относительно «сознательной дисциплины солдата-гражданина», то для трезвомыслящих людей перспективы керенщины были абсолютно ясны (Л.Г. Корнилов накануне своего выступления писал генералу А.С. Лукомскому: «По опыту 20 апреля и 3–4 июля я убежден, что слизняки, сидящие в составе Временного правительства, будут смещены, а если чудом Временное правительство останется у власти, то при благоприятном участии таких господ, как Черновы, главари большевиков и Совет рабочих и солдатских депутатов останутся безнаказанными»). Но в условиях «углубления революции» государственнические элементы не могли рассчитывать на поддержку тех, кто боялся и ненавидел их гораздо больше, чем своих соперников-большевиков. С другой стороны, предательское поведение по отношению к офицерскому корпусу деятелей Временного правительства (которые, одной рукой побуждали офицерство агитировать в пользу верности союзникам и продолжения войны, а другой – охотно указывали на «военщину» как на главного виновника её затягивания) привело к тому, что и «демократии», когда пробил её час, не на кого было рассчитывать (тем более, что суть большевистской доктрины большевиков мало кому была известна и они большинством патриотических элементов они воспринимались лишь как одна из соперничающих левых партий).
Слабость сопротивления новой власти сразу после переворота не должна вызывать недоумения. То явление, которое получило наименование «триумфального шествия советской власти» (взятие власти в первые месяцы в большинстве губерний без сопротивления) – вполне нормально. Одно дело – защищать власть, которая существует (и сопротивляется, если её хотят ликвидировать) и другое – защищать власть, которой больше нет. Второе возможно тогда, когда существуют какие-то самостоятельные (особенно территориально укорененные) структуры, единомышленные власти, но с ней непосредственно не связанные и от неё не зависящие. Такие ещё могут служить точкой опоры для сторонников свергнутого режима. Да и то часто бывают не в силах устоять перед «эффектом свершившегося факта». При отсутствии же их он действует абсолютно, и поведение должностных лиц прежней власти предсказуемо. Приходят к местному начальнику несколько человек, заявляют, что они члены ВРК и требуют сдать дела. Можно, конечно, арестовать наглецов. Но начальник ведь уже знает, что произошло в столице, что той власти, которая его поставила, больше нет и что, поступи он так, через неделю все равно приедет эшелон матросов.
Потому сопротивление тогда было оказано только в казачьих областях, где существовали автономные структуры с выборными атаманами, да в некоторых пунктах, где в силу случайных обстоятельств имелись либо какие-то организующие центры (как, пусть и слабый, «Комитет общественной безопасности» в Москве), либо особо энергичные люди, сумевшие сплотить себе подобных. Да и то, не имея реальных мобилизационных рычагов, они были обречены. Понятно, что немногие пойдут драться непонятно за кого, и в положении «вне закона», если все равно «дело уже сделано». Потребовалось время, чтобы заново сложились сопротивленческие структуры, чтобы новая власть успела себя во всей красе проявить – тогда только развернулось массовое сопротивление.
Сила «эффекта свершившегося факта» хорошо памятна и по недавнему прошлому. Когда летом 1991 г. объявилось ГКЧП – первое время (до знаменитой пресс-конференции с трясущимися руками) все (и свободолюбивые прибалты, и воинственные чеченцы) сидели тихо-тихо, даже несмотря на то, что Ельцин уже митинговал у Белого Дома (а будь он нейтрализован одновременно с объявлением ГКЧП – и вовсе ничего бы не было). Зато когда через пару дней стало ясно, кто именно взял власть, что «революция победила» – против неё тоже никто не дернулся. А ведь для большинства, не говоря о тех, кто уже почти два десятилетия проклинает «антинародный режим», это была именно революция, захват власти ненавистными им людьми, «гибель страны», «попрание святынь» и т.д. Но никто, вообще никто не оказал ни малейшего сопротивления, ни единого выстрела не прозвучало. Вот когда новая власть через два года разделилась, и одна её часть пошла против другой, создав «точку опоры», кое-кто этим воспользовался да и то не очень активно.
В объяснении событий, как и в пропагандистской практике нет, наверное, более распространенных спекуляций, чем уверения в «поддержке народа». Но народ никогда никого не поддерживает. И не только «народ» вообще, но и в отношении достаточно крупных социальных групп говорить об этом неуместно. Да и что значит: поддерживает – не поддерживает? В большинстве случаев о «поддержке» говорят, когда есть некоторые симпатии, проявляемые, допустим, в голосованиях (но, скажем, тот факт, что на выборах в Учредительное Собрание в конце 1917 г. эсеры одержали абсолютную победу, никак не помог им в дальнейшем). Когда же речь идет о действительной борьбе, поддержка определяется тем, насколько эти люди готовы убивать и умирать за дело данной политической силы. В лучшем случае можно сказать, что та или иная социальная группа может служить преимущественным мобилизационным ресурсом для этой силы (но и это не будет означать, что она её «поддерживает», поскольку даже при даче значительного числа добровольцев из её среды, большинство этой группы может оставаться пассивным). Дело всегда делается очень незначительной частью населения, даже в самых массовых движениях принимает участие лишь меньшинство, так и в нашей гражданской войне вольно или невольно участвовало всего порядка 3–4%. При том, что и среди них активную роль играло сравнительно небольшое ядро, а остальные образовывали как бы «шлейф».
Проблема в том, что этого активного меньшинства должно «хватать», должна наличествовать его «критическая масса»: тогда, имея за собой достаточное число действительно надежного контингента, возможно поставить под ружье потребное количество прочего. Большевикам в свое время хватило несколько десятков тысяч распропагандированых рабочих и матросов, латышско-эстонской «преторианской гвардии» и 200 тысяч «интернационалистов», чтобы спаять и заставить воевать миллионы мобилизованных крестьян. Их противникам, имевшим по разным окраинам в общей сложности до 40–50 тыс. вполне самоотверженных добровольцев, этой «критической массы» хватило, чтобы начать и вести три года неравную борьбу, но, конечно, не могло хватить, чтобы победить.
Большинство же даже тех, кто представлял собой при новой власти «группу риска», оставалось, особенно поначалу, весьма пассивным, причем одним из решающих факторов становился психологический шок от крушения привычного порядка. Впечатления очевидцев 1918-го года: «Начинаются аресты и расстрелы… и повсюду наблюдаются одни и те же стереотипные жуткие и безнадежные картины всеобщего волевого столбняка, психогенного ступора, оцепенения. Обреченные, как завороженные, как сомнамбулы покорно ждут своих палачей! Не делается и того, что бы сделало всякое животное, почуявшее опасность: бежать, уйти, скрыться! Однако скрывались немногие, большинство арестовывалось и гибло на глазах их семей…». «Вблизи Театральной площади я видел идущих в строю группу в 500–600 офицеров, причем первые две шеренги арестованных составляли георгиевские кавалеры (на шинелях без погон резко выделялись белые крестики)… Было как-то ужасно и дико видеть, что боевых офицеров ведут на расстрел 15 мальчишек красноармейцев». Но удивляться нечему. Подобно тому, как медуза или скат представляют в своей стихии совершенный и эффективный организм, но, будучи выброшены на берег, превращаются в кучку слизи, так и офицер, вырванный из своей среды и привычного порядка, униженный, а то и избитый собственными солдатами, перестает быть тем, чем был. И тут уже надо обладать нерядовыми личными качествами, чтобы не сломаться. Одно дело – умирать со славой на поле боя, зная, что ты будешь достойно почтен, а твои родные – обеспечены, и совсем другое – получить пулю в затылок в подвале, стоя по щиколотку в крови и мозгах предшественников.
Вообще решится на борьбу, не имея за спиной какой-либо «системы» и пребывая «вне закона», психологически чрезвычайно трудно. Известно, что первые антибольшевистские добровольцы были весьма немногочисленны. Да, тысячи на это, тем не менее, решались, но десятки тысяч – нет. Ну да, известны случаи, когда мать говорила последнему из оставшихся у неё сыновей: «Мне легче видеть тебя убитым в рядах Добровольческой армии, чем живым под властью большевиков». Но многие ли матери могли сказать такое? Всякое такое поведение в любом случае представляет собой нестандартное явление, хотя бы оно и было по обстоятельствам момента более рациональным, чем пассивность. Известный донской деятель полковник В.М. Чернецов, пытаясь в свое время убедить надеющихся «переждать», сказал: «Если случится так, что большевики меня повесят, то я буду знать – за что я умираю. Но когда они будут вешать и убивать вас, то вы этого знать не будете». И действительно, он сложил голову, нанеся большевикам изрядный урон, а не послушавшие его офицеры, все равно выловленные и расстрелянные, не знали, за что они погибли. Следует, правда, заметить, что в дальнейшем – к 1919, когда ситуация в России вполне определилась, выбор большинства офицеров, даже и не находившихся на белых территориях, был вполне определенным. Вот, например, как «в условиях чистого эксперимента» поступили предоставленные самим себе офицеры расформированной в конце 1918 на Салоникском фронте 2-й Особой пехотной дивизии: из 325 человек 48 осталось в эмиграции, 16 исчезли в неизвестном направлении, 242 вступили во ВСЮР и ещё 19 – в другие белые формирования.