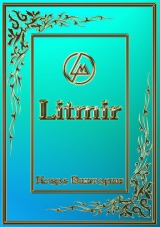
Текст книги "Синдром тотальной аллергии(СИ)"
Автор книги: Сергей Шведов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Глава 14
Несколько слов о древнейшей земле, где ни от кого не спрятаться и где со всех сторон ты виден и тебе всё видно как на ладони, но по которой я блуждал три дня, пока окончательно не заблудился.
Никто никогда за всю историю не зарился на эти земли. Потому что никто не смог бы выжить в этих суровейших природно-климатических условиях пустыни и только местами – полупустыни. Летом выжженная беспощадным солнцем, зимой убитая вьюжными ветрами безводная беспредельность с белыми лишаями солончаков. С самолёта она видится как покоробившаяся на солнце просоленная серо-коричневая кожа, которая кое-где уже начинает подгнивать.
Весной редкими цветными пятнами пустыню оживляют красные, жёлтые и белые тюльпаны, а также редкие, но сочные, прижатые к земле лепёшки листьев ревеня, стебель которого редко вытягивается выше двадцати сантиметров. И колышутся миниатюрные веточки полыни, прижатые к земле. Гумуса, чёрного плодородного слоя, на каменистой почве нет совсем. Впрочем, на глинистой и песчаной тоже. Очень редко в сухих распадках на руслах недолго живущих по весне ручьёв скапливается намытая с камней глина и сероватая грязь. До середины лета на этом месте может радовать глаз пыльная зелень плотных зарослей дикого лука. Дикий чеснок густых зарослей не образует. Редкие тоненькие стрелки тянутся вверх, но не пробуйте вырвать их с корнем из каменистой земли – оливкового цвета стрелка обязательно оборвётся. Если вам нужно достать крошечную головку дикого чеснока, потрудитесь выкопать её из каменистого грунта с глубины как минимум сантиметров десять.
Там, где под ногами нет сплошного каменного массива и песка, а тянется на километры суглинок, там уже можно наткнуться на «заросли» дикой конопли высотой чуть повыше колена. Трудно назвать густыми зарослями пространство, где кустик отстоит от кустика на метр.
В июле уже нет ни тюльпанов, ни ревеня, ни карликовой полыни. Сплошная, бескрайняя, устрашающая каменистая пустыня, звенящая под ногами. Выжженная. Серая, иногда белая от проплешин солончаков. На таких землях, не то что деревьям, но и даже клочкам колючей травы не вырасти. Где есть вода, пусть даже солёная, там ещё качаются под ветром невысокий тамариск, саксаул и дикие фисташки. Где больше песка, чем камней, там приметишь купки песчаной акации, джузгуна, борджока, черкеза и прочих издалека с виду похожих друг на друга жёстких кустиков.
Шарообразные однолетники на некоторых местах могут иногда образовывать целые заросли, но к июлю они похожи на скопище соломенной трухи. Летом в каменистой пустыне не найти не только ни одного цветущего или даже зелёного растения. Все цветёт по жёсткому расписанию – месяц весной, полтора месяца осенью.
Ни людей, ни крупных зверей, ни рек, ни речушек. Редкие солёные болотца, а на месте высохших – растрескавшиеся плитки такыра, будто бы кто вымостил ими парадный плац.
Остроголовые ящерицы, круглоголовки-агамы, змеи, насекомые, пресмыкающиеся, мелкие грызуны – попрыгунчики, тушканчики с длинным хвостиком, за которыми охотится очень редкий гость – корсак, миниатюрная пустынная лисичка. Сдуру сюда может забежать и пустынный заяц, чтобы посолонцевать, но никогда здесь не задержится, а вернётся поближе к осоке. Сродни зайцу, все здесь, кроме змей, шустро бегают и высоко прыгают, даже ушастый ёжик на длинных лапках. На раскалённой, как сковородка, почве долго не устоишь, приходится бежать, чтобы укрыться в прохладе норы. А из птиц сюда залетает за насекомыми только одна пустынная трясогузка, да и та на ночь улетает поближе к воде. Орлам и прочим пернатым хищникам тут нечем поживиться, разве что за мигрирующими сайгаками.
* * *
Вот по такой местности я вознамерился сделать дневной марш-бросок под палящим солнцем до железнодорожного разъезда. Одно отрадно – почва под ногами ровная и твёрдая, идёшь, как по шоссе. И нет зарослей травы, которая бы прятала в себе ядовитых гадов и пауков. Кстати о змеях. Их тут тоже очень мало, и все они маленькие. Змея-стрелка, пустынная гадюка и песчаная эфа. Их укус человека не убьёт и не покалечит, если не придётся в шею – яремную вену или сонную артерию. Смертельно опасные гюрза и кобра не любят безводных и бескормных мест. Говорят, тут встречается и песчаный удавчик, но я ни разу не видел тут этих полозов.
Можно ли безумно и страстно полюбить эту землю? Ещё как! Там, где погода меняется всего за полчаса, а адская жара ежегодно чередуется с обжигающими дыхание холодами, характер человека закаляется крепче клинка восточной сабли. Воин Чингисхана – «идеальный солдат», о котором тоскуют западные кинофантасты и теоретики от политики, возрос именно в таком экстриме. Под стать ему были только кровные предшественники русских в конце последнего Ледникового периода. И вот когда глобальный мир, эдакий Вавилон-Рим-Византия-Халифат в одном флаконе, наконец-то выродится от кровосмешения рас, безбрачия и однополой любви, а главное – от безделия и пресыщенности ширпотребной роскошью, тогда на холмы, оставшиеся от мегаполисов снова взойдут белый охотник-земледелец и смуглый степняк-кочевник, способные создавать огромные империи и возрождать цивилизации.
* * *
Солнце ещё не показалось, а я уже видел за собой озеро Кангыбас всего лишь только плотной стеной жёлто-зелёного тростника без проблеска водной глади. Впереди простиралась пустыня, которая встретила меня не слишком дружелюбно.
Если я скажу, что дорогу мне перешла матёрая волчица с четырьмя уже повзрослевшими мосластыми, поджарыми волчатами, это будет звучать неправдоподобно. Невысокая и плоская, словно вырезанная из картона пустынная волчица-каскырка даже благодатной осенью была тоща до того, что ребра видны. Не иначе, волчье логово располагалось где-то близко у озера в тростниках. Подъедалась она наверняка со скота тенгрийцев. Но с такой сворой тайганов особо не разлакомишься, приходилось охотиться и на прыгучих тушканчиков.
Я схватил свой охотничий полуавтомат и нацелил ствол в голову волчице, осталось нажать на спуск, но у меня уже был позорный опыт с кабанчиком, которого я уложил из карабина. На этот раз мне удалось совладать с собой. Волчица, как будто угадав моё решение, не испугалась, не побежала, нет, а наоборот, замедлила прыть и то оглядываясь на меня, то на своё потомство, широко разинула пасть, оскалила зубы. Ощетинилась в холке, вся напружинилась как бы для броска. Глаза её горели в лучах рассвета прямо-таки багрово-оранжевым огнём. Мать показала, что готова сражаться со мной за своё потомство насмерть, даже если мой первый же выстрел её смертельно ранит.
Выглядела она исхудалой облезлой дворняжкой, с такой можно справиться и голыми руками. Я опустил ружьё дулом в землю. Волчица окончательно убедилась, что я не угрожаю смертью её детям. Повернулась ко мне как-то не по-волчьи, левым боком, словно добровольно подставляла себя под выстрел, и тем самым подтверждала наш с ней негласный мирный договор. Потом то ли тявкнула, то ли громко зевнула с подвывом и затрусила спокойно куда-то вдаль, к торчавшим впереди из лощинки разлапистым кустам джузгуна, где её с потомством никто не заметит.
Ещё не было жарко, но я весь пропотел, и в глотке пересохло. Я жадно выхлестал полфляги воды, которую заготовил себе на день, и дал зарок, не прикасаться к ней раньше полудня.
Показавшееся из-за горизонта солнце точно указало мне стороны света, и я твёрдым шагом пошёл в направлении железнодорожного разъезда, куда намеревался дойти до заката. Но вдруг какая-то необъяснимая сила потянула меня в сторону.
Я шёл, пока не остановился перед норой, из которой петлёй торчало неподвижное тело змеи. Хвост и голова покоились в норе. Змеиная норка в пустыне – не просто дырка в земле. С одной стороны у неё образуется трапециевидное возвышение. Змея сама не роет землю, а использует норы грызунов, которые регулярно чистят их, выбрасывая мусор на поверхность, отчего образуется небольшой бугорок.
Когда змея завладеет норой, она вползает в неё, волнисто изгибаясь, а сам бугорок становится похожим на трапецию, узким концом уходящую к отверстию в земле. Я снял ружье и ударил змею прикладом. Песок и супесь, образовавшие этот бугорок, смягчили удар. Вряд ли я перебил ей позвоночник. Змея проснулась, выгнулась и подняла в мою сторону изящную головку с открытой крохотной пастью.
По утреннему холодку у неё ещё не было сил уползти в нору. Не понимаю, что заставило змею спать столь беспечно. Ведь она могла стать лёгкой добычей хотя бы того же длинноухого ежа или корсачка. Я молотил прикладом по её маленькой головке, а она опять поднималась и занимала всё ту же угрожающую позицию.
Змея была совершенно беспомощна из-за утренней прохлады, полусонная, а я вёл себя как бессмысленный, беспощадный и всесильный убийца, которому она не могла противостоять.
Когда её некогда изящная головка превратилась в плоский блин, шея змеи больше не поднималась. Змея извивалась в предсмертной агонии, но её голова всегда поворачивалась в мою сторону – змеиный тепловизор всё ещё действовал. Когда я нарочно отходил на шаг в сторону, расплющенная змеиная головка опять обращалась ко мне. Она вела оборону уже будучи наполовину мёртвой.
Сам я весь дрожал от азарта «охоты» и подспудного рудиментарного страха. Не скажу, что тогда мне стало стыдно за мою бессознательную агрессию, но это запретное бессознательное слишком часто прорывается в молодости, когда человек ещё мало чем отличается от зверя. Хотя всё же отличается – в худшую сторону. Зверь не убьёт за просто так безо всякой причины.
Придурок! Иного слова не сыскать. Я потерял почти час на забаву с беспомощной змеёй, которой до меня никакого дела не было. Кстати, это была песчаная эфа, змея удивительно несимпатичная из-за того, что её чешуйки не плотно прилегают к коже, а торчат, как чешуйки на прошлогодней еловой шишке. Из-за этого эфа лишена элегантной змеиной кожи, а вся из себя какая-то мохнатая и противная.
Поговаривают, она может атаковать зазевавшегося человека без предупреждения и очень агрессивна. Но в моём случае безрассудным агрессором был я. И всё лишь потому, что не сумел совладать с древним инстинктом, который предписывает любой обезьяне панически бояться змей из-за того, что те ловко лазают по деревьям ночью, когда обезьяна спит на ветках.
Инстинкты никого не оправдывают. Так маньяк может опустить автомат с раскалённым стволом посреди горы трупов и с невинным видом заявить, что ничего не помнит, как это случилось, а за свои дела не отвечает, потому что его рукой водил шайтан. Всё верно, чёрт попутал, но ведь убивал именно он. И ему отвечать за это, пусть он даже трижды не верит в загробную жизнь только потому, что космонавты в космосе ангелов не видели.
* * *
Из-за моей глупой возни со змеёй, я сбился с пути. Стрелка компаса как бы сошла с ума – вертелась по-дикому. Наверное, подо мной были рудные тела какого-то месторождения. Спутниковый навигатор сообщал мои координаты на местности, но в нём не было данных о расположении забытого богом и людьми разъезда, куда я направлялся. А плоская беспредельность пустыни не даёт ориентиров.
Но едва поднявшееся солнце всё еще указывало мне возможное направление движения. Вместе с солнцем поднялся и ветерок. Ещё не припекало, но прохлада испарялась вслед за почти невидимой тут росой. Я на ходу перекусил украденным ещё вчера с общего стола катышком сушёного сыра-курта, отхлебнул экономный глоток воды из фляги и теперь бодро шагал по гладкой твёрдой земле в сторону железнодорожного разъезда. Километров через десять я обязательно услышу гул поездов, ведь в пустыне источник звука можно определить куда точнее, чем в лесу или горах, потому что тут не бывает эха. А там уже на рельсах сориентируюсь поточнее.
Всё бы хорошо, если бы не ветер. Он уже свистел в ушах вовсю и крепчал от минуты к минуте. Горизонт скрылся за серой пеленой.
Ветер нёс в мою сторону прыгающие шары перекати-поля и верблюжьей колючки. Перекати-поле образуется из разных видов растений, таких как кермек, качим, биюргун, рогач, резак, колючник, котовник и прочая сухая, почти безлистная растительность. Все эти растения объединяет то, что они для рассеивания семян образуют шары из веток и стебля, так называемое перекати-поле. У таких растений, как правило, тонкий стебель с растопыренными ветвями. В конце вегетационного периода стебель у основания пересыхает и отрывается или вырывается ветром прямо с корнем и уносится на большие расстояния. По пути к шару из сухих веток цепляется труха других растений. В конечном счёте образуется довольно большой ком, который рассеивает семена входящих в него растений. Ветер поднимает их высоко и крутит в пылевом вихре.
В воздухе также летали не обрывки бумаги, как мне показалось, а высохшие «лопухи» пустынного ревеня. Если бы я хоть на миг поверил словам Карлыгаш о магии Тенгри, то представил бы, как подвластные ему духи пустыни хотят вернуть меня назад в поселище тенгрийцев у блуждающего озера Кангыбас, где меня ждёт пожизненное рабство в затерянном оазисе. Но я наблюдал перед собой лишь привычные для этих мест метеорологические явления.
Если судить по моим часам, я прошёл быстрым шагом более десяти километров, но мятущийся по сторонам ветер не давал мне услышать шум поездов на железной дороге. Наверняка и встречный ветер не позволил мне пройти заветных десяти километров или вообще незаметно повернул меня в обратную сторону.
* * *
И тут я заметил предвестников надвигающегося бурана – серую пелену, закрывающую горизонт. О песчаной буре в каменистой пустыне говорить как-то неуместно, потому что песок встречается тут только редкими островками с жёсткой растительностью, покрытой крохотными узкими листочками. Пылевой вихрь образуется из суглинков.
В полдень уже стало темно, как в ранних сумерках. Ветер дул резкими порывами, причём всякий раз с разных сторон. Если в иной местности ветер несёт вам в лицо пыль и песок, то здесь он в ураганных порывах швыряет острый щебень.
Кепку мою уже давно унесло, а догонять её не имело смысла, только время терять. Я заметил, что давно замедлил шаг и тяжело дышал, как солдат после марш-броска.
Порывистый ветер наваливался неодолимой стеной. Нагретый воздух тугим парусным полотнищем обжимал грудную клетку, словно приказывал остановиться и замереть на месте.
Но вот и долгожданная кульминация надвигающегося бурана – видимость стала практически нулевая, а взметнувшиеся пыль, песок и высохшая труха растений уже клубились в воздухе на одном месте, а не неслись по прямой. Так зарождаются вихри из общей круговерти.
По опыту я знал, что этот «пустынный дождик» продлится не более получаса, а самый натиск ветра придёт минут через десять.
Я снял ружьё, рюкзак и куртку, чтобы уменьшить парусность, и положил их на землю. В это время клубящееся пылевое облако осело, а по голой земле пошли гулять маленькие смерчики. Это явный признак того, что бестолковая гульба ветра по пустыне может затянуться.
Нос и глотка у меня были забиты пылью, слюны не было, язык превратился в наждачную бумагу. Я судорожно делал глотательные движения, пробовал прочистить горло. Ноги буквально плавали в луже пота в моих резиновых сапогах, которые я не умудрился сменить на кроссовки.
Я сел на куртку, чтобы меня не шатало под порывами ветра. Достал из рюкзака кроссовки. Они были похожи на резиновые теннисные тапочки, в них я чувствовал себя словно босиком.
Мне уже давно хотелось курить. Нужно было как-то умудриться уберечь огонёк зажигалки от ветра. Я скрючился в клубок и сложил руки домиком, чтобы поймать трепещущее пламя концом сигареты… Но порыв шквалистого ветра сначала повалил меня на спину, а потом заставил сделать кувырок с переворотом, как на уроке физкультуры в школе. Только вот школьники это упражнение делают на мягких спортивных матах, а тут я приземлился лопатками на отшлифованный за тысячелетия песчаными бурями плоский каменный массив, едва выступавший над поверхностью.
Были бы тут большие камни, я бы ещё мог придавить ими куртку, ружье и рюкзак, чтобы их не унесло ветром, но увы… духи ветров, прислужники Тенгри, взяли-таки свою дань.
И тут я увидел не просто духа, а настоящего джинна их бутылки, угрожающе расправившего передо мной свои объятия. Мне показалось, что я даже видел его злорадную ухмылку. Он подхватил меня и вознёс к небу. Как уж он меня шваркнул о каменную землю, я уже не помню, потому что сразу потерял сознание, едва лишь оторвался от земли.
Я и прежде видел, как вихревые столбы смерчей и смерчиков вертят зазевавшихся людей, но это были безобидные шалунишки, желавшие поиграть со своей жертвой, напугать, но тут же отпустить. Особенно забавно, когда он вертит женщину, а у той одна забота в голове – как бы попридержать задирающуюся юбку.
Этот смерч, подхвативший меня, был вовсе не настоящий торнадо, а среди круговых вихрей – что-то вроде уличной шпаны, вечно строящей из себя крутых на расправу суперменов. Но мне и этого хватило, чтобы проваляться без сознания более полусуток.
Не иначе как он был сынком распаскудной распутницы, этой проклятой небом пустынной земли, от её порочной связи с шайтаном. Жалко, что не расспросил Карлыгаш, как молиться к небу Тенгри во спасение от смерчей.
Сознание я потерял сразу, как только воздушный поток сбил мне дыхание. Не могу сказать, на сколько сот метров смерч перенёс меня, но когда все утихло, я не нашёл ни рюкзака, ни куртки, ни сапог. Даже часы с руки слетели. Навигатор был в кармане улетевшей куртки, а фляга с водой катилась куда-то вместе с рюкзаком.
Глава 15
Не знаю точно, сколько я пролежал без сознания. Когда очнулся, на меня пристально глядел чей-то мудрый глаз неведомого мне божества пустыни. Чёрт-те что придёт в голову после всех этих заморочек с шайтанами да аруахами.
Когда я со стоном приподнялся на руках, глаз исчез. Когда я стал хоть что-то соображать, то понял, что пристально рассматривавшая меня большая черепаха просто втянула голову в панцирь.
Башка гудела, как после беспробудной пьянки целую неделю. К лицу невозможно было прикоснуться, да и не лицо это было, а черная от налипшей грязи потная морда, вся посечённая щебнем.
Зато теперь я снова точно знал стороны света – солнце уже садилось почти над горизонтом. Я хорошо помнил карту местности. Мне нужно было идти строго на восток, чтобы хотя бы пересечь железную дорогу, если уж не удастся точно попасть на разъезд. Деньги и документы оставались при мне. Не пропаду без рюкзака, ружья и электронных прибамбасов. Без воды вот только трудно, но не смертельно.
* * *
Ветер не утихомирился, он просто перестал гулять по сторонам. Теперь он упорно дул мне навстречу.
Я нетвёрдо стал на ноги, и чуть не опрокинулся под давлением такого плотного воздуха, хоть ты рукой щупай эту невидимую стену. Шаг за шагом я медленно побрёл против ветра на восток, как мне казалось. Это потом я догадался, что топтался кругами на одном и том же месте.
* * *
Прошёл, наверное, час, когда я увидел свой первый мираж. Вдалеке от меня вырос домик европейского типа и рядом с ним столб с проводами. В окнах уже горел свет, хотя ещё не совсем стемнело. Скорей всего из репродуктора на столбе раздавалась весёлая музыка. Кто-то забыл закрыть водопроводную колонку. Из неё журчала вода. Это журчание было куда как приятней любой музыки. Женский голос негромко напевал вслед за мелодией из громкоговорителя.
Забыв обо всём на свете, я кинулся к человеческому жилищу, где в холодильнике обязательно стоит трехлитровая банка с ледяной водой, которою я буду пить, пока не лопну.
* * *
Домик оказался на самом деле без окон и дверей. Половина шифера на крыше была сорвана сто лет тому назад. На наружных стенах облетела глиняная штукатурка, обнажив полоски деревянной драни, прихваченные проржавевшими гвоздиками.
На столбе болтались оборванные с одной стороны провода. С другой стороны провода тянулись к покосившемуся столбу, видневшемуся вдалеке. И то отрадно. Это был знак, что жильё недалеко.
Тут прежде, скорей всего, была какая-то времянка связистов или контора геологов. Ржавый бак для воды у входа был совершенно пустой.
Внутри домика нанесло песка и пыли. Деревянные полы были содраны мародёрами, которым также достались окна и двери.
Солнце село, и я не мог осмотреть, какая живность прячется в домике. Не знаю почему, но змеи, особенно безобидные стрелки, любят селиться в заброшенном жилье. Наверное, потому, что там любят устраивать гнезда мыши.
Я совершенно равнодушно к опасности плюхнулся в угол домика, прислонился взмокшей спиной в стене и наслаждался тишиной и покоем после изматывающего душу непрекращающегося свиста ветра в ушах, который ленился даже для разнообразия менять тональность.
Прикоснулся затылком к стене, прикрыл глаза, и спасительный сон милостиво отключил моё сознание.
* * *
Утром мне трудно было разлепить склеившиеся от гноя веки. Ещё не раскрывая глаз, я пожалел, что со мной больше нет фляги с водой.
Я судорожно сунул руку под ремень над пахом – секретное удостоверение, зашитое в майку, было на месте. Деньги и кредитные карточки тоже. Но тут на них не купишь и глотка воды. Ладно, тренированный человек не утратит без питья физической формы в течение суток.
Вот сейчас я всё-таки пальцами разлеплю веки, встану на ноги и пойду на восток. Скоро я должен буду услышать шум поездов. В пустыне его за десять километров различишь.
Какая-то букашка пощекотала мне руку, я небрежно смахнул её другой рукой, и у меня в глазах потемнело от жгучей боли. От меня, задрав хвост с острым крючочком на конце, убегал полупрозрачный жёлтый скорпион. Они здесь тоже маленькие по сравнению с египетскими, я уже не говорю про таиландских.
Обезручить мне только не хватало! Нужно прижечь рану. Для этого я специально держал в кармане брюк спички. Головку одной спички положить на рану, другую спичку зажечь и поднести к серной голове на ранке. Высокая температура воспламенения разрушит хотя бы часть яда.
Прижечь-то я прижёг, но рука распухла от яда и покраснела, как вязаная перчатка. Я со злобы швырнул горящую спичку на пол – да пусть горит всё синим пламенем, этот дом и эта пустыня!
Трудно мне сейчас поверить, как верно и безотказно сработало моё заклятье.
Даже не сухие листья или стебли, а нанесённая в домик растительная шелуха вспыхнула, как порох. Пустынная щитовая сторожка с вырванными дверями и окнами занялась огнём в один миг. Я еле успел выскочить наружу.
Если кто знает, что такое игривый круговой ветер в пустыне, тому не надо объяснять, как я оказался в огненной ловушке. Нанесённые вчерашним бурьяном шары перекати-поля вспыхивали и с громким треском рассыпались искрами. В воздухе надо мной вертелись догорающие ошмётки пепла и обугленные веточки. Я сорвал с себя тлеющую рубашку, затем майку и побежал напролом через стену огня, чтобы выскочить на безопасное место, но огонь бежал быстрее меня.
Как на грех, впереди пошла полоса суглинка, поросшего не только шарами типа перекати-поля, но и высохшей осокой, а ещё дальше были видны купины очень низкого высохшего тростника, над которым торчали высокие ветки-стрелы тамариска с листьями в виде сетчатых метёлочек.
Дело дрянь, вся эта сухая пакость будет гореть, как порох. Но не всё так безнадёжно – тамариск и тростник растут там, где осталась хоть лужица воды… Воды, вот чего мне так хотелось сейчас! Даже не пить, а омыться от прилипшей к потному телу гари и сажи. И смочить воспалённые ожоги.
С каждым броском вперёд казалось, что вот-вот я окажусь на чистой от огня земле. Но подо мной сейчас был не плоский скальный массив истёртых до основания древних гор, а суглинистая почва, покрытая редкой щетиной сухой растительности, по которой вольно гулял огонь, подгоняемый весёлым ветерком.
Нестерпимое жжение в паху я ощутил, когда от моих брюк остались одни шорты, а кроссовки превратились в шлёпанцы. Но я всё же нашёл силы на последний рывок – и очутился на чистом от огня пространстве.
За стреловидными ветками тамариска с уже покрасневшими полупрозрачными сеточками-мочалками листвы я увидел воду. За берегами, обложенными черными многогранниками плиток такыра было озерцо, скорее большая лужа, или даже болотце. Я с разбегу плюхнулся в воду и взвыл от нестерпимого жжения. Почти испарившееся озерцо оставило в себе всю соль, а то, куда я плюхнулся, была не вода, и рапа – солёный ил, который, как щёлочью, разъедал мою обожжённую кожу. Я выскочил из болотца быстрей, чем плюхнулся туда. Но нет худа без добра. Хоть я уже и остался босой, но остатки моих брюк перестали тлеть.
Волосы мои осмалились, как на забитом кабане под паяльной лампой, и высохшая кожа на голом черепе стянулась под проступившей солью, готовая вот-вот лопнуть.
Часов при мне уже не было, но и без того понятно, что солнце в самом зените – полдень.
С ума сходишь не тогда, когда зелёные человечки из летающей тарелки с тобой в контакт вступают, а когда всё тело саднит, горит и чешется. Вот тогда перестаёшь быть человеком, и всё человеческое тебе становится чуждо. Впору волком выть, где же та волчица с волчатами, чтобы составить мне компанию?
Я уже не знал, куда и зачем я иду. Мною владела одна навязчивая идея – если тут есть вода, солёная из-за просоленной за века почвы, то должен быть и чистый источник пресной воды, увлажняющий всю окрестность.
По неукоснительной логике, он должен находиться в самом центре этого скопища луж и лужиц, впитавших из почвы древнюю соль, оставшуюся от доисторического тёплого моря, где когда-то водились трилобиты.
Я положился на древний инстинкт, который никогда не обманет, в отличие от современных знаний. Тот инстинкт, который заставил меня не раздумывая выстрелить в кабанчика и свернуть к змеиной норе, которую моё сверхсовременное и модернизированное сознание не успело зафиксировать. И древний инстинкт меня не подвёл.
Правда, мои босые ноги уже начинали заплетаться. Икры скручивала судорога, как от холодной воды. Но я вышел-таки к зеркалу чистой, прозрачной и глубокой воды. Вне всякого сомнения, это и был главный источник. Наверняка на дне ключом била пресная вода. Подтверждала мою догадку и идеально круглая форма водоёма, характерная для места выхода подземных вод под давлением вмещающих пород на поверхность.
Я с блаженной улыбкой опустился на колени на берегу озерка и с наслаждением всмотрелся в прозрачную до самого дна воду, а не в мутно-коричневую жижу, как в окружающих лужах. Ключевая вода обещала прохладу. Мне показалось, что на дне источника ещё остался прошлогодний лёд. Прекрасные светло-радужные водоросли тянулись к поверхности.
Я с шумом выпустил воздух из обожжённых пустынным пожаром лёгких, чтобы вобрать в себя как можно больше живительной влаги и… поперхнулся так, что чуть ли не ожёг бронхи невероятно горько-солёным раствором чего-то едкого и жгучего.
Спазма перехватила горло и брюшную диафрагму. Сбой механизма дыхания был такой, что все мои мучительные попытки втянуть в себя хоть глоток воздуха заканчивались предсмертным мычанием раненого зверя, бьющегося в последней агонии. Меня спасло от удушья только то, что я упал навзничь, ударился затылком о чуть припудренный пылью камень и прикусил язык. Непроизвольный вопль от нестерпимой боли прорвал блокаду дыхания, и мой организм вспомнил, что он запрограммирован с неукоснительной регулярностью переключать дыхание с вдоха на выдох до моего самого последнего смертного часа.
Ещё минут пять я раздирал себе бронхи судорожными попытки втянуть в себя побольше воздуха, сопровождаемые утробным мычанием, пока дыхание моё наконец стало более ровным, без всхлипов и стонов.
Сознание я не потерял, но горизонт несколько раз качнулся у меня перед глазами, как у пилота самолёта, попавшего в турбулентный поток, когда кажется, что машина по своей воле машет крыльями.
На коленках я снова подполз к воде и только сейчас заметил, что берега озерца были окаймлены как бы инеем. Я тронул веточку какого-то засохшего суккулента, и с неё осыпались белоснежные хлопья, выросшие из кристаллов соли. Лёд на дне прозрачного озера оказался отложениями соли, а «водоросли» – ажурные кристаллические конструкции, построенные выпавшими из перенасыщенного солевого раствора кристаллами.
Я распластался по земле под палящим солнцем и чувствовал, что закипаю.
Мне уже стало как-то все равно, найду ли я пресную воду или нет, после того, как я познал на собственной грудной клетке, раздираемой спазмами, что воздух дороже воды, без которой можно прожить несколько дней, а без воздуха – считанные минуты.
Когда решил встать, я с удивлением узнал, что я теперь больше не могу с прежней лёгкостью вскочить на ноги и вообще не могу подняться. Не девять секунд, как на ринге после нокаута, а добрых десять минут я, пошатываясь и ловя равновесие, поднимался на сведённые судорогой ноги и наконец-то сделал первый шаг.
Перед глазами уже не стояла воображаемая карта, где было чётко обозначена цель – железнодорожный разъезд. У меня оставалось единственное побуждение – идти, чтобы не упасть и больше не встать. Если упаду – достанусь корсакам и каскырам на ужин.
Поначалу шагать было не так уж трудно. Под ногами был твёрдый такыр, я шёл как бы по плацу, вымощенному многоугольными плитами. Но чуть позже чёрные лепёхи такыра стали крошиться, истончаться, и вот через некоторое время я уже брёл по щиколотку в вонючей грязи солёного болота, припорошенной пустынным «инеем» – пушистым слоем кристаллов соли.
Когда болотная грязь дошла до колен, я начал менять направление в поисках выхода на мелкое место, но всякий раз липкая маслянистая трясина всё глубже утягивала мои ноги. Уже и идти было нельзя – едва только с хлюпаньем вытащишь одну ногу, как другую болото затянет ещё глубже.
Когда я совсем выбился из сил, то заметил, что берег соленого болота совсем уже близко. До него оставалась каких-то пару метров. На берегу торчала сухая осока или остролист, мне в тот момент было не до ботаники, чтобы классифицировать растения. Но за эти два метра до берега пришлось расплачиваться с каждым шагом все более глубоким погружением в болото. Когда я судорожно ухватился за сухую поросль на прибрежной кочке, я уже был по шею в вонючей солёной жиже.
Я понял, что не утону, потому что разжать мои руки, намертво уцепившиеся в жёсткую поросль на берегу, можно будет после моей смерти только рычагом. Мой голый обожжённый череп раскалился под солнцем, но я не мог уже даже смочить его полужидкой грязью, чтобы оставить на нём хоть какую-то защитную плёнку от палящего солнца.








