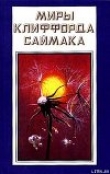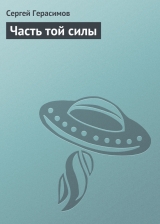
Текст книги "Часть той силы"
Автор книги: Сергей Герасимов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
8. После захода солнца…
После захода солнца на Еламово опустилась долгожданная прохлада. Поезд остановился на станции, где над разогретым камнем и асфальтом все еще струился воздух, где ленивые, философски настроенные, местные собаки лежали с высунутыми языками, совершенно не обращая внимания на людей. Небо все еще дышало светом, и лишь сиреневые брюшки ослепительных облаков несли с собой весть о тихом приближении ночи.
Прошло два дня после того, как он похоронил деда. Он вышел из поезда, взглянул на старое, оштукатуриваемое каждую весну, здание вокзала, знакомое до последних мелочей, до скользких полов и исписанных вдохновенными матами сидений, и, кажется, даже до детских припухших желез – была и такая ночь, осенняя, вся проведенная в ожидании опоздавшего состава. У дверей этого вокзала Ложкин когда-то впервые поцеловал удивительно сильную сопротивляющуюся Надю. Он до сих пор помнил вкус ее плотных губ и до сих пор искал этот вкус в губах других, чужих женщин, иногда даже осознавая это.
Он вдохнул запах мазута, услышал меканье коз и шорох гравия у себя под ногами, нашел глазами старую кирпичную водокачку, в которой, по легенде, утопили немало кому-то неугодных строптивых людей, и сразу почувствовал себя спокойно. Все напряжение последних дней осталось в столице. Его дом был здесь и только здесь: дом трижды перестраиваемый только на его памяти, в первый раз еще крытый ржавым железом и с грязным дощатым полом, затертым до такой степени, что полированные шляпки гвоздей торчат из него выпуклые, как чирьи (или это аберрация генетической памяти?), а теперь отличный двухэтажный каменный особняк, дом однозначно богатый, в котором, к сожалению, просто некому жить.
Во дворе он нашел собаку на цепи, крупную, рябую, издыхающую от голода; собака лежала спиной кверху, раскинув в стороны все четыре лапы. Она умирала не только от голода, но и от жажды. Каким-то звериным чутьем собака сразу же унюхала в Ложкине хозяина и стала послушно и с благодарным усердием откликаться на кличку "Полкан". Ложкин вошел в дом, который не был заперт, и убедился, что дом остался до последней мелочи нетронутым, идеально совпадающим со своим отпечатком в его, скульптора Ложкина, памяти. Дом двигался сквозь время, как повозка сквозь лес: нисколько не меняясь оттого, что опушка сменилась глухими дебрями. От чего-то Ложкин почувствовал страх: что-то неизвестное таилось в этих дебрях времени, нечто, с чем придется столкнуться. Над Еламово начинала сгущаться ночь, и тени стали серы.
Ложкин бросил чемодан в большой гостиной на первом этаже, расположился на диване, расстегнул рубашку на груди и вытряхнул из бутылочки жало, свернутое в полукольцо.
Эту штуку отдал ему дед, причем посоветовал прикладывать к телу как можно чаще.
– Существо, которому это жало принадлежало, – говорил дед, – называется сморвом. Не могу тебе сказать, как выглядит сморв, потому что его внешность бывает разной. Возьми это жало, оно уже почти израсходовано, поэтому вреда тебе не будет. Польза, напротив, огромная. Приложишь к телу еще пять или шесть раз, и оно перестанет действовать.
– Это обязательно? – спросил Ложкин.
– Это очень сильный стимулятор. Поможет сбросить лишний жир. Станешь сильнее, хотя и не будешь таким сильным, как я. Будешь двигаться быстрее и точнее, будешь четче думать, меньше спать. Никаких простуд или гриппов. Жизненный тонус станет как у молодого голодного волка. Стопроцентно природный продукт, ха! Только природа нашей планеты к нему не имеет никакого отношения. Кстати, улучшает потенцию в несколько раз, хотя тебе это пока не нужно. Ты когда-нибудь занимался спортом?
– Почти нет, совсем немного, – ответил Ложкин, – немножко боксом и немножко плаванием, но в детстве меня водили на балет. Зато организм крепкий от природы, как у быка.
– Понимаю, сам такой. Все мы такие, – сказал дед. – Говоришь, значит, на балет? Надо же!
– Это было не долго, я вскоре заболел. Простудил среднее ухо. Я часто простужаюсь.
– Ничего, жало тебе поможет. Сбросишь килограмм семь или десять. Мышцы укрепятся, станешь злее. Будешь похож на мужчину. Наша порода крепкая, это точно, сила в тебе есть, а вот зла не хватает. Настоящего, хорошего зла, такого, как у меня. В школе тебя били?
– Никогда, хотя несколько раз пытались, – сознался Ложкин. – Я не любил давать сдачи. Но если меня доставали по-настоящему… Короче говоря, по второму разу никто не хотел связываться. Но я это не люблю. Мне никогда не нравилось кого-то бить, кому-то причинять боль. Наоборот, мне нравятся такие минуты, когда чувствуешь чужую боль, как свою. Тогда понимаешь себя человеком.
– В этом мы непохожи, – сказал дед. – Ударить врага всегда приятно. Ты это поймешь.
– Нет, я не хотел бы, – возразил Ложкин.
– Это как прыгать в воду с берега. Освежает. Прыгал когда-нибудь?
– Тысячу раз.
– Ладно, показываю, как пользоваться. Берешь аккуратно, двумя пальцами, и ждешь, пока развернется. Потом прикладываешь к коже на груди или на шее.
Дед поднял жало на уровень глаз, и оно действительно стало разворачиваться.
За последние два дня Ложкин прикладывал жало уже пять раз. Стимулятор действительно работал. Уже в первый же день брюки стали соскальзывать с бедер, а подняться бегом на четвертый этаж не составляло никакого труда. Прекратилось сердцебиение и отдышка. Пресс стал твердым, а мышцы упругими. Ложкин чувствовал себя превосходно – так, как никогда раньше. Разве что совсем давно, в девятнадцать лет, когда он недолго ходил в мелкую секцию бокса.
Сейчас, когда он шел, ему хотелось подпрыгивать, словно под каблуками были пружинки. Он чувствовал себя так, будто раньше у него в животе бултыхался резиновый мешок с жидкими помоями, а теперь этот мешок исчез. Однако, жало сморва оказалось не таким уж и безобидным стимулятором: перед самым своим отъездом Ложкин вдохновенно заехал в морду своему соседу снизу, который имел наглость заявить, что спилит грушу под окнами, – ту самую, которую Ложкин садил собственными руками. Сосед в очередной раз приходил, чтобы занять денег, а когда Ложкин отказал, приплел грушу. За что и получил по полной программе. Ложкин ни капли не жалел об этом.
Итак, Ложкин расстегнул рубашку на груди и вытряхнул из бутылочки жало сморва. Взял его двумя пальцами, и колечко развернулось, ощутив близость плоти. Сейчас жало было сантиметров пять длиной, но оно вытянется сильнее, когда коснется кожи. Ложкин приложил жало к груди и почувствовал легкий укол. Лечат ведь люди себя укусами пчел или мерзейшими пиявками, так почему бы не лечиться укусами сморва? Это гораздо приятнее, в смысле, не так больно.
Когда начала капать кровь, он подставил носовой платок. Через минуту жало снова втянулось, Ложкин вложил его в бутылочку и завинтил крышку.
Покончив с этим, он поднялся на второй этаж и вошел в комнату деда. Комната была почти пуста, в окна, полные его собственных полупрозрачных двойных отражений, желтыми глазами глядела ночь. В углу стояли два стола, придвинутые друг к другу. Под ними было полно давно неметеной пыли. На подоконнике – несколько высохших яблочных огрызков, там же – горшок с мертвым цветком. На стене ковер с большим чернильным пятном в углу. На полу обрывки газетной бумаги. В паутине под потолком тупо билась обреченная муха. Ощущалось, что женщина здесь не появлялась годами. Видимо, дед приглашал уборщицу, чтобы та поддерживала порядок в доме, но не пускал ее сюда. На дальнем столе стояли два дорогих телевизора с большими экранами, компьютер без корпуса и видушка. Ложкин попробовал включить компьютер и убедился, что он не работает. Ничего, потом разберемся, – подумал он. Он подвинул к столу единственный стул и вдавил в магнитофон кассету.
На экране появился дед. Видимо, старик просто положил камеру на стол и снимал самого себя. Была видна только половина лица, а порой, когда дед поворачивался, лицо полностью выходило из кадра.
– Приятно встретиться с тобой еще раз, малыш, – говорил дед; он любил называть Ложкина малышом, хотя «малыш» уже был в возрасте Христа. – Меня уже нет, а ты сидишь в моем кабинете, который теперь стал твоим. Прости за беспорядок, мне некогда было заняться уборкой. Не до того в последние дни.
Ты еще не был в подвале? Если уже спускался, то заметил, что за первой дверью есть вторая, тоже прочно запертая. Сейчас я назову тебе код, это все твое. За первой дверью есть комната, в которой осталось несколько моих незаконченных скульптур (можешь разбить их, эта дрянь ничего не стоит), и большая кадка с глиной – это та самая глина, о которой я тебе говорил. В углу стоит сейф, в нем сорок тысяч баксов. Это мой тебе подарок. Мало, но я в последний год поиздержался. Ничего особенного в этой комнате нет. Все самое главное – за второй дверью.
Когда ты ее откроешь, то увидишь короткий коридор и лестницу вверх. На лестнице тридцать пять ступеней. Затем будет дверь наружу, она не заперта. Запереть эту дверь невозможно, даже и не пытайся. Когда ты толкнешь ее, то выйдешь во двор. Вначале тебе покажется, что ты во дворе нашего дома. Но это не так.
Пойми самое главное, осознай: то, что за дверью – это не наш мир. Совсем не наш!
Не наш дом, не наш двор, не наш город. Не наша вселенная. Ты увидишь там многие знакомые вещи, но не увидишь людей. Их там нет и быть не может. Люди там не живут. А с теми, кто живет там, тебе лучше не встречаться.
Погуляй, но не заходи далеко. Это опасно. Чем дальше ты зайдешь, тем опасность больше. Ты понятия не имеешь, как жить в том мире, что там правильно, а что нет. Объяснить это невозможно. Поэтому посмотри и уходи. Можешь зайти в соседние дома, только ничего не бери! Любая вещь, которую ты принесешь оттуда сюда, может означать твою смерть. Я говорю совершенно серьезно.
Ты спросишь меня, что же это за место. Это тот мир, откуда к нашему предку пришли трое ночных гостей. Когда Василий убил их, дверь осталась открытой. Дверь от них к нам. Ни один человек на земле не может запереть эту дверь. Это не в человеческих силах. Но ее ведь можно хорошо замаскировать, правда? Именно так все и было сделано. Над открытой дверью в иной мир был построен целый дом, куда никогда не пускали посторонних. Сейчас эта дверь принадлежит только тебе. И весь мир за ней. Это мой тебе страшный подарок, или наследство, называй как хочешь.
Но не спеши и не увлекайся. Тот мир когда-нибудь даст нам с тобой большую силу и большую власть, власть над этим миром. Он не дал власти мне, но только потому, что я не успел дожить. Зато я много успел сделать, и тебе будет легче. Мы еще встретимся, и мы добьемся своего. Мы сможем взять все, нам будет принадлежать все. Все золото земли, вся сила империй и вся власть сильных – все это ничто, по сравнению с тем, что можем получить ты и я. Ты и я!
Каждая песчинка, принесенная оттуда, может означать переворот во всей земной науке и технике, особенно в военной технике. Потому что это не песчинка, это продукт гипертехнологии, которая нам даже и не снилась. Если все будет сделано правильно, мы с тобой получим все это. Только мы! Василий был прав: если золото принадлежит всем, то тебе от этого золота нет никакого проку. Золото, и все остальное вместе с золотом, будет только наше. Тогда мы покажем всему этому дерьму! Жди меня.
На этом запись закончилась.
– Прости дед, но мне это не нравится, – сказал Ложкин. – Во-первых, мне не нравится открытый проход между мирами, в который может провалиться все, что угодно. Во-вторых, мне не нравится твое отношение к этому делу. А в-третьих, это слишком много для меня, чтобы я так просто взял и поверил. Но поживем – увидим.
Ложкин спустился по лестнице и нашел ту дверь, о которой говорил дед. Он не собирался открывать ее ночью. Он просто хотел посмотреть на нее. Потом он прижал к двери ухо. Ему показалось, что он услышал за дверью тихий смех, быстрое движение и мелкий цокот когтей. Скорее всего это были крысы, и просторная тишина пустого дома позволяла хорошо их слышать.
Затем он лег спать, а когда заснул, увидел все тот же сон, который мучил его уже множество раз, сон, в котором он был гнусным убийцей девушки. Кошмар вернулся: он снова был убийцей, и обреченная машина, в которой лежало его бессознательное тело, двигалась по льду озера, туда, где в густеющей тьме за снежной пеленой едва виднелась черная полынья.
9. Полынья…
Полынья еще оставалась очень далеко; машина всего лишь спустилась с пологого берега, проехала метров пять и намертво завязла в сугробе. Рустам тихо выругался.
– Что делать будем? – спросил Василий.
– Вытягивать, что же еще? Это всего лишь снег. Лопаты нет, придется разбрасывать его голыми руками.
– Воспаление легких мне обеспечено. Я такой мокрый, как будто сам побывал в полынье.
– Заодно и согреешься, – сказал Рустам.
– Я бы выпил чего-нибудь.
– Сделаешь дело, потом пей, сколько хочешь.
Они спустились на лед. Лед потрескивал под их шагами, он был настолько непрочен, что казалось чудом, что машина до сих пор еще не провалилась под воду. Лед таял. Нужно было спешить. Если машина затонет у самого берега, она будет хорошо заметна. Тогда труп обязательно найдут.
Наконец, они разбросали сугроб.
– Давай вернемся домой и все забудем, – сказал Василий. – Эрику ведь все равно уже не воскресишь. Да, он убил твою сестру и мою девушку. Но я не хочу убивать его за это. Ты как хочешь, а я ухожу. Я не хочу этого больше. Я не буду…
Рустам быстро и аккуратно двинул его в челюсть. Удар был таким сильным и неожиданным, что Василий свалился. Рустам наклонился над ним.
– Еще одно такое слово, и ты у меня пойдешь в полынью вместе с этим. Ты понял? Он убил Эрику. Ты собираешься ему простить?
Василий поднялся.
– Я не могу, – сказал он, – я просто не могу. Это выше моих сил.
– Позволь напомнить, – сказал Рустам, – что это было твоей идеей. Ты первый сказал, что готов убить этого подлеца. Ты сказал, что готов на все, чтобы его наказать.
– Я был не в себе! Я был пьян!
– Ну, не настолько же.
Василий сел, и мокрый снег провалился под ним. Он сидел в луже слякоти, обхватил голову руками. Его плечи содрогались, возможно, он плакал.
– Ты не хочешь никого убивать, – сказал Рустам. – Ты хочешь остаться чистеньким. Значит, ты ее просто не любил. Хорошо, я сделаю это сам. Твоей помощи, вообще-то, уже и не требуется. Все уже сделано, и полынья ждет. Я все равно убью его, и никто не сможет мне помешать.
Он поднял глаза и увидел две темные фигуры, приближающиеся к ним сквозь завесу снега.
– Вставай, залазь в машину! – тихо приказал он.
– Что случилось? – не понял Василий.
– Кто-то идет сюда.
– Кто может сюда идти в такое время и в такую погоду?
– Сейчас посмотрим. Главное, ничего не говори и ничего не делай. Притворяйся пьяным и старайся не показывать свое лицо. Ты понял? Не делай ничего необычного, вообще ничего, иначе они тебя запомнят.
Он встал у машины, вглядываясь в снежную пелену. Вскоре он разглядел двух подростков, мальчика и девочку.
– Вы застряли? – спросил мальчишка.
– Точно, – ответил Рустам, подражая кавказскому акценту. – Тут, понимаешь, не видно ничего. Ни где твой берег, ни где озеро. Но все уже в порядке, щас вылезем. А что вы тут делаете?
– Рыбку выпускаем, – сказала девочка.
– Кого?
– Рыбку. Купили вчера на базаре, а она живая. Никак не могли ее съесть. Теперь приходится выпускать. Она еще маленькая, ей еще жить да жить. Смотрите, какая. Мы хотим ее бросить в полынью.
– Не выйдет, – сказал Рустам. – Это мертвое озеро. Рыбы тут уже давно нет. Ваша рыбка сразу умрет. Лучше уже ее быстро зарезать, чтоб не мучилась. Или выпускайте не здесь, а в речку, чтобы она подальше уплыла. Сюда точно нельзя, здесь даже улитки и жабы все умерли, не только рыбы. И вообще, идите отсюда, там дальше лед такой тонкий, что вы обязательно утонете. Куда только смотрят папа с мамой?
Когда дети ушли, Василий выбрался из машины.
– Взялись они на нашу голову, – сказал Рустам, – это ж надо, с рыбкой, в такую погоду.
– Это знак, – ответил Василий.
– Что?
– Это знак. Знак, чтобы мы остановились. Мы не должны этого делать. Не может быть, чтобы дети зашли со своей рыбкой вечером в такую глушь. Слишком маленькая вероятность. Они пешком, а здесь и транспорта нет никакого.
– Да они просто рядом живут, – сказал Рустам. – Дети бестолковые, я за ними наблюдал. Они ни разу не взглянули ни на машину, ни на мое лицо. Их интересовала только ихняя рыбка. Они нас не запомнят. Что там наш труп?
– Пока дышит, но под ним уже лужа мочи. Воняет ужасно. Я же говорил, что ты заставил его проглотить слишком много таблеток. А что, если он умрет даже без полыньи?
– Как раз поэтому для нас нет дороги назад, – сказал Рустам. – Представь себе, сейчас мы едем домой, а он окочуривается у нас на руках, напиханный наркотиками, или еще хуже, приходит в себя и понимает, что мы с ним пытались сделать. Тогда ты уже не выкрутишься. Это тебе не детские игрушки. Это большая статья.
Он обернулся и посмотрел в том направлении, куда ушли дети.
– Ну все, – сказал он, – малявок уже нет, они ушли домой или речку свою искать. Ждем еще десять минут, на всякий случай. Свидетели нам не нужны… Что это?!!
10. Что это?..
Что это? – подумал Ложкин, – что это было? Что такого ужасного он увидел на снегу?
Он быстро встал с кровати. Что означало это? Почему уже столько раз он видит этот кошмар, причем кошмар продолжает разворачиваться, а действие понемногу продвигается к завершению? Еще одна или две ночи, и человек, лежащий в машине, умрет. Перестанет ли тогда возвращаться этот сон? С каждым разом Ложкин все больше убеждался в том, что сон этот был не просто сном. Но чем он был, в таком случае? Порой, когда он задумывался об этом, ему становилось по-настоящему страшно. Этот сон был невозможен, необъясним, с ним ничего нельзя было поделать, он приближался, он наползал как болезнь. Он был неотвратим. И он означал нечто ужасное.
Сон оборвался в тот момент, когда Рустам заметил на снегу некоторый предмет. Предмет, который его очень удивил, и даже испугал. Предмет, который никак не должен был там оказаться. Но Ложкин не успел понять, что это было. Он просто не успел увидеть.
Он подошел к шкафу и оперся лбом о зеркало. Сон был не просто сном.
Сейчас он видел перед собой знакомую комнату зазеркалья и несчастного испуганного человека, опирающегося на зеркало лбом. Кто из нас реален? – вдруг подумал Ложкин. – Если я подниму руку, мое отражение сделает это одновременно со мной. Если я высуну язык, мое отражение сделает то же самое. Оно думает то же самое, что думаю я, потому что мысли это всего лишь перемещение молекул внутри моего мозга и моих нервов. Если бы я мог видеть эти молекулы, я бы убедился, что мое отражение думает, и думает то же самое, что и я. Значит, человек в зеркале думает, что реален именно он, а я его отражение. Если я попробую доказать свою реальность, у него найдется точно такое же зеркальное доказательство собственной реальности. А, значит, я никак не могу утверждать, что реален я, а не он. Я могу разбить это стекло, и он исчезнет. Но ведь он решит, что это он разбил стекло, и я исчез. То есть, реальны мы оба? Я сошел с ума.
А что, если сон это не просто видение, – продолжал думать он, – если сон это как зеркало, в которое два мира смотрятся с двух сторон? Два человека, и каждый из них считает себя настоящим. И оба они на самом деле настоящие. И оба они на самом деле один и тот же человек. Один Ложкин умирает в машине, накачанный наркотиками, и жить ему осталось считанные минуты или часы. Он видит меня во сне и считает меня своим сном. Он негодяй и убийца. А я вижу во сне его, и я весь такой хороший, честный и порядочный. Но, если мы оба это один и тот же человек, то делает ли это меня убийцей? И делает ли это обстоятельство его хорошим и честным? И самое главное: что случится со мною, когда он умрет? Полная ерунда. До чего только можно додуматься спросонку.
Как бы то ни было, но солнце уже взошло.
Пора было вытряхнуть из головы ночные ужасы и заняться делом. И главным делом на сегодня был подвал.
Ложкин спустился в подвал, ощущая некоторую неловкость, так, будто он все еще был ребенком и делал что-то недозволенное (в детстве ему никогда не позволяли ходить сюда), словно дед все еще был жив и шел первым по большим, непомерно высоким и оттого очень неудобным ступеням.
Вначале он отпер ту дверь, за которой был всего лишь склад или мастерская.
Внизу горел свет, видимо, не выключаемый уже много дней. Пахло паленой резиной, причем пахло так, что хотелось зажать нос. Передняя часть подвала состояла из двух комнат, разделенных массивной деревянной дверью: в одной комнате была мастерская, а в другой дед держал готовые работы. Ложкин удивился, что деревянная дверь была снята с петель и лежала на полу, а все работы деда оказались разбиты на мелкие черепки, так что невозможно было понять, где голова, а где плечо. Дед, как и сам Ложкин, лепил только из глины, не признавая других материалов.
Ложкин набрал код и открыл первую дверь. За нею все оказалось так, как и рассказывал дед. Большая кадка с влажной глиной, поросшая серой плесенью, откуда Ложкин сразу же отобрал – заранее взятой лопаткой – килограмм пятнадцать материала; несколько странных скульптур небольшого размера и металлический полированный цилиндр, примерно метровой высоты.
По поверхности цилиндра перебегали легкие световые блики, будто отражение игры невидимого света, и Ложкина это сразу заинтересовало. Он провел по металлу рукой; поверхность была теплой и необъяснимо приятной на ощупь. Видимо, это был один из подарков, о которых рассказывал дед. Ложкин выключил электрический свет, чтобы лучше видеть это необычное свечение, однако оно вскоре исчезло.
После этого Ложкин открыл сейф; обещанные ему деньги лежали в целлофановых пакетиках, перехваченных резинками; их было много, и пакетиков, и денег. Столько денег сразу Ложкин еще никогда не видел в своей жизни. Максимум, что ему однажды удалось скопить – тысяча девятьсот долларов, причем деньги те долго не продержались. Он открыл один из пакетиков (ему все казалось, что кто-то смотрит в спину, ведь наружная дверь осталась не заперта) и подержал в пальцах сотенную бумажку. Одна из его знакомых (странная дама, бреющая голову налысо и пьющая водку с перцем) однажды сказала, что от такой бумажки веет негативной энергией, в десять раз сильнее, чем от десятки. Никакой негативной энергии Ложкин не чувствовал. Напротив, банкнота давала ощущение приятной силы.
Сейчас он держал в руках часть тех денег, из-за которых его предок решился на тройное убийство. Часть тех денег, из-за которых до сих пор умирают дети. И будут умирать. Это были проклятые деньги. Сконденсированная смерть. Ложкин положил банкноту на место и закрыл сейф. Деньги есть деньги, их нужно тратить, с одной стороны. Они не пахнут и не имеют памяти. А с другой стороны, ему не хотелось пользоваться этими деньгами. Во всяком случае, он не возьмет их без крайней необходимости.
Потом он отпер второй замок. Тяжелая дверь отошла мягко и без скрипа: видимо, петли были отлично смазаны. Ложкин вздрогнул – ему показалось, что кто-то потянул с той стороны. Он прислушался, ожидая услышать хоть что-нибудь, но услышал лишь гулкую объемную тишину. Просто сквозняк, ничего больше, – подумал он. – Сквозняк и нервы.
Самое главное находилось именно здесь.
За дверью виднелся темный коридор и хорошо освещенная лестница с высокими ступеньками. Видимо, электричество здесь включалось автоматически, как в холодильнике. Ложкин прошел сквозь коридор, стараясь ступать очень тихо, продолжая прислушиваться к тишине, и остановился перед первой ступенькой из тридцати пяти; узкая лестница поднималась над ним, как длинная труба. На ступеньках лежала пыль, а в ней отпечатались следы, напоминающие следы ворон на снегу. Впрочем, это были следы гораздо более крупной птицы. Пыль выглядела так, словно человек не поднимался здесь уже несколько месяцев. В самом верху трубы виднелась щель приоткрытой двери. Двери, которую невозможно запереть, двери в иной мир.
* * *
Глина, которую он взял с собой, была приятного розово-коричневого оттенка, она оказалась очень пластичной и имела равномерную консистенцию. Хорошо держала форму. Хорошо смешивалась с обыкновенной глиной, и Ложкин поначалу точно выдержал пропорцию один к десяти, о которой говорил дед. Выдержал, а затем добавил еще чуть-чуть. Он не мог удержаться – как артист Куравлев, который все же взглянул на карикатурно нелепого Вия.
Итак, он изготовил смесь. Она не давала трещин при предварительной просушке. Когда ее поверхность высохла до кожаной твердости, Ложкин занялся точной проработкой деталей. Он собирался изготовить довольно простую вещь, скорее упражнение, чем серьезную скульптуру: модель своей левой руки. А свою руку он лепил уже столько раз, что знал наизусть каждую морщинку на ней.
Он вылепил точный рисунок вен, остановился на выступающих костях пальцевых суставов. Сейчас кости выступали чуть сильнее, чем обычно, потому что рука стала тоньше; за последние дни Ложкин заметно похудел. Закончив с этим, Ложкин прорисовал основные морщины и линии ладони, сделал линию жизни длиннее и глубже, из какого-то детского суеверия выровнял линию судьбы. Линию сердца он почти не изменил, она и так была превосходна. Особенно тщательно он вылепил ногти и отшлифовал их до матового блеска; как ни странно, глина это позволяла. Затем отнес модель в печь.
У деда имелось две печи для обжига: маленькая и большая. Большая имела рабочую камеру величиной с кабину лифта, маленькая была чуть больше обычной микроволновки и работала на том же принципе. Большая стояла во дворе, маленькая – в доме. Обе имели хорошую регулировку температуры, с большим диапазоном и точной настройкой. В большую печь был встроен компьютер, для компенсации конвекционных потоков, для различных градиентов нагрева, для поддержки девяти разных кислородных режимов, для разных скоростей нагрева и охлаждения и для всего прочего. Ложкин просто не представлял себе, сколько стоит такая печь. Маленькая, попроще, была стандартной и стоила около тысячи долларов. Такие имелись во многих хороших мастерских. К вечеру Ложкин закончил обжиг модели и оставил ее остывать. Теперь ему оставалось только ждать.
Дом стоял на самом краю города, и в километре от него начинался лес. Вечером, около половины девятого, когда небо еще оставалось светлым, Ложкин вышел прогуляться, взяв с собой Полкана, уже пришедшего в себя и веселого, хотя и похожего на старую корзину, из-за страшно торчащих ребер.
Путь к лесу был недолгим, и хорошо знакомым. Вначале Ложкин спустился в овраг, который лежал за огородами. По пути он увидел соседей, которые сосредоточенно копали землю. Ложкин поздоровался с ними, но те не ответили. Они лишь наклонили головы, изображая нездоровое усердие. Ложкин повторил приветствие, но люди отвернулись, не желая его видеть.
Он пожал плечами и отправился дальше. Бог им судья.
Выйдя к лесу, он напился из колодца с ледяной водой, поднимая голову после каждого глотка, бросил в колодец лягушку, пойманную тут же. Он не делал этого больше двадцати лет; сейчас он снова был ребенком, просто нацепившим маскарадный костюм громоздкого взрослого тела; лягушка сделала всего один брык задними лапами и мягко легла на меловое дно в углу колодца. Еще несколько часов он лежал на траве, смотрел в небо, вначале тонущее в плывущей синеве, а затем пылающее от бесконечности звезд, и алчно вспоминал. Есть некие светящиеся вещи, о которых вспоминают только один раз, любое воспоминание будто выключает их свечение. К полуночи, когда в его душе уже ничего не светилось, Ложкин встал, разбудил мирно сопящего тупого Полкана, и направился обратно. Вдоль дороги плыли светляки. Полкан резвился в траве, имитируя охоту.
В комнате он нащупал выключатель, щелкнул и сразу же увидел модель руки, остывающую на подоконнике. Та самая глина, из которой Бог слепил Адама, – что могла означать эта фраза? Просто чушь? Непонятую метафору? Что рука оживет? Но ведь Ложкин не бог, а чтобы оживить мертвое вещество мало быть хорошим скульптором. Он дотронулся до глиняной руки – рука все еще была теплой. Глина уже стала твердой как камень. С ней не случилось ничего необычного, лишь глиняные ногти стали длиннее.
Что? Что это? Он замер, пораженный.
Ложкин поднес модель руки поближе к свету. Может быть, да, может быть, нет. Разница была такой небольшой, что даже его профессиональный глаз мог легко ошибиться. Доли миллиметра, не более того. Ногти не могут отрастать на глиняной руке. Или могут, если на самом деле это не-глина? Некая сверх-высокотехнологичная имитация глины? Если уже через два с половиной часа после обжига начали расти ногти, то что же произойдет после этого?