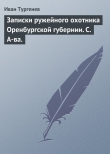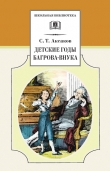Текст книги "Том 1. Семейная хроника. Детские годы Багрова-внука"
Автор книги: Сергей Аксаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Гораздо более существенно другое. По выходе в свет «Семейной хроники» Аксаков сообщил Тургеневу, что будет с интересом ожидать критических отзывов о своей книге, и добавил: «Всех более интересует меня мнение Некрасова. В последних стихах его так много истины и поэзии, глубокого чувства и простоты, что я поражен ими, ибо прежде не замечал ничего подобного в его стихах».[52]52
«Русское обозрение», 1894, № 12, стр. 577.
[Закрыть]
Эти замечательные строки еще раз свидетельствуют о той сложной внутренней борьбе, которая происходила в Аксакове, а также и о том, что здоровое, прогрессивное начало в художнике могло успешно противостоять его отсталому, консервативному мировоззрению.
Какое же место принадлежит творчеству Аксакова в русской литературе?
Этот вопрос возникал уже перед современной писателю критикой. И решался он по-разному. Критики-славянофилы немало потрудились над созданием легенды, смысл коей состоял в том, чтобы изолировать Аксакова от каких бы то ни было традиций русской литературы. Наиболее прямолинейно защищал эту легенду Константин Аксаков на страницах славянофильской «Русской беседы». «Сочинения С. Т. Аксакова, – писал он, – стоят совершенно особняком в литературе нашей», а потому «требуют особого определения, особой оценки, и имеют свое особое значение среди нашей литературы».[53]53
«Русская беседа», 1857,? 1, Обозрения, стр. 3.
[Закрыть]
Мысль об «особом» характере аксаковского творчества вдохновлялась прежде всего стремлением поставить его вне гоголевских традиций. Эта тенденция очень ясно сквозила во многих статьях славянофилов. Например, анонимный критик той же «Русской беседы» за год еще до выступления К. Аксакова попытался было объявить автора «Семейной хроники» неким противовесом гоголевскому направлению. До сих пор, рассуждал он, русская литература развивалась под знаком отрицательного воззрения на жизнь; этому процессу содействовал Гоголь; теперь же в литературе возникло стремление отрешиться от «голого отрицания» и «художественно примирить высшие духовные начала с осмеянными, оплеванными, презренными формами жизни». И вот С. Т. Аксаков является чуть ли не главой этого «ново-возникающего направления».[54]54
«Русская беседа», 1856, № 1, Критика, стр. 22.
[Закрыть]
С подобной же концепцией мы встречаемся и у Хомякова и у Шевырева. Оба они считали, что главная заслуга Аксакова якобы состояла в том, что он впервые взглянул на русскую действительность не с отрицательной, а с положительной точки зрения. Славянофильская критика стремилась использовать творчество Аксакова в борьбе не только против гоголевского направления, но и против революционно-демократической эстетики. В этом отношении была особенно примечательна статья А. Хомякова. Основываясь на шеллингианской теории о «свободе художества», Хомяков совершенно исключает из творческого акта «рассудочное начало» как разрушительное для искусства. Дело художника лишь изображать те или иные явления жизни, а не оценивать их. Хороши ли они, плохи ли они – его не касается. В защите Аксаковым этого принципа Хомяков видит «великое наставление», завещанное им всем художникам.[55]55
«Русская беседа», 1859, № 3, стр. VI.
[Закрыть]
Нетрудно заметить, что эта идейка была прямо направлена против учения Чернышевского об активной общественной роли искусства, имеющего своей целью вынесение приговора жизни.
Творчество Аксакова подвергалось в современной ему критике различным извращениям. Одни критики нигилистически отрицали какое бы то ни было значение его произведений, другие – апологетически превозносили писателя, утверждая, что он открыл новую эпоху в русской литературе и превзошел самого Гоголя. Против подобных утверждений решительно возражал Чернышевский, считавший обе точки зрения ошибочными, а вторую к тому же еще продиктованною «духом партии». Заметим, кстати, что и сам Аксаков выступал против неумеренных восхвалений в печати своих произведений и попыток изобразить его главой некой новой литературной школы. Об одном таком выступлении «Московских ведомостей» с иронией сообщал в январе 1856 года Аксаков своему сыну Ивану. Автор статьи, напечатанной в этой газете, писал: «Если кому-нибудь из наших современников суждено своим талантом, воззрением на жизнь и художественным воспроизведением жизни основать литературную школу, создать новые идеалы и форму, то, конечно, С. Т. Аксакову». Процитировав эти строки, писатель добавляет: «Последние слова совершенный вздор».[56]56
ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 14, л. 119 об.
[Закрыть]
Революционно-демократическая критика отстаивала произведения Аксакова от попыток спекуляции со стороны славянофилов и их единомышленников. Чернышевский и Добролюбов прекрасно понимали смысл фальшивой апологетики творчества С. Т. Аксакова и истинные цели, которые при этом преследовали враги гоголевского направления. Не скрывая слабых сторон аксаковского таланта, оба критика вместе с тем высоко чтили лучшие произведения писателя и вполне объективно оценивали его место в истории русской литературы.
Развернутый и глубокий анализ творчества Аксакова дал Добролюбов в своих двух известных статьях: «Деревенская жизнь помещика в старые годы» и «Разные сочинения С. Аксакова». Особенно замечательна первая из них. В «Семейной хронике» и «Детских годах» критик видел достоверную летопись эпохи, имеющую историческое значение. Но, будучи «несомненным памятником времен минувших», эти произведения, по убеждению Добролюбова, дают превосходный материал и для уяснений многих явлений современной жизни. Весь пафос добролюбовского анализа в том и состоял, чтобы показать читателю злободневность аксаковских наблюдений. Много воды утекло с тех пор, как совершились события, изображенные Аксаковым, но мало что с тех пор изменилось. Добролюбов дал политически очень острое, революционно-демократическое истолкование аксаковского творчества, превратив свою статью в страстный памфлет против крепостнического строя.
Вместе с тем Добролюбов не игнорирует и слабых сторон художественного метода Аксакова, проистекающих прежде всего из того, что он – писатель, отличающийся «более субъективной наблюдательностью, нежели испытующим вниманием к внешнему миру». Эта односторонность Аксакова во многом ослабляла обличительную направленность его произведений, ибо мешала ему понять, что произвол, господствующий в отношениях помещиков и крестьян, существовал не в результате только личной вины барина, а «независимо от того, вспыльчив был барин или нет», что произвол «был общим, неизбежным следствием тогдашнего положения землевладельцев».
Этот недостаток аксаковского таланта, отразившийся лишь частично в «Семейной хронике» и «Детских годах Багрова-внука», сказался, однако, как справедливо отметил Добролюбов, с неизмеримо большей силой в третьей части трилогии – «Воспоминаниях», а также в «Литературных и театральных воспоминаниях» и некоторых других статьях-мемуарах, собранных в «Разных сочинениях», последней вышедшей при жизни Аксакова книге. Эти произведения Аксакова содержат в себе интересный и полезный материал для истории русской литературы и театра. Конечно, по своей познавательной и литературной ценности они значительно уступают двум центральным книгам писателя. Талант Аксакова, писал Добролюбов, оказался «слишком субъективен для метких общественных характеристик» и «слишком наивен для острой и глубокой наблюдательности». И, однако же, эти мемуары заслуживают внимания современного читателя. Они содержат в себе много живых подробностей, характеризующих прошлое нашей литературы и театра, а кроме того, обладают тем немаловажным достоинством, что написаны пером большого художника, тем неповторимым аксаковским языком, который сам по себе – поэзия.
Смерть настигла Аксакова на шестьдесят восьмом году жизни (в ночь на 30 апреля 1859 г.). В статьях-некрологах писали, что русская литература лишилась своего «патриарха». «Мир праху честного и полезного гражданина! – читаем мы в некрологе, появившемся на страницах „Современника“. – Имя С. Т. Аксакова займет почетную страницу в истории русской литературы!».[57]57
«Современник», 1859, № 5, Смесь, стр. 158.
[Закрыть]
Большой и самобытный талант этого писателя, глубоко национальный по своему характеру, создал художественные произведения, стоящие в ряду самых выдающихся достижений русского реализма XIX века. Сопоставляя «Семейную хронику» и «Былое и думы», Тургенев однажды писал Герцену, что эти две книги представляют собой «правдивую картину русской жизни, только на двух ее концах и с двух различных точек зрения. Но земля наша не только велика и обильна, – она и широка и обнимает многое, что кажется чуждым друг другу!..»
Это меткое наблюдение большого художника помогает уяснить наше отношение к Аксакову. Его лучшие произведения, сохраняя значение достоверной летописи давно минувшей исторической эпохи, интересны современному читателю не только с точки зрения познавательной, они являются также источником огромной эстетической радости, которую доставляет встреча с подлинным произведением искусства.
С. Т. Аксакова высоко ценил М. Горький. Он видел в нем одного из самых тонких и глубоких живописцев природы и был убежден в том, что на его творчестве могут многому поучиться современные советские писатели. К числу любимых произведений Горького принадлежала «Семейная хроника». В повести «В людях» великий художник рассказал о том, как много значила книга Аксакова в истории его духовного развития. Он вспоминал, как эта книга, «Записки охотника» Тургенева и другие произведения русской литературы ему «вымыли… душу, очистив ее от шелухи впечатлений нищей и горькой действительности»; «я почувствовал, – пишет далее Горький, – что такое хорошая книга, и понял ее необходимость для меня. От этих книг в душе спокойно сложилась стойкая уверенность: я не один на земле и – не пропаду!»
Произведения Аксакова дороги нам, как чистый родник поэзии, неиссякаемый источник познания жизни, красоты окружающего нас мира природы. Книги Сергея Тимофеевича Аксакова обладают той удивительной силой нравственного воздействия на читателя, которая позволила им стать замечательным средством воспитания человека в человеке.
Семейная хроника*
Первый отрывок из «Семейной хроники»
Степан Михайлович Багров
ПереселениеТесно стало моему дедушке жить в Симбирской губернии, в родовой отчине своей, жалованной предкам его от царей московских; тесно стало ему не потому, чтоб в самом деле было тесно, чтоб недоставало лесу, пашни, лугов и других угодьев, – всего находилось в излишестве, – а потому, что отчина, вполне еще прадеду его принадлежавшая, сделалась разнопоместною. Событие совершилось очень просто: три поколения сряду в роду его было по одному сыну и по нескольку дочерей; некоторые из них выходили замуж, и в приданое им отдавали часть крестьян и часть земли. Части их были небольшие, но уже четверо чужих хозяев имели право на общее владение неразмежеванною землею, – и дедушке моему, нетерпеливому, вспыльчивому, прямому и ненавидящему домашние кляузы, сделалась такая жизнь несносною. С некоторого времени стал он часто слышать об Уфимском наместничестве, о неизмеримом пространстве земель, угодьях, привольях, неописанном изобилии дичи и рыбы и всех плодов земных, о легком способе приобретать целые области за самые ничтожные деньги. Носились слухи, что стоило только позвать к себе в гости десяток родичей отчинников Картобынской или Кармалинской тюбы,[58]58
Тюба – волость.
[Закрыть] дать им два-три жирных барана, которых они по-своему зарежут и приготовят, поставить ведро вина, да несколько ведер крепкого ставленого башкирского меду, да лагун корчажного крестьянского пива, так и дело в шляпе: неоспоримое доказательство, что башкирцы были не строгие магометане и в старину. Говорили, правда, что такое угощение продолжалось иногда неделю и две; да с башкирцами и нельзя вдруг толковать о деле, и надо всякий день спрашивать: «А что, знаком, добрый человек, давай говорить об мой дела».[59]59
Русские обитатели Оренбургской губернии до сих пор, говоря с башкирцами, стараются точно так же ломать русскую речь, как и сами башкирцы.
[Закрыть]
Если гости, евшие и пившие буквально день и ночь, еще не вполне довольны угощением, не вполне напелись своих монотонных песен, наигрались на чебызгах,[60]60
Чебызга – дудка, которую башкирец берет в рот, как кларнет, и, перебирая лады пальцами, играет на ней двойными тонами, так что вы слышите в одно и то же время каких-то два разных инструмента. Мне сказывали музыканты, что чебызга чудное явление в мире духовых инструментов.
[Закрыть] наплясались, стоя и приседая на одном месте в самых карикатурных положениях, то старший из родичей, пощелкавши языком, покачав головой и не смотря в лицо спрашивающему, с важностию скажет в ответ: «Пора не пришел – еще баран тащи». Барана, разумеется, притащат, вина, меду нальют, и вновь пьяные башкирцы поют, пляшут и спят, где ни попало… Но всему в мире есть конец; придет день, в который родич скажет, уже прямо смотря в глаза спрашивающему: «Ай, бачка, спасибо, больно спасибо! Ну что, какой твой нужда?» Тут, как водится, с природною русскому человеку ловкостию и плутовством, покупщик начнет уверять башкирца, что нужды у него никакой нет, а наслышался он, что башкирцы больно добрые люди, а потому и приехал в Уфимское наместничество и захотел с ними дружбу завести и проч. и проч.; потом речь дойдет нечаянно до необъятного количества башкирских земель, до неблагонадежности припущенников,[61]61
Припущенниками называются те, которые за известную ежегодную или единовременную плату, по заключенному договору на известное число лет, живут на башкирских землях. Почти ни одна деревня припущенников, по окончании договорного срока, не оставила земель башкирских; из этого завелись сотни дел, которые обыкновенно заканчиваются тем, что припущенники оставляются на местах своего жительства с нарезкой им пятнадцатидесятинной пропорции на каждую ревизскую душу по пятой ревизии… и вот как перешло огромное количество земель Оренбургской губернии в собственность татар, мещеряков, чуваш, мордвы и других казенных поселян.
[Закрыть] которые год-другой заплатят деньги, а там и платить перестанут, да и останутся даром жить на их землях, как настоящие хозяева, а там и согнать их не смеешь и надо с ними судиться; за такими речами (сбывшимися с поразительной точностью) последует обязательное предложение избавить добрых башкирцев от некоторой части обременяющих их земель… и за самую ничтожную сумму покупаются целые области и заключают договор судебным порядком, в котором, разумеется, нет и быть не может количества земли: ибо кто же ее мерил? Обыкновенно границы обозначаются урочищами, например вот так: «От устья речки Конлыелга до сухой березы на волчьей тропе, а от сухой березы прямо на общий сырт, а от общего сырта до лисьих нор, от лисьих нор до Солтамраткиной борти» и прочее. И в таких точных и неизменных межах и урочищах заключалось иногда десять, двадцать и тридцать тысяч десятин земли! И за все это платилось каких-нибудь сто рублей (разумеется, целковыми) да на сто рублей подарками, не считая частных угощений. – Полюбились дедушке моему такие рассказы; и хотя он был человек самой строгой справедливости и ему не нравилось надуванье добродушных башкирцев, но он рассудил, что не дело дурно, а способ его исполнения и что, поступя честно, можно купить обширную землю за сходную плату, что можно перевесть туда половину родовых своих крестьян и переехать самому с семейством, то есть достигнуть главной цели своего намерения; ибо с некоторого времени до того надоели ему беспрестанные ссоры с мелкопоместными своими родственниками за общее владение землей, что бросить свое родимое пепелище, гнездо своих дедов и прадедов, сделалось любимою его мыслию, единственным путем к спокойной жизни, которую он, человек уже немолодой, предпочитал всему.
Итак, накопивши несколько тысяч рублей, простившись с своей супругою, которую звал Аришей, когда был весел, и Ариной, когда бывал сердит, поцеловав и благословив четырех малолетных дочерей и особенно новорожденного сына, единственную отрасль и надежду старинного дворянского своего дома, ибо дочерей считал он ни за что. «Что в них проку! ведь они глядят не в дом, а из дому. Сегодня Багровы, а завтра Шлыгины, Малыгины, Поповы, Колпаковы. Одна моя надежда – Алексей…» – сказал на прощанье мой дедушка и отправился за Волгу, в Уфимское наместничество.
Но не сказать ли вам наперед, что за человек был мой дедушка.
Степан Михайлович Багров, так звали его, был не только среднего, а даже небольшого роста; но высокая грудь, необыкновенно широкие плечи, жилистые руки, каменное, мускулистое тело обличали в нем силача. В разгульной юности, в молодецких потехах, кучу военных товарищей, на него нацеплявшихся, стряхивал он, как брызги воды стряхивает с себя коренастый дуб после дождя, когда его покачнет ветер. Правильные черты лица, прекрасные большие темно-голубые глаза, легко загоравшиеся гневом, но тихие и кроткие в часы душевного спокойствия, густые брови, приятный рот – все это вместе придавало самое открытое и честное выражение его лицу; волосы у него были русые. Не было человека, кто бы ему не верил; его слово, его обещание было крепче и святее всяких духовных и гражданских актов. Природный ум его был здрав и светел. Разумеется, при общем невежестве тогдашних помещиков и он не получил никакого образования, русскую грамоту знал плохо; но служа в полку, еще до офицерского чина выучился он первым правилам арифметики и выкладке на счетах, о чем любил говорить даже в старости. Вероятно, он служил не очень долго, ибо вышел в отставку каким-то полковым квартирмейстером. Впрочем, тогда дворяне долго служили в солдатском и унтер-офицерском званиях, если не проходили их в колыбели и не падали всем на голову из сержантов гвардии капитанами в армейские полки. О служебном поприще Степана Михайловича я мало знаю; слышал только, что он бывал часто употребляем для поимки волжских разбойников и что всегда оказывал благоразумную распорядительность и безумную храбрость в исполнении своих распоряжений, что разбойники знали его в лицо и боялись, как огня. Вышед в отставку, несколько лет жил он в своем наследственном селе Троицком, Багрово тож, и сделался отличным хозяином. Он не торчал день и ночь при крестьянских работах, не стоял часовым при ссыпке и отпуске хлеба; смотрел редко, да метко, как говорят русские люди, и, уж прошу не прогневаться, если замечал что дурное, особенно обман, то уже не спускал никому. Дедушка, сообразно духу своего времени, рассуждал по-своему: наказать виноватого мужика тем, что отнять у него собственные дни, – значит вредить его благосостоянию, то есть своему собственному; наказать денежным взысканием – тоже; разлучить с семейством, отослать в другую вотчину, употребить в тяжелую работу – тоже, и еще хуже, ибо отлучка от семейства – несомненная порча; прибегнуть к полиции… боже помилуй, да это казалось таким срамом и стыдом, что вся деревня принялась бы выть по виноватом, как по мертвом, и наказанный счел бы себя опозоренным, погибшим. Да и надо сказать, что дедушка мой был строг только в пылу гнева; прошел гнев, прошла и вина. Этим пользовались: иногда виноватый успевал спрятаться, и гроза проходила мимо. Скоро крестьяне его пришли в такое положение, что было не на кого и не за что рассердиться.
Приведя в порядок свое хозяйство, дедушка мой женился на Арине Васильевне Неклюдовой, небогатой девице, также из старинного дворянского дома. При этом случае кстати объяснить, что древность дворянского происхождения была коньком моего дедушки, и хотя у него было сто восемьдесят душ крестьян, но, производя свой род, бог знает по каким документам, от какого-то варяжского князя, он ставил свое семисотлетнее дворянство выше всякого богатства и чинов. Он не женился на одной весьма богатой и прекрасной невесте, которая ему очень нравилась, единственно потому, что прадедушка ее был не дворянин.
Итак, вот каков был Степан Михайлович; теперь возвратимся к прерванному рассказу.
Переправившись чрез Волгу под Симбирском, дедушка перебил поперек степную ее сторону, называемую луговою, переехал Черемшан, Кандурчу, чрез Красное поселение, слободу селившихся тогда отставных солдат, и приехал в Сергиевск, стоящий на горе при впадении реки Сургута в Большой Сок. Сергиевск – ныне заштатный город, давший свое имя находящимся в двенадцати верстах от него серным источникам, известным под названием Сергиевских серных вод. Чем дальше углублялся дедушка в Уфимское наместничество, тем привольнее, изобильнее становились места. Наконец, в Бугурусланском уезде, около Абдуловского казенного винного завода, показались леса. В уездном городе Бугуруслане, расположенном по высокой горе, над рекою Большой Кинель, про которую долго певалась песня:
Кинель река
Не быстра, глубока,
Только тиниста, –
в Бугуруслане остановился Степан Михайлович, чтоб порасспросить и поразузнать поближе о продающихся землях, В этом уезде уже мало оставалось земель, принадлежавших башкирцам: все заселялись или казенными крестьянами, которым правительство успело раздать земли, описанные в казну за Акаевский бунт, прежде всеобщего прощения и возвращения земель отчинникам башкирцам, или были уже заселены их собственными припущенниками, или куплены разными помещиками. Из Бугуруслана дедушка делал поездки в Бугульминский, Бирский и Мензелинский уезды (из некоторых частей двух последних составлен ныне новый Белебеевский уезд); побывал он на прекрасных берегах Ика и Демы. Места очаровательные! И в старости Степан Михайлович с восторгом вспоминал о первом впечатлении, произведенном на него изобильными, плодоносными окрестностями этих рек; но он не поддался обольщению и узнал покороче на месте, что покупка башкирских земель неминуемо поведет за собою бесконечные споры и тяжбы, ибо хозяева сами хорошенько не знали прав своих и числа настоящих отчинников. Дедушка мой, ненавидящий и боявшийся, как язвы, слова тяжба, решился купить землю, прежде купленную другим владельцем, справленную и отказанную за него судебным порядком, предполагая, что тут уже не может быть никакого спора. Казалось, что суждение его было справедливо, но на деле вышло совсем другое, и меньшой внук его, уже будучи сорока лет, покончил последний спор. С сожалением воротился с берегов Ика и Демы дедушка мой в Бугуруслан и в двадцати пяти верстах от него купил землю у помещицы Грязевой по речке Большой Бугуруслан, быстрой, глубокой и многоводной. На сорок верст протяжения, от города Бугуруслана до казенного селения Красный Яр, оба берега его были не заселены: что за угодье, что за приволье было тогда на этих берегах! Вода такая чистая, что даже в омутах, сажени в две глубиною, можно было видеть на дне брошенную медную денежку! Местами росла густая урема[62]62
Уремой называется лес и кусты, растущие около рек.
[Закрыть] из березы, осины, рябины, калины, черемухи и чернотала, вся переплетенная зелеными гирляндами хмеля и обвешанная палевыми кистями его шишек; местами росла тучная высокая трава с бесчисленным множеством цветов, над которыми возносили верхи свои душистая кашка, татарское мыло (боярская спесь), скорлазубец (царские кудри) и кошечья трава (валериана). Бугуруслан течет по долине; по обеим сторонам его тянутся, то теснясь, то отступая, отлогие, а иногда и крутые горы; по скатам и отрогам их изобильно рос всякий черный лес; поднимешься на гору – там равнина, непочатая степь, чернозем в аршин глубиною. По реке и окружающим ее инде болотам все породы уток и куликов, гуси, бекасы, дупели и курахтаны вили свои гнезда и разнообразным криком и писком наполняли воздух; на горах же, сейчас превращавшихся в равнины, покрытые тучною травою, воздух оглашался другими особенными свистами и голосами; там водилась во множестве вся степная птица: дрофы, журавли, стрепета, кроншнепы и кречетки; по лесистым отрогам жила бездна тетеревов; река кипела всеми породами рыб, которые могли сносить ее студеную воду: щуки, окуни, голавли, язи, даже кутема и лох изобильно водились в ней; всякого зверя и в степях и лесах было невероятное множество; словом сказать: это был – да и теперь есть – уголок обетованный. – Дедушка купил около пяти тысяч десятин земли и заплатил так дорого, как никто тогда не плачивал, по полтине за десятину. Две тысячи пятьсот рублей в то время была великая сумма. Совершив купчую крепость и приняв землю во владение, то есть справив и отказав ее за собою, весело воротился он в Симбирскую губернию к ожидавшему его семейству и живо, горячо принялся за все приготовления к немедленному переселению крестьян: дело очень хлопотливое и трудное по довольно большому расстоянию, ибо от села Троицкого до ново-купленной земли было около четырехсот верст. В ту же осень двадцать тягол отправились в Бугурусланский уезд, взяв с собою сохи, бороны и семянной ржи; на любых местах взодрали они девственную почву, обработали двадцать десятин озимого посеву, то есть переломали непареный залог и посеяли рожь под борону; потом подняли нови еще двадцать десятин для ярового сева, поставили несколько изб и воротились на зиму домой. В конце зимы другие двадцать человек отправились туда же и с наступившею весною посеяли двадцать десятин ярового хлеба, загородили плетнями дворы и хлевы, сбили глиняные печи и опять воротились в Симбирскую губернию; но это не были крестьяне, назначаемые к переводу; те оставались дома и готовились к переходу на новые места: продавали лишний скот, хлеб, дворы, избы, всякую лишнюю рухлядь. Наконец, в половине июня, чтобы поспеть к Петрову дню, началу сенокоса, нагрузив телеги женами, детьми, стариками и старухами, прикрыв их согнутыми лубьями от дождя и солнца, нагромоздив необходимую домашнюю посуду, насажав дворовую птицу на верхи возов и привязав к ним коров, потянулись в путь бедные переселенцы, обливаясь горькими слезами, навсегда прощаясь с стариною, с церковью, в которой крестились и венчались, и с могилами дедов и отцов. Переселение, тяжкое везде, особенно противно русскому человеку; но переселяться тогда в неизвестную басурманскую сторону, про которую, между хорошими, ходило много и недобрых слухов, где, по отдаленности церквей, надо было и умирать без исповеди и новорожденным младенцам долго оставаться некрещеными, – казалось делом страшным!.. За крестьянами отправился и дедушка. Новоселившуюся деревню назвал Знаменским, дав обет, со временем, при благоприятных обстоятельствах построить церковь во имя знамения божия матери, празднуемого 27 ноября, что и было исполнено уже его сыном. Но крестьяне, а за ними и все окружные соседи, назвали новую деревеньку Новым Багровом, по прозванию своего барина и в память Старому Багрову, из которого были переведены: даже и теперь одно последнее имя известно всем, а первое остается только в деловых актах: богатого села Знаменского с прекрасною каменною церковию и высоким господским домом не знает никто. Неусыпно и неослабно смотрел дедушка за крестьянскими и за господскими работами: вовремя убрался с сенокосом, вовремя сжал яровое и ржаное и вовремя свез в гумно. Урожай был неслыханный, баснословный. Крестьяне ободрились. К ноябрю месяцу у всех были построены избы, и даже поспел небольшой господский флигель. Разумеется, дело не обошлось без вспоможения соседей, которые, несмотря на дальнее расстояние, охотно приезжали на помочи к новому разумному и ласковому помещику, – попить, поесть и с звонкими песнями дружно поработать. Зимой дедушка отправился в Симбирскую деревню и перевез свое семейство. На следующий год уже не так трудно было перевесть еще сорок душ и обзавести их хозяйством. Первым делом дедушки было в этот же год построить мельницу, ибо молоть хлеб надо было ездить верст за сорок. Итак, выбрав заранее место, где вода была не глубока, дно крепко, а берега высоки и также крепки, с обеих сторон реки подвели к ней плотину из хвороста и земли, как две руки, готовые схватиться, а для большей прочности оплели плотину плетнем из гибкой ивы: оставалось удержать быструю и сильную воду и заставить ее наполнить назначенное ей водоемище. С одной стороны, где берег казался пониже, заранее устроен был мельничный амбар на два мукомольные постава с толчеей. Все снасти были готовы и даже смазаны; на огромные водяные колеса через деревянные трубы кауза[63]63
Каузом называется деревянный ящик, по которому вода бежит и падает на колеса; около Москвы зовут его дворец (дверец), а в иных местах скрыни.
[Закрыть] должна была броситься река, когда, прегражденная в своем природном русле, она наполнит широкий пруд и станет выше дна кауза. Когда все уже было готово и четыре длинные дубовые сваи крепко вколочены в твердое, глинистое дно Бугуруслана, поперек будущего вешняка, дедушка сделал помочь на два дня; соседи были приглашены с лошадьми, телегами, лопатами, вилами и топорами. В первый день огромные кучи хвороста из нарубленного мелкого леса и кустов, копны соломы, навозу и свежего дерна были нагромождены по обеим сторонам Бугуруслана, до сих пор вольно, неприкосновенно стремившего свои воды. На другой день, на восходе солнца, около ста человек собрались занимать заимку, то есть запрудить реку. На всех лицах было что-то заботливое и торжественное: все к чему-то готовились; вся деревня почти не спала эту ночь. Дружно в одно и то же мгновенье, с громким криком сдвинули в реку с обоих берегов кучи хвороста, сначала связанного пучками; много унесло быстрое течение воды, но много его, задержанного сваями, легло поперек речного дна; связанные копны соломы с каменьями полетели туда же, за ними следовал навоз и земля; опять настилка хвороста, и опять солома и навоз, и сверху всего толстые слои дерна. Когда все это, кое-как затопленное, стало выше поверхности воды, человек двадцать крестьян, дюжих и ловких, вскочили на верх запруды и начали утаптывать и уминать ее ногами. Все это производилось с такою быстротою, с таким общим рвением, беспрерывным воплем, что всякий проезжий или прохожий испугался бы, услыхав его, если б не знал причины. Но пугаться было некому; одни дикие степи и темные леса на далекое пространство оглашались неистовыми криками сотни работников, к которым присоединялось множество голосов женских и еще больше ребячьих, ибо все принимало участие в таком важном событии, все суетилось, бегало и кричало. Не скоро сладили с упрямой рекой; долго она рвала и уносила хворост, солому, навоз и дерн; но, наконец, люди одолели, вода не могла пробиться более, остановилась, как бы задумалась, завертелась, пошла назад, наполнила берега своего русла, затопила, перешла их, стала разливаться по лугам, и к вечеру уже образовался пруд, или, лучше сказать, всплыло озеро без берегов, без зелени, трав и кустов, на них всегда растущих; кое-где торчали верхи затопленных погибших дерев. На другой день затолкла толчея, замолола мельница – и мелет и толчет до сих пор…