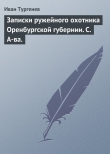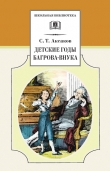Текст книги "Том 1. Семейная хроника. Детские годы Багрова-внука"
Автор книги: Сергей Аксаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Николай Федорыч чувствовал себя очень плохо и хотел как можно скорей сыграть свадьбу; но как в то же время он желал, чтоб приданое было устроено богато и пышно, то принуждены были отложить свадьбу на несколько месяцев. Старинные материнские брильянты и жемчуги надобно было переделать и перенизать по новому фасону в Москве и оттуда же выписать серебро и некоторые наряды и подарки; остальные же платья, занавес парадной кровати и даже богатый чернобурый салоп, мех которого давно уже был куплен за пятьсот рублей и которого теперь не купишь за пять тысяч, – все это было сшито в Казани; столового белья и голландских полотен было запасено много. Десять тысяч, назначенные на приданое, составляли тогда большую сумму, а как много дорогого было припасено заранее, то роспись приданого выходила так роскошна и великолепна, что, читая ее теперь, трудно поверить дешевизне восьмидесятых годов прошедшего столетия.
Первым делом, после обручения и помолвки, были рекомендательные письма ко всем родным жениха и невесты. Софья Николавна, владевшая, между прочим, особенным дарованием писать красноречиво, написала такое письмо к будущему свекру и свекрови, что Степан Михайлыч хотя был не сочинитель и не писака, но весьма оценил письмо будущей своей невестки. Выслушав его с большим вниманием, он взял его из рук Танюши и, с удовольствием заметив четкость руки невесты, сам прочел письмо два раза и сказал: «Ну, умница и, должно быть, горячая душа!» Вся семья злилась и молчала; одна Александра Степановна не вытерпела и, сверкая круглыми, выкатившимися от бешенства зрачками, сказала: «Что и говорить, батюшка, книжница; мягко стелет, да каково-то будет спать!» Но старик грозно взглянул на нее и зловещим голосом сказал: «А почем ты знаешь? Ничего не видя, уж ты коришь! Смотри! держи язык за зубами и других у меня не мути». После таких слов все пришипились и, разумеется, еще более возненавидели Софью Николавну. Степан Михайлыч под влиянием теплого и ласкового письма взял сам перо в руки и, вопреки всяким церемониям, написал следующее:
«Милая моя, дорогая и разумная, будущая невестушка.
Если ты нас, стариков, так заочно полюбила и уважаешь, то и мы тебя полюбили; а при свиданье, бог даст, и еще больше полюбим, и будешь ты нам, как родная дочь, и будем мы радоваться счастию нашего сына Алексея».
Софья Николавна также по достоинству оценила простую речь старика; она уже прежде, по одним рассказам, полюбила его заочно. Родных у невесты не было, и писать ее жениху было не к кому. Но она захотела, чтоб Алексей Степаныч написал рекомендательное письмо к ее заочному другу и покровителю ее братьев, А. Ф. Аничкову; разумеется, жених с радостью согласился исполнить ее желание. Софья Николавна не слишком надеялась на уменье Алексея Степаныча объясняться письменно и пожелала предварительно взглянуть на письмо. Боже мой, что прочла она в этом письме! Алексей Степаныч, много наслышавшись об Аничкове, вздумал написать витиевато, позаимствовался из какого-нибудь тогдашнего романа и написал две страницы таких фраз, от которых, при других обстоятельствах, Софья Николавна расхохоталась бы, но теперь… кровь бросилась ей в голову, и потом слезы хлынули из глаз. Успокоившись, она сначала не знала, как ей быть, как выйти из этого затруднительного положения? Впрочем, она думала недолго, написала черновое письмо от жениха к Аничкову и сказала Алексею Степанычу, что по непривычке к переписке с незнакомыми людьми он написал такое письмо, которое могло бы не понравиться Аничкову, и потому она написала черновое и просит его переписать и послать по адресу. Ей было совестно, и больно, и оскорбительно за своего жениха, голос ее слегка дрожал, и она едва владела собою; но жених чрезвычайно обрадовался такому предложению; выслушав письмо, восхищался им, удивлялся сочинительнице и покрывал поцелуями ее руки. Тяжел был первый шаг к неуважению будущего своего супруга и к осуществлению мысли повелевать им по произволу…
Зная, что у стариков мало денег и что они поневоле скупы на них, Алексей Степаныч написал просительное письмо к своим родителям с самым умеренным требованием денег и для подкрепления своих слов упросил Алакаеву, чтобы она написала к Степану Михайлычу и удостоверила в справедливой просьбе сына и в необходимости издержек для предназначенной свадьбы; он просил всего восемьсот рублей, но Алакаева требовала тысячу пятьсот рублей. Старики отвечали сыну, что у них таких денег нет и что они посылают ему последние триста рублей; а пятьсот рублей, если они уж необходимы, предоставляли ему у кого-нибудь занять, но прибавляли, что пришлют ему четверку лошадей, кучера, форейтора, повара и всяких съестных припасов. На Алакаеву же старики рассердились за требование такой огромной суммы и не отвечали ей. Делать было нечего; Алексей Степаныч поблагодарил за милости своих родителей и занял пятьсот рублей; но как этих денег недостало, то Алакаева дала ему еще своих пятьсот рублей тайно от его стариков.
Между тем свидания жениха с невестой становились чаще, продолжительнее, а разговоры откровеннее. Тут только увидела Софья Николавна, как много будет ей работы в будущем; тут только она вполне разглядела своего жениха! Она не ошиблась в том, что он имел от природы хороший ум, предоброе сердце и строгие правила честности и служебного бескорыстия, но зато во всем другом нашла она такую ограниченность понятий, такую мелочность интересов, такое отсутствие самолюбия и самостоятельности, что неробкая душа ее и твердость в исполнении дела, на которое она уже решилась, – не один раз сильно колебались; не один раз приходила она в отчаяние, снимала с руки обручальное кольцо, клала его перед образом Смоленския божия матери и долго молилась, обливаясь жаркими слезами, прося просветить ее слабый ум. Так поступала она, что мы уже знаем, во всех трудных обстоятельствах своей жизни. После молитвы Софья Николавна чувствовала себя как-то бодрее и спокойнее, принимала это чувство за указание свыше, надевала обручальное кольцо и выходила в гостиную к своему жениху спокойная и веселая. Больной ее отец чувствовал себя час от часу хуже и слабее; дочь умела его уверить, что она с каждым днем открывает новые достоинства в своем женихе, что она совершенно довольна и надеется быть счастливою замужем. Тяжкий недуг уже омрачал ясность взгляда Николая Федорыча; он не только верил искренности своей дочери, но и сам убеждался, что его Сонечка будет счастлива, и часто говорил: «Слава богу, теперь мне легко умереть».
Приближалось время свадьбы. Все приданое было готово. Жених также приготовился благодаря советам Алакаевой, которая совершенно взяла его в руки. Умная старуха сама не подозревала, до какой степени Алексей Степаныч не знал и не понимал приличий в общественной жизни. Без нее он наделал бы таких промахов, от которых невеста не один раз сгорела бы со стыда. Например, он хотел подарить ей в день именин такой материи на платье, какую можно было подарить только ее горничной; он думал ехать к венцу в какой-то старинной повозке на пазах, которая возбудила бы смех в целом городе, и пр. и пр. Оно в сущности ничего не значит, но видеть своего жениха посмешищем уфимского модного света было бы слишком тяжело для Софьи Николавны. Разумеется, все это было поправлено Алакаевой, или, лучше сказать, самой невестой, потому что старуха обо всем советовалась с нею. Софья Николавна заранее объявила жениху, чтоб он и не думал дарить ее в именины, потому что она терпеть не может именинных подарков. Для свадьбы же приказала купить аглицкую новенькую карету, только что привезенную из Петербурга одним уфимским помещиком Мурзахановым, успевшим промотаться и проиграться в несколько месяцев. За карету было заплачено триста пятьдесят рублей ассигнациями. Софья Николавна отдала за нее свои деньги и прислала в подарок жениху от имени своего отца, запретив ему беспокоить своей благодарностью умирающего старика. Так улаживались и другие затруднения. Алексей Степаныч и Софья Николавна написали от себя и от имени Николая Федорыча письма к Степану Михайлычу и, Арине Васильевне, убедительно прося их осчастливить своим приездом на свадьбу. Зажившиеся в деревне и одичавшие старики, разумеется, не поехали: город и городское общество представлялись им чем-то чуждым и страшным. Из дочерей также никто не хотел ехать, но Степану Михайлычу показалось это неловким, и он приказал отправиться на свадьбу Елизавете и Александре Степановнам. Ерлыкин находился на службе в Оренбурге, а Иван Петрович Каратаев сопровождал свою супругу в Уфу. Прибытие этих незваных и неожиданных гостей наделало много огорчений Софье Николавне. Будущие ее золовки, от природы очень умные и хитрые, расположенные враждебно, держали себя с нею холодно, неприязненно и даже неучтиво. Хотя Софья Николавна слишком хорошо угадывала, какого расположения можно ей было ждать от сестер своего жениха, тем не менее она сочла за долг быть сначала с ними ласковою и даже предупредительною; но увидя, наконец, что все ее старания напрасны и что чем лучше она была с ними, тем хуже они становились с нею, – она отдалилась и держала себя в границах светской холодной учтивости, которая не защитила ее, однако, от этих подлых намеков и обиняков, которых нельзя не понять, которыми нельзя не оскорбляться и которые понимать и которыми оскорбляться в то же время неловко, потому что сейчас скажут: «На воре шапка горит». Отвратительное оружие намеков и обиняков, выгнанное образованностью в обществе мещан, горничных и лакеев, было тогда оружием страшным и общеупотребительным в домах деревенских помещиков, по большей части весьма близких с своей прислугой и нравами и образованием. Да еще правду ли я сказал, что оно выгнано? Не живет ли оно и теперь между нас, сокрытое под другими, более приличными, более искусственными формами? Разумеется, всему уфимскому обществу показались сестрицы жениха деревенскими чучелами. Что касается до Ивана Петровича, уже довольно обашкирившегося и всегда начинавшего с восьми часов утра тянуть желудочный травник, то он при первой рекомендации чмокнул три раза ручку у Софьи Николавны и с одушевлением истинного башкирца воскликнул: «Ну, какую кралечку подцепил брат Алексей!» Много переглотала Софья Николавна слез от злобных выходок будущих своих золовок и грубых шуток и любезностей будущего свояка. Всего прискорбнее было то, что Алексей Степаныч ничего не примечал и, казалось, был очень доволен обращением своих сестер с Софьей Николавной, и, конечно, это ее не только огорчало в настоящем, но и пугало в будущем. Ядовитые эти змеи, остановясь у брата в доме, с первой же минуты начали вливать свой яд в его простую душу и делали это так искусно, что Алексей Степаныч не подозревал их ухищрений. Тысячи намеков на гордость его невесты, на ее нищенство, прикрывающееся золотом и парчою, на его подчиненность воле и прихотям Софьи Николавны беспрестанно раздавались в его ушах; много он не замечал, не понимал, но многое попадало прямо в цель, смущало его ум и бессознательно заставляло задумываться. Все эти уловки, а иногда и открытые нападения, прикрывались видом участия и родственной любви. «Что это, братец, как ты худ? – говорила Елизавета Степановна. – Ты совсем измучился, исполняя приказания Софьи Николавны. Вот теперь, ты только что воротился из Голубиной Слободки,[76]76
Отдаленная улица в Уфе.
[Закрыть] устал, проголодался и, ничего не покушавши, скачешь опять на дежурство к невесте. Ведь мы тебе родные, ведь нам тебя жалко…» И притворные слезы или по крайней мере морганье глазами и утиранье их платком довершали вкрадчивую речь. «Нет, – бешено врывалась в разговор Александра Степановна, – не могу утерпеть. Я знаю, ты осердишься, братец, а может быть, и разлюбишь нас; так, видно, угодно богу, но я скажу тебе всю правду: ты совсем переменился, ты нас стыдишься, ты нас совсем забыл; у тебя только и на уме как бы лизать ручки у Софьи Николавны да как бы не проштрафиться перед нею. Ведь ты сделался ее слугой, крепостным слугой! Каково нам видеть, что уж и эта старая ведьма Алакаева помыкает тобой, как холопом: поезжай туда, то-то привези, об этом-то справься… да приказывает еще все делать проворнее, да еще изволит выговоры давать; а нас и в грош не ставит, ни о чем с нами и посоветоваться не хочет…» Алексей Степаныч не находил слов для возражения и говорил только, что он сестриц своих любит и всегда будет любить и что ему пора ехать к Софье Николавне, после чего брал шляпу и поспешно уходил. «Да, беги, беги поскорее, – кричала ему вслед бешеная Александра Степановна, – а то прогневается да еще ручки не пожалует». Подобные явления повторялись не один раз и, конечно, производили свое впечатление. Софья Николавна не могла не заметить, что приезд сестриц Алексея Степаныча произвел в нем некоторую перемену. Он казался смущенным, не с такою точностью исполнял свои обещания и даже менее проводил с ней время. Софья Николавна очень хорошо понимала настоящую причину; к тому же Алакаева, с которою вошла она в короткие и дружеские отношения и которая знала все, что делается на квартире у Алексея Степаныча, не оставляла ее снабжать подробными сведениями. Софья Николавна по своей пылкой и страстной природе не любила откладывать дела в долгий ящик. Она справедливо рассуждала, что не должно давать время и свободу укореняться вредному влиянию сестриц, что необходимо открыть глаза ее жениху и сделать решительное испытание его характеру и привязанности, и что, если и то и другое окажется слишком слабым, то лучше разойтись перед венцом, нежели соединить судьбу свою с таким ничтожным существом, которое, по ее собственному выражению, «от солнышка не защита и от дождя не епанча». Рано утром она вызвала к себе жениха, затворилась с ним в гостиной, не приказала никого принимать и обратилась к испуганному и побледневшему Алексею Степанычу с следующими словами: «Послушайте, я хочу объясниться с вами откровенно, сказать вам все, что у меня лежит на сердце, и от вас требую того же. Сестрицы ваши меня терпеть не могут и употребили все старания, чтоб восстановить против меня ваших родителей. Я знаю все это от вас самих. Ваша любовь ко мне преодолела все препятствия: родители ваши дали вам свое благословение, и я решилась за вас выйти, не побоявшись ненависти целой семьи. Я надеялась найти себе защиту в вашей ко мне любви и в моем старании доказать вашим родителям, что я не заслуживаю их неприязни. Я вижу теперь, что я ошиблась. Вы сами видели, как я приняла ваших сестриц, как я ласкалась, как я старалась угодить им. Они заставили меня удалиться своими грубостями, но я ни разу не сделала им ни малейшей невежливости. Что же из этого вышло? Прошла только одна неделя, как приехали ваши сестрицы, и вы уже много переменились ко мне: вы забываете или не смеете иногда исполнять того, что мне обещали, вы менее проводите со мной времени, вы смущены, встревожены, вы даже не так ласковы ко мне, как были прежде. Не оправдывайтесь, не запирайтесь, это было бы нечестно с вашей стороны. Я знаю, что вы меня не разлюбили; но вы боитесь показывать мне свою любовь, боитесь ваших сестер и потому смущаетесь и даже избегаете случаев оставаться со мной наедине. Это все совершенная правда, вы сами это знаете. Итак, скажите, какую надежду могу я иметь на твердость вашей любви? Да и что это за любовь, которая струсила и прячется оттого, что невеста ваша не нравится вашим сестрицам, о чем вы давно знаете? Что же будет, если я не понравлюсь вашим родителям и если они косо на меня посмотрят? Да вы разлюбите меня в самом деле! Нет, Алексей Степаныч, благородные люди не так любят и не так поступают. Зная, что меня терпеть не могут ваши родные, вы должны были удвоить при них ваше внимание, нежность и уважение ко мне – тогда они не осмелились бы и рта разинуть; а вы допустили их говорить вам в глаза оскорбительные мне слова. Я все знаю, что они говорят вам. Я заключаю из всего этого, что любовь ваша пустое нежничанье, что на вас нельзя положиться и что нам лучше расстаться теперь, нежели быть несчастными на всю жизнь. Подумайте хорошенько о моих словах. Я даю вам два дня, чтобы их обдумать. Продолжайте ездить к нам, но два дня я не буду видеться с вами наедине и не стану поминать об этом разговоре; потом спрошу вас по совести, как честного человека: имеете ли вы довольно твердости, чтобы быть моим защитником против ваших родных и всех, кто вздумал бы оскорблять меня? Можете ли вы заставить ваших сестер не обижать меня и заочно, в вашем присутствии, ни одним словом, ни одним оскорбительным намеком. Хотя разрыв за неделю до свадьбы для всякой благовоспитанной девушки большое несчастие, но лучше перенести его разом, нежели мучиться всю жизнь. Вы знаете, что я не влюблена в вас, но я начинала любить вас и, конечно, полюбила бы сильнее и постояннее, чем вы. Прощайте! Сегодня и завтра мы чужие». Алексей Степаныч, давно заливавшийся слезами и несколько раз порывавшийся что-то сказать, не успел разинуть рта, как невеста ушла и заперла за собою дверь. Как громом пораженный, Алексей Степаныч не вдруг пришел в себя. Наконец, мысль потерять обожаемую Софью Николавну представилась ему с поразительною ясностью, ужаснула его и вызвала то мужество, ту энергию, к которой бывают способны на короткое время люди самого слабого, самого кроткого нрава. Он поспешно отправился домой, и когда его сестрицы, нисколько не сжалившись над огорченным и расстроенным видом братца, встретили его обычными злобными шуточками – Алексей Степаныч пришел в исступление и задал им такую выпалку, что они перепугались. Человек добрый, тихий и терпеливый бывает страшен в гневе. Алексей Степаныч сказал между прочим своим сестрам, что «если они осмелятся еще сказать при нем хотя одно оскорбительное слово об его невесте или насчет его самого, то он в ту же минуту переедет на другую квартиру, не велит их пускать ни к себе, ни к невесте и обо всем напишет к батюшке». Этого было довольно. Александра Степановна твердо помнила слова отца: «Держи язык за зубами и других у меня не мути». Она очень хорошо знала, какая грозная туча взмыла бы от жалобы братца и каких страшных последствий могла она ожидать. Обе сестрицы кинулись на шею Алексея Степаныча, просили прощенья, плакали, крестились и божились, что вперед этого никогда не будет, что они сами и смерть как любят Софью Николавну и что только из жалости к его здоровью, для того, чтобы он меньше хлопотал, они позволяли себе такие глупые шутки. В тот же день поехали они к Софье Николавне, лебезили перед ней и ласкались самым униженным образом. Она очень хорошо поняла, что это значит, и – торжествовала. Положение несчастного жениха было поистине достойно сожаления. Его любовь, несколько успокоившаяся, приутихшая от частых свиданий и простого, ласкового обращения Софьи Николавны, от уверенности в близости свадьбы, несколько запуганная и как будто пристыженная насмешками сестер, – вспыхнула с такою яростью, что в настоящую минуту он был способен на всякое самоотвержение, на всякий отчаянный поступок, пожалуй – на геройство. Все это ярко выражалось на его молодом и прекрасном лице, и с таким-то лицом несколько раз являлся он перед Софьей Николавной в продолжение этих бесконечных двух дней. Тяжело было ей смотреть на него, но она имела твердость выдержать назначенный искус. Она сама не ожидала того сердечного волнения и тоскливой жалости, которые испытала в это время. Она почувствовала, что уже любит этого смиренного, простого молодого человека, безгранично ей преданного, который не задумался бы прекратить свою жизнь, если б она решилась отказать ему!.. Наконец, прошли и эти долгие два дня. На третий, рано поутру, Алексей Степаныч дожидался своей невесты в гостиной; тихо отворилась дверь, и явилась Софья Николавна прекраснее, очаровательнее, чем когда-нибудь, с легкою улыбкою и с выражением в глазах такого нежного чувства, что, взглянув на нее и увидя ласково протянутую руку, Алексей Степаныч от избытка сильного чувства обезумел, на мгновение потерял употребление языка… но вдруг опомнившись, не принимая протянутой руки, он упал к ногам своей невесты, и поток горячего сердечного красноречия, сопровождаемый слезами, полился из его груди. Софья Николавна не дала ему кончить, она подняла его, сказала ему, что она видит, чувствует и разделяет любовь его, верит всем его обещаниям и без страха вручает ему свою судьбу. Она приласкала его так, как никогда не ласкала, и сказала несколько таких нежных слов, каких никогда не говорила…
Только пять дней оставалось до свадьбы. Все приготовления были совершенно кончены, и жених и невеста, свободные от хлопот, почти не расставались. Уже пять месяцев Софья Николавна была невестой Алексея Степаныча, и во все это время, верная своему намерению перевоспитать своего жениха – невеста не теряла ни одной удобной минуты и старалась своими разговорами сообщать ему те нравственные понятия, которых у него недоставало, уяснять и развивать то, что он чувствовал и понимал темно, бессознательно, и уничтожать такие мысли, которые забрались ему в голову от окружающих его людей; она даже заставляла его читать книги и потом, разговаривая с ним о прочитанном, с большим искусством объясняла все смутно или превратно понятое, утверждая все шаткое и применяя вымышленное к действительной жизни. Но едва ли во все эти пять хлопотливых месяцев успела Софья Николавна высказать так много нового, как в эти пять дней; по случаю же недавнего, сейчас мною рассказанного происшествия, поднявшего, изощрившего, так сказать, душу жениха, все было принято Алексеем Степанычем с особенным сочувствием. Каков вообще был успех этого курса нравственной педагогики – я решить на себя не беру. Трудно судить, до какой степени были справедливы мнения обоих особ, о которых я говорю; но они впоследствии согласно утверждали, ссылаясь на отзыв посторонних людей, что в Алексее Степаныче произошла великая перемена, что он точно переродился. Я охотно готов этому верить, но имею доказательство, что в знании светских приличий успехи Алексея Степаныча были не так велики. Я знаю, что он рассердил свою невесту накануне свадьбы и что ее вспыльчивость произвела сильное и болезненное впечатление на кроткую его душу. Вот как это происходило: у Софьи Николавны сидели две значительные уфимские дамы; вдруг входит лакей с каким-то бумажным свертком, подает Софье Николавне и докладывает, что Алексей Степаныч прислал это с кучером и приказал, «чтобы вы поскорее сделали чепец для Александры Степановны». Не предупрежденная ни одним словом своего жениха, который только за полчаса с нею расстался, Софья Николавна вспыхнула от досады. Значительные дамы, будто бы подумавшие сначала, что этот сверток подарок от жениха, не хотели скрыть своих улыбок, и невеста, не совладев с собою, приказала отнести посылку назад и сказать Алексею Степанычу, «чтобы он обратился к чепечнице и что, верно, по ошибке принесли к ней эту работу». Дело происходило весьма просто: жених, воротясь домой, нашел свою сестру в большом затруднении, потому что мастерица, которая взялась сделать ей для свадьбы парадный чепчик, вдруг захворала и прислала назад весь материал. Алексей Степаныч, видевший своими глазами, как искусно его невеста делала головные уборы, вызвался пособить сестриному горю и приказал Никанорке отнесть к Софье Николавне вышеупомянутый сверток и покорнейше просить ее, чтобы она сделала чепчик для Александры Степановны. Никанорка не пошел сам за недосугом и послал кучера, а кучер вместо покорнейшей просьбы передал приказание. Алексей Степаныч поспешил к невесте для объяснения и взял с собою опять тот же несчастный сверток. Софья Николавна, не простывшая еще от первой вспышки, увидя жениха, входящего с знакомым ей свертком бумаги, вспылила еще больше и наговорила много лишних, горячих и оскорбительных слов. Жених смутился, растерялся, оправдывался очень плохо, но сердечно огорчился. Софья Николавна отослала материал для чепчика к какой-то известной ей женщине и, раскаявшись в своей горячности, старалась ее поправить; но, к удивлению своему, Алексей Степаныч не мог забыть оскорбления, смешанного с каким-то страхом; он сделался очень печален, и напрасно старалась невеста успокоить и развеселить его.
Наступило 10 мая 1788 года, день, назначенный для свадьбы. Жених приехал к невесте поутру, и Софья Николавна, уже встревоженная накануне, к огорчению своему увидела, что вчерашнее грустное выражение не сошло с лица Алексея Степаныча. Она сама в свою очередь огорчилась и даже оскорбилась. Она привыкла думать, что Алексей Степаныч не будет помнить себя от радости в тот день, когда поведет ее к венцу, а он является невеселым и даже грустным! Она сказала это своему жениху и тем смутила его еще больше. Разумеется, он старался уверить ее, что считает себя блаженнейшим из смертных и проч., но надутые и пошлые слова, произносимые и прежде много раз и выслушиваемые с удовольствием, теперь не проникнутые смыслом внутреннего одушевления, неприятно отозвались в слухе невесты. Через несколько времени они расстались с тем, чтобы увидеться уже в церкви, где в шесть часов вечера жених должен был ожидать невесту.
Страшное сомнение возникло в душе Софьи Николавны: будет ли счастлива она замужем? Много темных пророческих мыслей пробежало в ее пылком уме. Она обвиняла себя за горячность, за резкие выражения; сознавалась, что причина была ничтожна, что она должна была предвидеть множество подобных промахов своего жениха и принимать их спокойно. Они уже и случались не один раз, но тут несчастное стечение обстоятельств, присутствие посторонних дам, с которыми она была в неприязненных отношениях, укололо ее самолюбие и раздражило ее природную вспыльчивость. Она чувствовала, что испугала Алексея Степаныча, каялась в своей вине и в то же время сознавалась во глубине своей души, что способна провиниться опять. Тут снова представилась ей вся трудность взятого на себя подвига: перевоспитание, пересоздание уже двадцатисемилетнего человека. Целая жизнь, долгая жизнь с мужем-неровней, которого она при всей любви не может вполне уважать, беспрестанное столкновение совсем различных понятий, противоположных свойств, наконец, частое непонимание друг друга… и сомнение в успехе, сомнение в собственных силах, в спокойной твердости, столько чуждой ее нраву, впервые представилось ей в своей поразительной истине и ужаснуло бедную девушку!.. Но что же делать? Неужели разорвать свадьбу пред самым венцом, поразить своего умирающего отца, привыкшего к успокоительной мысли, что его Сонечка будет счастлива за добрым человеком? Неужели потешить всех своих недоброжелателей, особенно значительных дам? Сделаться баснею, шуткою города и целого края, может быть подвергнуться клеветам? Наконец, убить, в настоящем значении слова убить страстно любящего ее жениха? И все это из одного опасения, что у ней недостанет твердости к выполнению давно обдуманного плана, который начинал уже блистательно осуществляться? «Нет, не бывать тому! Бог поможет мне, Смоленская божия матерь будет моей заступницей и подаст мне силы обуздать мой вспыльчивый нрав…» Так думала и так решила Софья Николавна. Слезы и молитва возвратили ей твердость.
Церковь Успения божией матери находилась очень близко от дома невесты и стояла тогда на пустыре. Задолго до шести часов она окружена была толпою любопытного народа. Высокий крылец зубинского дома, выходивший на улицу, обставился экипажами тех особ, которые были приглашены провожать невесту; остальное общество съезжалось прямо в церковь. Невесту одевали к венцу. Маленький брат, трехлетний Николенька, которого рождение стоило жизни его матери, обувал Софью Николавну по принятому обычаю, разумеется с помощию горничных. В исходе шестого часа невеста была уже готова и, приняв благословение отца, вышла в гостиную. Богатый подвенечный наряд придавал еще более блеску ее красоте. Дорога от дома жениха в церковь лежала мимо окон гостиной, и Софья Николавна видела, как он проехал туда в английской мурзахановской карете на четверке славных доморощенных лошадей; она даже улыбнулась и ласково кивнула головой Алексею Степанычу, который, высунувшись из кареты, глядел в растворенные окна дома. Проехали также сестры жениха, Алакаева и все мужчины, провожавшие его в церковь. Невеста не хотела, чтобы жених дожидался, и хотя ее останавливали, но она настояла, чтобы ехали немедленно. Софья Николавна спокойно и твердо вошла в церковь, ласково и весело подала руку своему жениху, но смутилась, увидев на его лице то же грустное выражение, и все заметили, что жених и невеста были невеселы под венцом. Церковь была ярко освещена и полна народа; архиерейские певчие не щадили своих голосов. Свадьба во всех отношениях была парадна и великолепна. По окончании обряда сестры, весь поезд с обеих сторон и также лучшая уфимская публика сопровождали молодых в дом к Николаю Федорычу. Там немедленно начались и продолжались танцы до богатого, но раннего ужина. Все гости, имевшие право входить к Николаю Федорычу в кабинет, перебывали у него и поздравили со вступлением в брак его дочери. На другой и следующие дни происходило все то, что обыкновенно при таких случаях бывает, то есть обед, бал, визиты, опять обед и опять бал: одним словом, все точно так, как водится и теперь, даже в столицах.
Грустная тень давно слетела с лица молодых. Они были совершенно счастливы. Добрые люди не могли смотреть на них без удовольствия, и часто повторялись слова: «Какая прекрасная пара!» Через неделю молодые собирались ехать в Багрово, куда сестры Алексея Степаныча уехали через три дня после свадьбы. Софья Николавна написала с ними ласковое письмо к старикам.
Сестры Алексея Степаныча, после неожиданной вспышки братца, держали себя в последнее время осторожно: не позволяли при нем себе никаких намеков, ужимок и улыбок, а перед Софьей Николавной были даже искательны; но, разумеется, этим нисколько ее не обманули, зато братец поверил от души их искреннему расположению к невесте. На свадьбе и на праздниках после свадьбы, разумеется, они играли жалкие роли, а потому поспешили уехать. Воротясь домой, то есть к Степану Михайлычу, они решились действовать осторожно и не показывать перед стариком своей враждебности к Софье Николавне, но зато Арине Васильевне и двум своим сестрам расписали они такими красками свадьбу и все там происходившее, что поселили в них сильное предубеждение и неблагорасположение к невестке. Они не забыли рассказать об исступленном гневе и угрозах Алексея Степаныча за их выходки против Софьи Николавны, и все уговорились держать себя с нею при Степане Михайлыче ласково и не говорить ему прямо ничего дурного насчет невестки, но в то же время не пропускать благоприятных случаев, незаметно для старика восстановлять его против ненавистной им Софьи Николавны. Поступать надобно было очень искусно. Не доверяя этого дела другим, взяли его на себя Елизавета и Александра Степановны. Дедушка подробно расспрашивал о свадьбе, о том, кого они видели, о состоянии здоровья старика Зубина и вообще обо всем, там происходившем. Они все хвалили; но в похвалах этих слышен был запах и вкус яда – и не удалось им провести Степана Михайлыча. Он обратился так, ради шутки, а может быть, и для соображения, к Ивану Петровичу Каратаеву и спросил его: «Ну, что, брат Иван, что ты мне скажешь о нашей невестушке? Их дело бабье, а ты мужчина и лучше можешь судить об этом». Иван Петрович, несмотря на миганье своей супруги, отвечал с увлечением: «Да вот что, батюшка, я вам скажу: что такой кралечки (без этого живописного слова он не умел похвалить красоту), какую подцепил брат Алексей, другой не отыщешь в целом свете. Что взглянет, то рублем подарит. А уж что за умница, так уж и говорить нечего. Одно доложу вам, батюшка: горда; пошутить нельзя; только вздумаешь подпустить турусы на колесах – так взглянет, что язык прикусишь». – «Вижу, брат, что она тебе врать не позволяла, – сказал старик с веселым лицом, рассмеялся и прибавил: – ну это еще не большая беда». Степан Михайлыч по всем рассказам, по письмам Софьи Николавны и по ответу Ивана Петровича Каратаева составил в своем уме весьма благоприятное мнение об Софье Николавне.