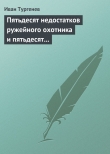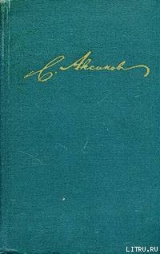
Текст книги "Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах"
Автор книги: Сергей Аксаков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
ОХОТА С ОСТРОГОЮ
Охота с острогою может доставить много удовольствия особенно потому, что производится в позднюю осень, когда рыба уже перестала клевать, следственно первой, лучшей из рыболовных охот, уже не существует, да и другими способами в это время года ловить рыбу неудобно. Неменьшее преимущество этой охоты состоит в том, что острогою бьется крупная рыба, как-то: щуки, сомы, жерихи, судаки и проч., достигающие иногда такой величины, что обыкновенные рыболовные снасти их не удержат: я разумею бредни, небольшие невода, сети и вятели. Надобно еще прибавить, что эта охота бывает ночью и весь короткий осенний день остается свободным для охотника и он может заниматься всякими другими охотами, существующими в позднее, осеннее время года. Охота с острогою имеет в себе даже много поэтического, и хотя люди, занимающиеся ею, по-видимому, не способны принимать поэтических впечатлений, но тем не менее они чувствуют, понимают их бессознательно, говоря только, что «ездить с острогою весело!».
Охота с острогою требует трех условий: темной ночи, светлой воды и совершенно тихой погоды; первым двум условиям всегда удовлетворяет осень, то есть ночи делаются длинны и темны, а вода от морозов становится совершенно прозрачною; третьего условия – тишины – надо выжидать. Охота производится на лодке не большой, но и не маленькой; лодка должна быть легка, ходка, но не качка и не вертлява и довольно глубока. К корме ее, на прочной, железной рукоятке, приделывается железная же четвероугольная решетка, около аршина в квадрате, на которой должен гореть постоянный огонь, яркий, но спокойный, для чего нужно иметь в лодке порядочный запас мелко наколотых сухих березовых дров. Решетка, посредством изогнутой кверху рукоятки, должна быть выше кормы, чтобы хорошо освещать воду до дна.
Бой рыбы острогою может производиться только на водах тихих или стоячих: на прудах, озерах и на больших затонах, или заливах, рек порядочной величины, но не быстро текущих. В темную осеннюю ночь (чем темнее, тем лучше), но тихую и не дождливую, садятся двое охотников в лодку: один на корме с веслом, а другой с острогою почти посредине, немного поближе к носу; две запасные остроги кладутся в лодку: одна обыкновенной величины или несколько поболее, а другая очень большая, для самой крупной рыбы, с длинною, тонкою, но крепкою бечевкою, привязанною за железное кольцо к верхнему концу остроги. Вероятно, всем известно, что острога имеет фигуру столовой вилки, только с короткими зубьями, которых числом бывает от пяти до семи; каждый зуб или игла бывает не короче четырех вершков и оканчивается зазубриной, точно такою, какая делается на конце рыболовного крючка, для того чтобы проколотая острогою рыба не могла сорваться; железная острога прикрепляется очень прочно к деревянному шесту, крепкому, гладкому, сухому и легкому, длиною в сажень и даже в полторы, но никак не длиннее, потому что рыбу приходится бить не более как на трехаршинной глубине, а по большей части на двухаршинной и менее. Трехаршинную глубину воды огонь озаряет неясно, да и действовать острогою, чем глубже вода, тем тяжеле и труднее: и глаз и рука становятся неверны. Попасть в рыбу острогою, кажется, дело нехитрое, но не всякий к нему способен: кроме верного глаза и верной, сильной руки, надобно иметь много сметки и ловкости. Даже человек, имеющий все эти качества и получивший подробные наставления от опытного бойца, сначала будет ошибаться и, не попадая в настоящее место, станет попадать близко к хвосту, или в конец рыбьей головы, или будет совершенно промахиваться. Самое главное дело состоит в том, чтобы отгадать меру расстояния, пункт, с которого тихое, медленное опущение остроги должно мгновенно перейти в быстрый удар. Эту меру можно приблизительно положить от полуторы до двух четвертей от рыбы. Острога опускается в воду не прямо над рыбою, не отвесно, потому что в этом положении шест остроги и рука человеческая закрыли бы рыбу, и уметить в нее было бы невозможно. Итак, острога опускается сначала мимо рыбы и, когда подойдет к ней так близко, что надобно уже ударить, – осторожно переносится на цель и направляется против рыбьей спины. Самым лучшим ударом считается тот, который угодит в спину, не далее как пальца на три от головы. Такой удар лишает возможности крупную рыбу сильно биться и возиться на остроге, что непременно случится, если острога попадет близко к хвосту или к концу рыла; в обоих этих случаях большая рыба легко может сорваться и, несмотря на жестокие раны, от которых впоследствии уснет, может уйти и лишить охотника богатой добычи. Даже удар в самый лоб, случающийся очень редко, если не убьет рыбу наповал, дает ей возможность и возиться и сойти с остроги.
Правящий веслом должен быть также мастер своего дела, потому что управление лодкою во время плаванья за рыбою с острогою – совсем не то, что плаванье на лодке в обыкновенное время; даже весло нужно другое: несколько пошире, похожее на деревянную лопатку, но в то же время самое легкое и сподручное. Лодка должна подвигаться вперед ровно, тихо и без всякого волнения водяной поверхности; весло никогда не вынимается из воды, и все повороты, все движения производятся под водою, подобно тому как производит их своими веслообразными лапами гусь, лебедь и вся водоплавающая птица. Чтобы дать более ясное и более полное понятие об этой охоте, я опишу со всеми подробностями одну из моих самых замечательных и добычливых поездок с острогою, в которой я, по молодости моих лет, был только зрителем, а не действующим лицом.
Длинны, темны становились осенние ночи; морозы прохватили, остудили воду, осадили на дно водяные травы: шмару, плесень и всякую плавающую на поверхности дрянь; отстоялась и светла стала вода в полоях и заливах нашего широкого пруда. Уже несколько времени поговаривали охотники, что «пора ездить с острогою», собирались и, наконец, собрались; взяли и меня с собою. Время стояло самое благоприятное, то есть было темно, слегка морозно и совершенно тихо. Развели огонь на решетке, уложили в лодку все нужное, уселись без шума, оттолкнулись от берега и поплыли по полоям. Огонь ярко освещал только небольшое кругловатое пространство около решетки; даже нос лодки освещался уже слабо; круг света скоро поглощался мраком, и еще темнее, чернее казалась ночь, охватившая нас со всех сторон. Казалось, безграничное пространство воды окружало нас; в густом мраке не видно было ни камышей, ни плотины, ни берегов, одна лодка плыла в светлом круге. Я сидел спиною к огню; лицо и весь образ рыбака с острогою, молодого и крепкого человека, сидящего против меня, были ярко освещены. Когда же я оглядывался на старого рыбака с веслом, освещаемого и даже подогреваемого сзади, то он представлялся черною фигурою, образом без лица, рисовавшимся на огненном круге; при всяком повороте лодки или движении гребца свет обливал его то слева, то справа и, казалось, заглядывал ему в лицо. Вид с берега на плавающую с огнем лодку по воде также очень живописен. Как очарованная, до половины ярко освещенная, как будто предводимая пламенем, двигалась лодка без шума и, по-видимому, без движения, без участия сидящих в ней каких-то призраков.
Скоро стала попадаться нам спящая мелкая рыба, стоявшая, или, лучше сказать, лежавшая, на дне, по маленьким ямкам и впадинам; охотники не обращали на нее внимания, меня же очень занимало рассматриванье тинистого прудового дна, освещенного огнем. Вдруг снималась пелена с другого, неизвестного мира, с его разными почвами, неровностями, растениями и спящими обитателями!.. Мне заранее приказано было сидеть смирно и громко не говорить, и я только шепотом или пальцем указывал на рыбу, мимо которой мы проезжали и которая казалась мне довольно большою и стоющею удара остроги. Я ошибался, потому что рыба в воде, особенно ночью, при огненном освещении, кажется гораздо крупнее, чем она есть на самом деле. Молодой рыбак, державший в руке острогу, положа ее поперек лодки, не слушал меня и только трясением головы или отрывистым шепотом: «Это все дрянь, сидите смирно», – отвечал на мои знаки и слова. Наконец, поплыли мы по протоку: так называлось извилистое, длинное протяжение, пересекавшее диагонально почти весь пруд, никогда не зараставшее травою; вероятно, это был когда-нибудь материк реки, старица, как его называют, если он не затоплен водою; может быть также, что это был овражек, по которому некогда бежал ручей. Глубина протока иногда достигала сажени, но большею частию простиралась от полутора до двух аршин и, несмотря на то, была вдвое глубже окружавших его полоев. Проток имел под водою свои собственные берега, обраставшие густыми водяными травами в летнее время, расстилавшимися по водяной поверхности; теперь, побитые сверху морозами, они опустились и лежали по дну грядами, наклонясь в одну сторону. В этом-то протоке начала попадаться нам крупная рыба. «Придержи», – шепнул главный рыбак; лодка приостановилась, острога скользнула в воду, шла сначала медленно, потом быстро вонзилась, и через несколько секунд был осторожно вытащен огромный язь, по крайней мере фунтов в шесть, увязший в зубьях остроги; зазубрины так въелись в тело язя, что даже руками не вдруг его сняли. Вторая добыча попалась – окунь, такой величины, какого в нашем пруду ни прежде, ни после не лавливали. К сожалению, тогда не взвешивали рыбу и я не могу положительно сказать, сколько весил тот окунь, но, конечно, в нем было более пяти фунтов. Потом стали попадаться средние язи и окуни, которых набили десятка полтора. Вытащили также несколько очень крупных плотиц. Изредка наезжали на щук, от трех до семи и до десяти фунтов (говоря примерно), которых также убили штук пять, не считая мелких: щукам не давали пощады и били всякого щуренка, которого только могли зацепить зубья остроги. Такое озлобление на щук происходило оттого, что они слишком развелись и, без сомнения, поедали множество мелкой рыбы. Щуки стали попадаться нам чаще по заливам, около камышей и предпочтительно в озерках, кругом обросших камышами, и также в отлогих впадинах, которые оканчивались материком реки. Не должно думать, что рыбак убивал всякую рыбу, которая нам попадалась: напротив, некоторые были так чутки, что уходили при одном приближении лодки, а другие уходили по большей части в то время, когда направлялась в них острога. Надобно также заметить, что при вытаскивании порядочной рыбы нельзя было обойтись без некоторого шума и движения воды, и потому много уходило рыб, которые стояли и спали поблизости. Наконец, выплыли мы на материк и, поднявшись довольно далеко вверх, поворотили узким, но глубоким заливом опять в камыш и только стали входить в круглое широкое озеро, как рыбак подозрил щуку огромной величины, стоявшую между двумя затопленными кочками, невдалеке от сплошной гряды камыша. Сердце у меня замерло, когда он, положа свою острогу, взял из лодки самую большую. Я понял, что это значит. Шепотом и знаками указал он своему товарищу место, на которое должна была направиться лодка. Тихо наплыли мы на спящую рыбу, которая показалась мне толстою и длинною деревянною плахою или вершиной бревна, лежащего на дне. С удвоенною осторожностью направил рыбак свой трезубец, или, правильнее сказать, семизубец, долго наводил и метил и, наконец, ударил изо всех сил, проворно приподнялся на ноги, придавил что есть мочи острогу и оттолкнул от себя… Вода точно закипела под нами, лодка зашаталась от толчка и волнения, и я очень испугался, хотя глубина была не больше двух аршин и хотя тогда я боялся воды менее, чем впоследствии. Повернувшись и сильно взволновав воду, щука бросилась сначала как стрела, но потом пошла тише; шест в наклоненном положении до половины торчал из воды: собственная тяжесть и крепкая бечевка, привязанная к верхнему концу, склоняли его набок. Щука шла прямо из озера в материк реки. Держа в руках конец бечевки, молодой рыбак уже громким и веселым голосом сказал: «Попалась, утятница! давно я до тебя добирался!» – но другой рыбак отвечал почти сердито: «Ну, ну, погоди радоваться. Веревку-то не выпусти из рук». В самом деле, веревка стала натягиваться; рыбак замотал ее за руку, и мы поплыли вслед за щукою, увлекаемые ею. Сойдя в материк, она сначала не один раз погружала в воду весь с лишком четырехаршинный шест, но потом начала утомляться: металась, всплывала наверх, пыталась бросаться в камыш, чтобы вырвать из себя острогу, но напрасно; рыба видимо изнемогала. Рыбак через несколько времени, не менее как через полчаса, подтащил к себе за бечевку верхний конец шеста, взял его в обе руки, встал на ноги и опять притиснул; но щука уже не бросилась так быстро, как в первый раз, а сделала небольшое движение сажен на шесть вперед, побилась, остановилась и совершенно затихла. Протащив щуку сажен пять на бечевке, рыбаки решились поднять ее и положить в лодку. Мы вошли в известный уже читателям проток, устье которого было от нас в нескольких саженях. Оба рыбака не без труда, общими силами вытащили страшно огромную рыбу и ввалили ее в лодку, не вынимая остроги; она была еще жива, разевала рот, но не шевелилась. Шест положили ко мне на плечо; я придерживал его обеими руками, чтобы он не свалился в воду и не мешал плыть. Молодой рыбак также взял весло, сел на нос лодки, и мы полетели как стрела к мельничному каузу. Там мы позвали мельника и, с помощию его и засыпки, выгрузились на плотину. Между тем набежали помольщики из мельничного амбара, разглядели, при свете зажженной лучины, славную добычу и раздались громкие восклицания удовольствия и удивления. Между помольцами случился один очень малого роста, и сейчас посыпались на него шутки. «Ну, Гришка, – говорил один, очень высокий ростом, – хорошо, что щука-то тебя не видала. Ты летось ведь купался здесь: зглонула бы она тебя, как утенка, и поминай как звали – пропал бы ты без вести!» – «Нет, нет, подавилась бы, – возразил другой, – все ноги бы остались видны! Что ты на него больно нападаешь, он все покрупнее утенка…» И громкий хохот заглушал на время шум падающей воды и мельничных колес. Между тем вытащили острогу из уснувшей щуки, и мы с торжеством понесли всю рыбу домой. Мне сказывал на другой день мельник, что помольщики долго не спали, дивились, смеялись и толковали о диковинной щуке, которая, при горящей лучине, показалась им просто чудовищем. Что касается до меня, то с самой той минуты, как началась возня со щукой, я был в каком-то забытьи, смешанном (должно признаться) с некоторым страхом. Только дома, когда внесли щуку в комнату, положили на рогожу и окружили свечами, чтобы лучше разглядеть, – я опомнился и вполне предался шумной радости молодого рыбака. Настоящие виновники победы были неразговорчивы, хотя выпили по доброму стакану вина; но зато я за них рассказывал долго и громко все малейшие подробности только что совершившегося события, ссылаясь на них и заставляя подтверждать слова мои. Плохо спалось мне эту ночь! Впечатления были так живы и противоположны, что произвели сильное волнение в моей крови. Щука, со всею обстановкою ее убиения, грезилась мне беспрестанно, да и в самом деле было от чего взволноваться! Если б это случилось со мной в поре зрелого возраста, когда охота к рыбной ловле была уже развита во мне вполне, если б это случилось даже теперь со мною – кажется, впечатление было бы еще сильнее. По молодости я не мог тогда достаточно оценить важность столь замечательного происшествия в истории рыболовства, особенно если взять в соображение, что щука, достигающая таких размеров многими десятками лет, а может быть, и сотнею годов, чрезвычайно редко попадается в столь незначительных водах, как наш пруд и река, и еще реже становится добычей рыбаков. У нас это был единственный случай, который до сих пор еще не повторился. Надобно только представить себе, каковы были первые движения и порывы этой страшной рыбы! Покуда она не вышла в материк, где могла погрузиться глубоко, она производила такое волнение, что, если б мы не находились от нее в нескольких саженях, то лодка могла бы опрокинуться. Охотники знают по опыту, что в ночное время, даже стоя на берегу, невольно вздрогнешь, когда поворотится или плеснется вблизи обыкновенная крупная рыба, которая не может идти ни в какое сравнение с описываемою мною щукою. Но на небольшой лодке, довольно тяжело нагруженной, на порядочной глубине, на кажущемся безграничном пространстве воды, в непроницаемой темноте, кроме небольшого освещенного круга, беспрестанно ожидая отчаянных порывов водяного чудища, которое возило и поворачивало нашу ладью во все стороны… признаюсь, сердце замирает от одного воспоминанья, и в старости можно отказаться от вторичного участия в такой поэтически рыбачьей сцене!..
Щуку рассмотрел я подробно на другой день. Мерою она была с лишком полтора аршина без хвостового пера и очень толста. Всех удивляла необыкновенная ширина ее лба, на котором были расположены какие-то узоры серого цвета, казавшиеся выпуклыми и седыми. Рыбаки говорили, что она очень стара и что у ней лоб порос мохом; когда разевали ей пасть, то поистине страшно было смотреть на ее двойные острые зубы, крупные и мелкие; горло у ней было так широко, что она без всякого затруднения могла проглотить старую утку. Уже много лет замечали ее присутствие в нашем пруду, и, конечно, много утят, и диких и домашних, переглотала она на своем веку. К сожалению, эта редкая щука не была взвешена, и я не могу сказать определительно об ее тяжести, но, судя по сравнению со щукой в один пуд и пятнадцать фунтов, которую я видел несколько лет после,[12]Note12
Я упомянул об этом в моих «Записках об уженье рыбы», стр. 393. Эта щука попала в хвостушу весною, в полую воду.
[Закрыть] щука, убитая острогою, должна была весить около двух пуд.
Впоследствии мне случалось не один раз ездить с острогою и самому бить рыбу, но никакой замечательной добычи нам не попадалось, да и надо признаться, что я этого дела был не мастер. Один только раз тот же самый охотник привез с нижнего Соколовского пруда (на том же Бугуруслане, восемью верстами ниже) огромного налима, которого убил также острогою, в материке под корягами, стоявшего так глубоко, что он едва мог достать его самою большою острогою. В нем было весу около тридцати фунтов, и печенки его не укладывались на обыкновенной тарелке. Это случилось в самую позднюю осень, когда мелкие полои уже покрыты были льдом.
Острогой бьют щук и другую крупную рыбу в то время, когда она мечет, бьет икру, выражаясь по-рыбачьи. В эту пору особенного своего состояния рыба ходит стаями и нередко поднимается так высоко, что верхние перья бывают видны на поверхности воды; рыбак, стоя неподвижно в камыше, по колени и даже по пояс в воде, или на берегу, притаясь у какого-нибудь куста, сторожит свою добычу и вонзает острогу в подплывающую близко рыбу. В глубоких ямах, под вешняками, крупная рыба любит идти против падающей воды, всплывает иногда довольно высоко и упорно держится в неподвижном положении, уткнув голову в хворост и всякий лес, которым обыкновенно бывает устлано дно спуска под деревянным его полом или помостом. Рыбак, по большей части мельник, потому что это ему сподручно, подкараулив или заметив высоко стоящую рыбу, подкрадывается с острогою и выхватывает иногда славного язя, головля, окуня или жериха. Все это бывает очень приятною, случайною добычею, но не может назваться настоящею охотою с острогою.
ЛОВЛЯ МЕЛКИХ ЗВЕРЬКОВ
Когда после долгой, то мокрой, то морозной осени, в продолжение которой всякий зверь и зверек вытрется, выкунеет, то есть шкурка его получит свой зимний вид, сделается крепковолосою, гладкою и красивою; когда заяц-беляк, горностай и ласка побелеют, как кипень, а спина побелевшего и местами пожелтевшего, как воск, русака покроется пестрым ремнем с завитками; когда куница, поречина, хорек, или хорь, потемнеют и заискрятся блестящею осью; когда, после многих замерзков, выпадет, наконец, настоящий снег и ляжет пороша, – тогда наступает лучшая пора звероловства. О капканной ловле я стану говорить особо. Куниц ловить мне не удавалось, потому что их водилось очень мало в тех местах, где я живал и охотился; но хорьков, горностаев и ласок я лавливал разными поставушками, и об этой-то охоте, также горячо любимой мною в ребячестве и ранней молодости, доставлявшей мне в свою очередь много радостных минут, хочу я рассказать молодым, преимущественно деревенским охотникам.
Вид земли, покрытой первым снегом, после грязной, гнилой, осенней погоды, надоевшей даже горячим псовым охотникам,[13]Note13
Известно, что псовые охотники проводят в отъезжих полях целые месяцы. Мокрая и сырая погоды считаются выгодными для этой охоты, но иногда так надоедают охотникам, что они радуются сильным морозам, делающим неудобною псовую охоту с гончими и борзыми собаками.
[Закрыть] веселит сердце каждого. Все сделается сухо, бело, чисто и опрятно; бесчисленные зверьковые и звериные следы, всяких форм и размеров, показывают, что и звери обрадовались снегу, что они прыгали, играли большую часть долгой ночи, валялись по снегу, отдыхали на нем в разных положениях и потом, после отдыха, снова начинали сначала необыкновенно сильными скачками свою неугомонную беготню, которая, наконец, получала уже особенную цель – доставление пищи проголодавшемуся желудку. С полночи зверек уже не резвится, не жирует около одних и тех же мест, а рыщет там, где скорее может встретить какую-нибудь добычу, для чего пробегает иногда значительное пространство. Внимательное рассматриванье, неутомимое преследование зверьковых следов раскрывает наблюдательному охотнику все, что зверьки делали ночью; дневной свет объясняет, выводит наружу все тайны ночной темноты. Для меня это имело особенный интерес, и я нередко жертвовал расчетами добычливого охотника, удовлетворяя любопытству наблюдателя. Идя по следу ласки, я видел, как она гонялась за мышью, как лазила в ее узенькую снеговую норку, доставала оттуда свою добычу, съедала ее и снова пускалась в путь; как хорек или горностай, желая перебраться через родниковый ручей или речку, затянутую с краев тоненьким ледочком, осторожными укороченными прыжками, необыкновенно растопыривая свои мягкие лапки, доходил до текучей воды, обламывался иногда, попадался в воду, вылезал опять на лед, возвращался на берег и долго катался по снегу, вытирая свою мокрую шкурку, после чего несколько времени согревался необычайно широкими прыжками, как будто преследуемый каким-нибудь врагом; как норка, или поречина, бегая по краям реки, мало замерзавшей и среди зимы, вдруг останавливалась, бросалась в воду, ловила в ней рыбу, вытаскивала на берег и тут же съедала… Все это совершенно ясно рассказывали зверьковые следы опытному глазу молодого охотника.
Начинаю с ловли хорька, который гораздо больше, хищнее и неутомимее горностая и ласки. Хорек есть не что иное, как полевая, или каменная, куница. Название каменной придается ему некоторыми натуралистами потому, что он любит жить в каменных, опустелых зданиях и развалинах; впрочем, хорек живет иногда в фундаментах и подвалах жилых каменных строений и даже в подвалах и погребах деревянных домов и крестьянских изб. Всего чаще он только посещает их по ночам для отыскания себе добычи и нередко залезает в курятники и голубятни. Величиною он бывает несколько меньше и тоньше лесной куницы, которая далеко превосходит его достоинством своего пушистого и осистого меха; шерсть на хорьке коротка и жестка; летом она бывает желтовато-бурого цвета, а зимою темная, как на соболе и на кунице. Хорьки живут по полям в норах и в них выводят детей, числом от трех до четырех; вероятно, зимою земляные летние норы заносятся снегом, и тогда хорьки живут в снежных норах или под какими-нибудь строениями: мне случилось один раз найти постоянное, зимнее жилье хорька под толстым стволом сломленного дерева; он пролезал под него сверху, в сквозное дупло. Не один раз находил я также хорька в снежной норе на большом расстоянии от человеческого жилья. Хорек, равно как горностай и ласка, вполне хищный зверек; он ловит всяких птиц, диких и дворовых, во время их сна на ночевках, нападает даже на гусей, как уверяют охотники, в случае же нужды питается также крысами и мышами. Хорек злобен до невероятности и в крайности не только огрызается, но бросается даже на собаку. Огрызанье его сопровождается звуками, похожими на щекотанье сороки. Хорек никогда не ходит, не бегает,[14]Note14
Точно так же горностай и ласка.
[Закрыть] а прыгает, скачет, становясь обеими лапками вместе, отчего след его издали может показаться лисьим нарыском, когда лиса спокойно идет тихим шагом; обыкновенные прыжки хорька бывают около полуторы четверти, а если он чем-нибудь испуган, то скачки его достигают до двух четвертей и более. Ловят хорьков маленькими капканами и самострелами. Капканы становятся на тех местах, по которым непременно должен пройти хорек, вылезая или влезая в свою нору или пролезая сквозь какое-нибудь отверстие в курятник, подвал, голубятню, куда он повадился ходить за своей добычей. Самострелы становятся непременно над отверстием хорьковой норы, когда он застигнут в ней охотником, потому что хорек может попасть в самострел, только вылезая из норы. Самострел – довольно замысловатое орудие, и трудно получить об нем понятие без рисунка. Это не что иное, как натянутый лук со стрелою, которая, вместо копья, оканчивается довольно широкою лопаточкою; лопаточка ходит в пазах длинной рамки, вделанной прочно в средину лука, и, будучи спущена, плотно и крепко прижимается силою тетивы к краю рамки. Настороженный самострел накладывается на выход из норы, и хорек не может из нее вылезть, не тронув сторожка, утвержденного поперек открытого отверстия рамки; как скоро сторожок соскочит, тетива спускается, и стрела мгновенно прищемляет зверька.
Горностай и ласка могут быть причислены к одному роду. Вся разница между ними состоит в том, что горностай вдвое толще и вершка на три длиннее ласки; фигура, все стати, нравы и цвет шерсти у них совершенно одинаковы, кроме того, что у горностая кончик хвоста черный. Оба эти зверька летом имеют шкурку рыжевато-бурую, которая кажется тогда даже пестрою, а зимой – белую как снег; оба хищной породы и питаются мясом; оба имеют, с первого взгляда, очень грациозную наружность; но, всмотревшись хорошенько в очертание их рта, вооруженного частыми и острыми зубами, особенно в их маленькие, бесцветные глазки, почувствуешь, что они принадлежат к злобной и кровожадной породе зверей. Особенно ласка, будучи слишком длинна и тонка и потому изгибая свою спину дугою, когда останавливается, напоминает как-то изгибающуюся змею. Вероятно, горностай так же хищен и злобен, как хорек и ласка, что и подтверждается охотниками-звероловами, но мне не удавалось видеть своими глазами доказательств его хищности; кровожадности же хорька и особенно ласки я много видел удивительных опытов.[15]Note15
Я рассказал в «Записках ружейного охотника» о невероятной жадности и смелости ласки, подымающейся с тетеревом на воздух и умерщвляющей зайца в снежной норе.
[Закрыть]
Хорек, забравшись в курятник, или утиный хлев, или в голубятню, никогда не удовольствуется одною жертвою, а всегда задушит несколько кур, уток или голубей. Он обыкновенно прокусывает шею у своей добычи, напивается крови, оставляет ее, кидается на другую и таким образом умерщвляет иногда до десятка птиц; мясо их остается нетронутым, но у многих бывают головы совсем отъедены и даже две-три из них куда-то унесены; иногда же я находил кур, у которых череп и мозг были съедены. Если хорек заедает по одной или не более двух птиц, что случается довольно редко, то уже непременно уносит их головы. Довольно трудно объяснить, отчего происходит у хорька такая разница в числе жертв и в способе употребления в пищу своей добычи. Я слыхал от охотников, что одни молодые хорьки отгрызают головы у птиц и выедают мозг, а старые пьют только кровь и что, будучи умнее молодых, они умерщвляют только по одной или по две штуки, для того чтобы долее пользоваться добычей. Но такому мнению противоречат самые эти признаки: то есть, если старый хорек пьет только кровь заеденных им птиц и умерщвляет не более одной или двух, не касаясь их мяса, то отчего же я всегда находил, что если умерщвлена одна или две птицы, то головы их непременно отгрызены или унесены? Итак, надобно искать другого объяснения.
Горностаев и ласок редко ловят самострелами, потому что редко попадаются их норы. Для ловли этих маленьких зверьков употребляют плашки и стульчики. Плашка действительно есть не что иное, как плаха, то есть половина бревна, в отрубе вершков четырех или пяти, расколотого посредине. Отрубок такой плахи, в аршин или несколько более длиною, гладко вытесанный с плоской стороны, накладывается на такую же плаху и пригоняется к ней плотно; потом верхняя плаха поднимается на четверть или на полторы и, по известному всем способу, настораживается сторожком, к которому привязана прикормка, или приманка: опаленная мышь, какая-нибудь птичка или кусок ветчинного сала с кожей, также опаленного на огне, для того чтобы запах прикормки был слышнее. Задний конец плахи имеет продолбленную продолговатую дыру, сквозь которую проходит колышек, крепко утвержденный в нижней плахе; это сделано с целию, чтобы задний конец верхней плахи не мог соскочить; разумеется, верхняя плаха поднимается и опускается на нем свободно. Зверек, почуяв лакомую пищу, подходит и хватает ее зубами, сторожок соскакивает, верхняя плаха падает и придавливает его.
Стульчиком называются две палочки, всегда из сырого тальника, каждая с лишком аршин длиною, которые кладутся крест-накрест и связываются крепкою бечевкою; потом концы их сгибаются вниз и также связываются веревочками, так что все четыре ножки отстоят на четверть аршина одна от другой, отчего весь инструмент получает фигуру четвероножника, связанного вверху плотно; во внутренние бока этих ножек набиваются волосяные силья, расстоянием один от другого на полвершка; в самом верху стульчика, в крестообразном его сгибе, должна висеть такая же приманка, какую привязывают к сторожку плахи; приманка бывает со всех сторон окружена множеством настороженных сильев; зверек, стараясь достать добычу, полезет по которой-нибудь ножке и непременно попадет головой в силок; желая освободиться, он спрыгнет вниз и повиснет, удавится и запутается в сильях даже всеми ногами. Впрочем, случается иногда, что он сначала попадает лапкой, и в таком случае он отгрызет силок. Плашка и стульчик становятся на таких местах, где много замечено горностаевых и ласкиных следов и где они отыскивают себе добычу. Ласку, известную истребительницу мышей в гумнах с хлебом и в хлебных амбарах, никогда не должно около них ловить. Ласка, по своему тонкому и длинному стану, имеет возможность пролезать в мышиные норки, в самые узенькие щели и даже в хлебные клади и копны, а потому мышам нет от нее спасенья.
Расставя с вечера несколько таких поставушек, на рассвете надобно их обойти и все собрать, а в сумерки, оправив все как следует и положив свежей приманки, расставить вновь по другим местам, какие охотник сочтет более удобными. Эта охота может продолжаться всю зиму, разумеется на лыжах и кроме тех ночей, когда идет сильный снег, или крутит буран, выражаясь по-оренбургски. В буранную погоду так занесет поставушки, что их на другой день и не отыщешь. Мне нередко случалось терять мои звероловные снаряды, потому что часто с вечера бывает тихо и поставушки поставишь, а к утру подымется такая метель, что и самому нельзя носа показать. Впрочем, простое устройство этих снастей дает возможность в один день заменить потерянные новыми.