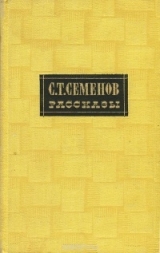
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Сергей Семенов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Крепился, крепился я, помнил, помнил бога, и стало мне невтерпеж. Бывало, взмолишься: господи, я ли тебя не почитаю, я ли не помню тебя, все мое сердце к тебе, зачем же ты меня оставляешь?.. Или уж я такая букашка, что тебе меня не заметить, а если, думаю, так – и худые дела не заметит он. Дай, думаю, как другие, буду жить; видно, недаром говорится: "на бога надейся, а сам не плошай". Пришли мы в Румынию, сделали привал, скомандовали нам вольно. Отощали мы страх как и ударились все на добычу: кто в лесок, кто на реку, кто в село. Пойду, думаю, и я в село, что-нибудь, може, попадется. Иду это я с одним солдатом, подходим к пруду, видим это – гуси лежат. Один вытянул голову, бросился на нас: га-га-га! Помутилось у меня в глазах, кинулся я на него, схватил за голову, отрубил ее тесаком; голову в пруд, самого под полу да назад. Пришли, очистили, в манерки да на огонь, наелись до отвала. Вот он, думается, бог-то где. С тех пор стал и я, как другие...
Подошли мы к Туретчине, начались сражения, в моей душе тоска, хоть бы голову положить. Не нарвусь ли, думаю, на штык турецкий, и, бывало, как сражение, так ты и прешь, как медведь какой, остервенеешь, ничего не видишь, работаешь штыком и прикладом. Сколько мы неприятелев побеждали, вышла нам награда. Отчислили на нашу роту двадцать егорьевских крестов; стал ротный оделять и всех оделил, кто его сердцу любезней, денщику своему даже повесил, а мне шиш в нос; уж я ли не храбрился в сражениях, а обошли. Так и сломал весь поход ни за что, хоть бы ранили куда, може, пенсию дали бы, а я и раны не получил... Пришли с войны, стали нас отпускать в бессрочный. Куда мне идти? Домой не к кому, насолило мне там все. Пойду, думаю, на Дон, там, говорят, земли жирные, хлеба обломные, народ меньше нужды несет, може, и живет лучше. Иду день, другой, третий. Думаю, где я устроюсь, как буду жить, пытаю, где какая вотчина, в которой можно бы было пристать. Пришел в Воронежскую губернию, остановился ночевать в одной слободе, попал я на ночлег к одной вдове казачке. Живет вдвоем с девочкой. Куда, говорит, москалю, бредешь? Я говорю, счастья пытать. Слово за слово, разговорились, задумалась она; утром встал, а она принесла водки, нарезала сала, – пей, говорит, да оставайся у меня. Я, говорит, одна, и если будешь стараться, сделаю я тебя за хозяина. Подумал, подумал я, какого ж, думаю, еще мне рожна?
Остался, втянулся в дело, повел все чередом. И работу и заботу, все на себя взял. И прожил я тут десять годов.
Дочка ее в невесты выровнялась. Понравился ей на вечерницах один парубок, снюхалась она с ним, мать их благословила, поженились. Гостит зять после свадьбы у тещи и говорит: "Прими меня, мамо, к себе жить и хозяйствовать?" – "Иди!" Ну, как вошел зять в дом, и пошел другой разговор. Ты и не так ходишь, не по-нашему говоришь, и то нехорошо, и это неладно. Забирай худобу да уходи. "Уйду, говорю, заплатите мне за эти десять лет". – "За что платить? Ты к нам в дом ничего не принес". – "Я не принес, да я работал". – "Ты работал, ты и пил, ел". Я – на суд, а суд, знамо, ихний, казацкий, повернул в ихнюю сторону, и вытурили меня ни с чем. Ну, постойте, думаю, я вам дам о себе попомнить; подобрался я к мельнице вдовиной, которую я сам почти и собрал, и запалил. Меня поймали да в тюрьму, да в суд, да в острог. Высидел я, пошел опять по белу свету шляться. Колесил, колесил, може, двадцать губерен прошел, и все одно, все одно... Схватил вот только этот кашель да ломоту в костях, а ходу правде нигде не нашел: кто правдой живет, тот все волком воет; а кто крипит душой, тот надо всеми большой... Бабушка покрутила головой и скапала:
– Что-то чудно, а как же пословица говорится, что "за богом молитва, а за царем служба не пропадает"?
– А ты слышала, тоже говорится: что "жалует царь, да не жалует псарь", а в этом-то и все и дело...
XV
Дедушка Илья остался жить у нас. На другой же день он велел мне показать ему наш сарай и пошел в него за кормом. Корму у нас было немного, всего, может быть, по возу сена и соломы. Дедушка Илья покачал головой и проговорил:
– Ну, с этого скотина не зажиреет. По много ль же вы им даете?
Я сказал; дедушка Илья проговорил:
– И по столечку не натянешь. Придется крышу раскрывать. Аль у вас и на крыше свежей соломы-то нет?
– Нету, у нас старая, копченая.
– Эка беда! Что ж вы травки летом не купили, дорогая трава, а все сходнее дешевого корму, а то вот и возьми...
– Не на что было.
– То-то не на что, вы с отцом только самих себя любите-то! Нешто вы крестьяне? Дармоеды вы, одно слово...
– Дедушка, я еще маленький, – попытался оправдаться я.
– А если бы большой был, я бы не так с тобой поговорил: я бы тебе показал кузькину мать с горбинкой, а то скоты-то небось голодают.
Скотине у нас действительно было не сытно, особенно кобыле; корове еще перепадало – когда помои, когда она сама забьется в сени и съест куриный корм, а кобыла питалась одним сеном, сено было несъедобное, и давала ей бабушка помаленьку, поэтому она сильно переменилась за зиму. На ней выросла длинная шерсть, выдались ребра и сильно отвис живот. Бывало, выйдешь на двор, а она стоит, понурив голову; почует тебя, взглянет, облизнется, потом глубоко вздохнет и отворотит голову. Бывало, как ни весел сидишь в избе или играешь на улице, а как увидишь скотину – сожмется сердце, и веселость твоя пропадет.
Дедушка Илья с этого раза стал сам ходить за скотиной, кормить и поить ее. А когда пришел праздник, он выпросил у бабушки сумочку и пошел по деревне побираться. Бабушка пыталась его отговаривать, но он и слушать не хотел ее.
– У вас самих хлеб горевой, – сказал он, – а я буду его подъедать. Прихлебочкой-то попользуюсь и то спасибо.
На первый раз он принес полную сумку кусков. Вытряхнув их на стол, дедушка Илья начал их сортировать: получше он отбирал в решето для себя, похуже откладывал в сторону. Когда он разобрал все, то дал мне несколько кусков и сказал:
– На-ко вот, Степка, снеси кобыле это, погляди, как она их скушает.
Днем дедушка или учил меня азбуке, или куда-нибудь ходил, а по вечерам сидел дома и что-нибудь говорил. Он очень любил поговорить. Бывало, рассказывает разные истории, сказки, случаи из своей жизни, когда веселые, когда грустные. Иной раз они схватятся с бабушкой спорить, и чем дальше, тем споры делались чаще; иной раз они заспорятся до петухов, и нередко бабушка как будто гневалась на него и упрекала его в том, что он совсем запутался.
Пришла масленица. Наши прислали нам из Москвы денег, муки гречневой и сельдей. Бабушка пекла нам блины. Мы, бывало, с дедушкой набьем ими животы и пойдем в сарай или на колодец. Потом я побегу на гору кататься с кем-нибудь. Вся неделя прошла весело, но наступил пост, все сразу как отрезало. Веселье пропало, переменились харчи.
Как-то раз бабушка сказала:
– Надо о тебе в Москву написать хозяевам нашим, а то живет у нас жилец, а они и не знают.
– Ну, что ж, давай я сам напишу; вот добыть бы бумаги да перо, я и накатал бы, – сказал дедушка Илья.
– Сбегай, Степка, к дедушке Григорию.
Я побежал и принес что требовалось для письма. Дедушка Илья долго писал письмо, мелко-намелко исписал всю бумагу и, когда староста пошел в контору, отослал с ним это письмо.
Недели через три пришел ответ. Отец и мать очень радовались, что у нас появился такой человек. Они просили его пожить у нас и, если можно, поработать весной, а мы, писали они, ко святой домой не придем, а проживем до Петрова дня. Места нам попались хорошие; если бог даст все по-хорошему, то к тому времени накопим денег на избу. А дока они посылали нам еще десять рублей и гостинцев. Все этому письму очень обрадовались, даже дедушка Илья сделался веселый.
– Что ж, я поработаю, – говорил он, – соха из рук не выпадет и за лошадью в боронью поспею, не особо ремок живот-то1... Только обувочка у меня плоха.
1 Не особо ремок живот-то – то есть не особенно норовистая лошадь.
– Сапоги тебе справим, – сказала бабушка, – головку приделаем к Тихоновым голенищам, и будешь носить.
Дедушка Илья обрадовался еще больше, и, когда нам с ним справили по сапогам, он, кажется, помолодел.
– Теперь мы куда хошь, хоть в болото уток стрелять, только вот ружья нет, а то бы мы с тобой пошли на охоту. Вишь, весна наступает, птица теперь всякая налетит...
Действительно, наступила весна. С каждым днем делалось теплей, снег лежал только в кустах да оврагах, с полей же его давно согнало. На Колотнушке лед сошел, и вода текла мутная наравне с берегами. Поля и луга начали зеленеть, и на них весело было глядеть, точно это что-то было новое, диковинное. Бывало, выйдешь на улицу, на деревьях поют скворцы, галдят грачи и вьют себе гнезда, в поле заливаются жаворонки, на лугах носятся луговки и просят пить у бога. Совсем это не то, что в глухое зимнее время. И сердце твое бьется, и ты неописуемо радуешься, что ты живешь, чувствуешь и видишь всю эту снующую, пробуждающуюся прелесть жизни и забываешь все будничные невзгоды и суетные мелочи ее...
XVI
Весна распускалась все больше и больше. Давно раскинулись деревья; отцветали вишни и яблони, по лугам желтели первые цветы. Лошади паслись в ночном и досыта наедались свежей молодой травы. Весь скот отубенел: коровы прибавили молока, телята уже не бегали домой безовременно, а приходили вместе со стадом. В лесу появились грибы-колосники, во пнях наливались первые ягоды. Мы, ребятишки, почти не жили дома, а носились по лугам и лесам и прибегали домой поздно на ночь.
После такой беготни нам по утрам спалось долго. В одно утро, уже около навозницы, проснулся я и увидал, что в избе никого нету, а на улице слышен шум; я катышком скатился с коника, подскочил к окну и высунулся в него. Посреди деревни собралась толпа, и все волновались, кричали и размахивали руками. Я нырнул в окно, очутился на улице и в одну минуту был около мужиков.
– Это верно, как свят бог, потому им больше деваться некуда, – кричал дядя Липат, приземистый бородатый мужик в синей рубахе.
– Да неужто? Кто же это? – послышалось в толпе.
– Мало ли таскается чертей: либо цыгане, либо еще кто.
– Как же чередовые-то не увидали?
– Чередовые, что ж, небось спали без задних ног. Пасутся и пасутся, нешто это думано.
– Батюшки, вот оказия-то!
– Лошади на подбор, рублей по семидесяти стоят.
– Сколько она ни стоит, а хозяину-то дорога.
– Как еще дорого-то!
– Ах, черти проклятые, вот поймать-то бы!
– Лови ветра в поле!
Тут я узнал, что из ночного увели двух лошадей – одну у Рубцова, другую у Захаровых. Хватились их только тогда, когда лошадей пригнали из ночного в общее стадо. Заметил их пропажу впервые пастух и известил об этом хозяев. Когда это сделалось – никак нельзя было определить. С вечера их видели хозяева, а потом уж никто ничего не знал. Все ахали и обсуждали случившееся; от говору стоял шум на всю деревню. Рубцовы и Захаровы выли в голос, но никто хорошо не знал, что теперь лучше делать, чтобы как-нибудь поправить беду. И только уже много спустя староста догадался отрядить несколько человек и погнал их в погоню по разным дорогам. К обеду погонщики воротились и объявили, что про лошадей нигде ни слуху ни духу, и нигде нет никакого следа.
Староста пошел в волостную и донес о случившемся старшине. Старшина послал старосту с объявлением к становому. Становой сказал, что он сам приедет в деревню и произведет дознание: какие лошади, куда они пошли и на кого имеется подозрение.
В деревне думали на молодого подпаска, который пас у нас первое лето и которого никто хорошо не знал.
В ночь, когда сделалась кража, оказалось, его не было дома, он куда-то уходил, не спросясь у большого пастуха.
Когда об этом узнали, то старик Рубцов глубоко вздохнул и проговорил:
– Вот оно какое дело-то! Чем мы ему, подлецу, согрубили, что он нас обездолил так. Коли надумал он нас подкузьмить, пришел бы и сказал: дайте мне пять рублей, мы бы слова не сказали – выкинули!..
– Ан нет!.. – сказал дедушка Илья.
– Ей-богу, выкинули бы! – побожился старик.
– Ей-богу, нет бы!.. А схватил бы за шиворот, накостылял бы, накостылял по шее и выпихнул бы! А если бы так люди делали б – и воровства не было бы.
Становой обещался приехать на другой день к полдням. Он сдержал свое слово. Только собрали прибежавшую из стада на полдни скотину, как на нижнем конце деревни послышались звуки далекого колокольчика. Звуки неслись с дороги от деревни Яковлевки, бывшей с нашей деревней поле с полем. Когда вгляделись туда, то тотчас же заметили, как от Яковлевки отделилось что-то черное и покатилось по дороге к нам. Сначала колокольчик звучал чуть слышно, потом он делался явственнее и явственнее. Можно было уже разглядеть, что катилось. Это был большой тарантас, запряженный в пару лошадей; еще минута – и стало видно и седоков, помещавшихся в тарантасе. Их было двое, впереди перед ними на козлах сидел кучер. Кучер криками погонял лошадей. Они уже спускались по уклону, идущему с Яковлевского поля к нашей Колотнушке; вот они въехали на мосток, слышно было, как лошади коваными ногами застучали по мостовинам. Колокольчик было перехватило, но потом он опять залился.
Мужики были собраны у двора Захаровых. У большой избы Захаровых тянулась широкая завалинка; стояла телега. Мужики кто сидел на завалинке, кто забрался на телегу и переливали из пустого в порожнее. Среди мужиков находились и пастухи. Старший, по имени Андрей Печенкин, плешивый, худой, с реденькою черною бородкой, с кожаного сумкой для рожка и табаку и кнутом, завитым колесом и надетым через плечо, как солдаты носят летом шинели, – был необыкновенно спокоен. Он о чем-то тихо разговаривал с дедушкой Евстифеем и, видимо, совсем и не думал, что такое предстоит всем собравшимся. Его подпасок, белокурый, весноватый, держался ото всех поодаль и стоял с лицом бледным и осунувшимся и глядел вниз, думая какую-то думу. Когда становой показался у околицы, то мужики заволновались, повстали с мест и, сбившись в кучу, отошли от избы. Только дедушка Илья, стоявший облокотившись на грядку телеги, не двинулся с места. Он был на сходу как любопытный, поэтому и не обязан был участвовать во встрече пристава.
Лошади станового вошли на огорок шагом, хотя шли бодро, позвякивая бубенцами. Поравнявшись с толпой, кучер отпрукнул лошадей, мужики все до одного обнажили головы, один дедушка Илья не снял картуза и не сдвинулся с места. Становой и письмоводитель его, одутловатый рыженький человек, в сером легком сюртуке и с книгой под мышкой, вылезли из тарантаса, потоптались на месте, разминая ноги, и, повернувшись медленно, стали приближаться к мужикам. Кучер тронул лошадей и поехал шагом дальше, чтобы немного промять их. Мужики стояли не шелохнувшись; в толпе тишина была такая, что слышно было, как мухи летали. Становой шел, высоко подняв голову, и не глядел ни на кого. Это был коренастый, плотный, черный, усатый человек. Лицо у него было пухлое и багровое, нос красный. Войдя в середину мужиков, становой откинул голову назад и строго зыкнул:
– Староста!
– Вот я здесь, ваше благородие, – дрожащим голосом проговорил дядя Тимофей и без шапки, со знаком на груди, с развевающимися от ветра волосами, торопливо подступил к становому.
Становой, сощурившись, взглянул на него. Когда он глядел на кого-нибудь, он всегда щурился. Должно быть, он считал, что мужик недостоин полного на него взгляда. Поглядев на старосту, он проговорил:
– Что тут у вас случилось?
– Н-несчастие, ваше благородие, – заплетающимся языком говорил староста, – двух лошадей увели из ночных.
– Хозяева лошадей здесь?
– Здесь.
– А пастухи, что пасли, здесь?
– Пастухи не пасли, а чередовые.
– Где они?
– Здесь.
– Кто увел лошадей?
– Не можем знать.
– Как не можешь знать, дурак! Ты сам мне доносил, что подозрение на кого-то имеете.
– Грешить – грешил на молодого подпаска, это верно, его дома не было в эту ночь, только никто руки, ноги не положил...
– Где подпасок?
– Здесь... Мирон, подходи!
Становой повернулся туда, где стоял Мирон. Тот побелел еще пуще, у него даже губы потеряли краску, голова его чуть заметно дрожала. После вызова старосты он шагнул два раза к становому, хотел было взглянуть ему в глаза, но не мог. Он остановился и вытянул вниз руки, в правой руке его был картуз.
Пристав теперь уже не щурился; он выкатил глаза, и в них сверкнул какой-то огонек, и всего его передернуло. Ни слова не говоря, он размахнулся левой рукой и ударил Мирона в правое ухо. Мирон пошатнулся; в это время он получил справа удар, потом опять слева и опять справа. Он не удержался на ногах и упал на землю. Пристав начал охаживать его сапогами.
– Это тебе задаток!.. Это задаток!.. – задыхаясь, сыпал становой. – Я те покажу, мерзавцу!.. Я те!..
Он бросил бить подпаска и стал махать в воздухе левою рукой: должно быть, он ее зашиб о Мироновы скулы. Мирон валялся в пыли, окровавленный. Мужики стояли ни живы ни мертвы. Староста то и дело мигал глазами, ожидая, что вот-вот и ему влетит. Некоторые мужики отодвигались подальше. Только дедушка Илья оторвался от телеги и судорожно подступил поближе к приставу; глаза его горели, на лице выступили пятна, и ноздри сделались шире.
– Мерзавцы! Все вы!.. – дрожа всем телом, крикнул становой. – С вами только мука одна!..
– А може, и не все! – вдруг раздался в толпе дрожащий голос дедушки Ильи.
Мужики, как один, услыхавши этот голос, вздрогнули и заволновались. Становой повернулся как на пружинах. Увидав стоящего перед собою взволнованного старика с картузом на голове, он быстро шагнул к нему и сделал движение рукой, чтобы схватить его за шиворот.
– Ты кто такой, что разговариваешь?! А?! Ты кто такой? – заблажил пристав. – Шапку долой!..
– Кто бы ни на есть, – отстраняя руку станового и таким грубым голосом, какого я никогда не слыхал, проговорил дедушка Илья, – а охальничать нечего. Ты делай дело, за каким приехал, а не озорничай!..
Становой взвизгнул и, размахнувшись изо всей силы, хотел съездить дедушку Илью по скулам, но дедушка быстро пригнулся, замах пристава пролетел мимо, так что он сам перевернулся и невольно очутился к дедушке спиной. Дедушка Илья выпрямился и вдруг толкнул пристава в спину обеими руками. Становой упал ничком наземь, дедушка размахнулся и правою ногой, как он перед этим Мирона, поддал становому в зад. Становой ткнулся лицом в пыль и пропахал по земле носом. Фуражка его в это время свалилась, и он издал неопределенный звук; дедушка Илья, тоже задыхаясь, проговорил:
– Вот как с нами нужно обходиться! А то вы зазнались очень! – и отошел от пристава за телегу.
Мужики стояли, как пораженные громом. Они не знали, делать ли им что, бежать ли куда. Всех прежде нашелся письмоводитель; он махнул рукой кучеру и испуганным голосом крикнул:
– Сюда! бьют! скорей!..
Кучер, возвращавшийся уже с того конца деревни, услыхав возглас письмоводителя, быстро подкатил к толпе, соскочил с козел, кинул одному мужику вожжи и подскочил к барину. Вдвоем с письмоводителем они взяли его под руки и стали поднимать с земли, приговаривая: "Ваше благородие, ваше благородие!"
Его благородие нельзя было узнать. Куда девался его грозный и свирепый вид. Он размяк, как мокрая курица, и даже чуть не всхлипывал...
– Вот тут как!.. Вот тут как!.. – выплевывая изо рта землю и проводя рукой по покрытому пылью лицу, бормотал он. – Руку на меня поднимать!.. Хорошо же!.. Хорошо же!..
– Ваше благородие... будь отцом! Мы не виноваты! – воскликнул дядя Тимофей, разводя руками.
И каждый готов был упасть перед приставом на колени...
– Как не виноваты? Как не виноваты? – захлебываясь и тряся правою рукой, закричал пристав. – Я же к ним, чертовы выродки, приехал следствие производить, – а вы же на меня нападаете? Я же об ваших делах хлопочу!.. Я с вами еще поговорю... Я с вами посчитаюсь!..
Он уж не находил слов, его всего коробило, и он шатался на ногах. Лицо его было синее, жилы на шее напружились. Поддерживаемый кучером и письмоводителем, он подошел к тарантасу, с трудом взобрался в него и оттуда уже опять обратился к мужикам:
– Я сейчас же в город еду, исправнику обо всем донесу. Он сам к вам приедет. Если ты, староста, упустишь этого старого черта, – то ты головой мне за него отвечаешь! В холодную его запереть! Приставить к нему сторожа и не давать ему, анафеме, ни пить, пи есть.
– Слышу, ваше благородие, – ответил дядя Тимофей.
– Так смотри же! – крикнул еще раз пристав и велел кучеру ехать.
Лошади подхватили, колокольчик залился, тарантас помчался в другой конец деревни.
Дедушка Григорий поглядел на всех мужиков, проводя рукой по бороде, и проговорил:
– Ну, вот мы, ерошкина мать, и с праздником!..
Мужики друг перед дружкой набросились на дедушку Илью и так ругали его, как я никогда не слыхивал, чтобы кого так ругали. Дедушку Илью схватил в это время сильный кашель и стал бить его. Многие ругательства поэтому он, на свое счастие, вероятно, не разобрал.
– Старый ты черт, сокрушитель ты наш! – кричал дядя Тимофей, хватая дедушку Илью за плечи и направляя его к магазее. – Тебя не то что в магазею, а в омут бы пихнуть да осиновым колом припереть, чтобы ты не вылезал оттуда. Что ты только над нашими головами сделал-то!
– Дурачье! бараны! – отругивался дедушка Илья. – Вам же от этого будет лучше! Вам же от этого будет лучше!
– Где оно будет лучше-то, с ума ты, старый дьявол, сошел? И зачем тебя только на сходку-то вынесло?..
XVII
Когда я сказал бабушке, что случилось на сходке, то она помертвела из лица, всплеснула руками, ахнула и опустилась на лавку.
– Неуемная головушка!.. На что он только отважился? Загонят его туда теперь, куда и солнце не светит...
Она встала с лавки, подошла к переду и опять села. Я никак не ожидал, что это известие произведет на нее такое действие. Точно ее пришибли самое; она опустилась и, глубоко вздыхая и охая, долго просидела так.
Перед вечером к нам пришла бабушка Татьяна.
– Прасковья, слышала, что наш деверек-то наделал? – изменившимся голосом спросила она.
– Ох, не говори! – глухо молвила бабушка и махнула рукой.
– Григорий-то земли под собой не видит. И зачем его только шут принес к нам?!
– Что же Григорию-то, нешто он очень приболел?
– Да он не из-за него, а о себе тужит. Теперь, говорит, всей деревне побудет, таскать станут, а то еще расселят.
– Куда расселят?
– Развезут по разным местам – вот и все тут. Скажут: вы бунтовщики, против начальства идете; надо будет грех унять.
Бабушка изменилась в лице еще больше и не могла уже ни одного слова сказать.
– Мужики теперь гужуются, ходят, себя не помнят. Приедет исправник, будем, говорят, просить, чтобы своим судом с ним расправиться.
– О господи!.. – простонала бабушка. – И что это его проняло? Словно молоденький!..
Долго сидели они, перекидываясь словами о том, что случилось; наконец бабушка Татьяна ушла. Бабушка вдруг встала и проговорила:
– Надо сходить к нему.
– К кому?
– К дедушке Илье.
– Бабушка, и я пойду.
– Что тебе там делать-то?
– Мне одному дома страшно.
– Ну на улицу ступай.
– Мне не хочется на улицу.
– Ну, иди, пес с тобой! – с досадой сказала бабушка, отрезала ломоть хлеба, положила его за пазуху и пошла из избы.
Я побежал за нею.
Магазея была на выгоне за чертой деревни, вдали от всяких построек. Это был большой амбар с поседевшим от времени деревом, крытый соломой. На двери его висел огромный винтовой замок, а около двери на мостенках сидели два мужика, караульные дедушки Ильи: один с дубиной в руках, другой с топором. Мне стало жутко, глядя на эту стрижу, но бабушка ничего не испугалась. Подойдя к ним, она проговорила:
– Здорово живете?
– Здорово! – ответил Захар Рубцов, высокий сутуловатый мужик, рыжий и весноватый. Он снял картуз и, не глядя на бабушку, опять надел его.
– Где тут у вас буян-то сидит?
– Буян под запором. Ему там спокойно: сидит небось да мышей считает! – безо всякого выражения проговорил Захар.
– Нужно бы мне поговорить с ним.
– Нешто это можно? – уж как будто испугавшись, спросил Захар.
– Нам велено стеречь его, тетка Прасковья, – сказал другой стражник, Сидор, кузнец, худенький, черноватый мужичишка, которому иногда в шутку говорили, что его цыган с повозки потерял. – А пускать ли, не пускать – мы не имеем права.
– Что ж не пустить, иль вы меня не знаете? Что я, с каким злым умыслом? Я вот поговорю с ним да уйду, а вы его опять запрете.
– A кто отвечать будет? – спросил Сидор.
– Да за что тут отвечать? Нешто я его с собой уведу? Он ведь все здесь останется.
Бабушка говорила спокойно и так убедительно, что мужики уж не нашлись, что ей возражать, и замялись. Бабушка проговорила:
– Ну, отпирайте, отпирайте. Что вы, правду, съем я его? Экие вы чудные!
Захар почесал в затылке и, обратившись к Сидору, сказал:
– Ну, коль отпирай, что ж с ней делать!
– А може, старосты спросить?
– Чего его тут спрашивать?
Захар поднялся на ноги, вынул из кармана ключ и отпер замок. Дверь скрипнула и отворилась, бабушка поднялась на мостенки и вошла в магазею. Я поспешил переступить порог, чтобы не отставать от нее.
Лучи заходящего солнца ворвались вместе с нами и осветили длинный узкий промежуток, бывший между закромов. В конце этого промежутка поперек его, около самой стены, лежал дедушка Илья. Он, лежал навзничь, закинув руки за голову и глядя вверх. При нашем появлении он только слегка скосил глаза на нас, но в этих глазах выражалось полнейшее к нам равнодушие.
В магазее было прохладно сравнительно с улицей; пахло слежавшимся хлебом и пылью. Около дедушки Ильи стояла железная мерка, которою принимали и отпускали рожь. Бабушка взяла мерку, опрокинула и села на дно.
– Ну что, удалая голова, – достукался? – с гневным укором сказала она. – Эва тебя, словно зверя какого, в клетку посадили...
– Ну что ж, посадили и посадили, – грубо проговорил дедушка Илья. – Эка ведь страсть, подумаешь!
– Да ведь тебя за это в каменный мешок запрячут.
– Велика беда... Страшен он мне, твой каменный мешок-то!
– Не отчайствуй, знамо, большая беда. Этак и головы скоро на плечах не удержишь.
– Что об моей голове тужить, об ней плакальщиков мало! Пусть всякий об себе горюет.
– И об себе погорюешь, из-за тебя-то теперь и другим достанется... Ты думаешь, ты это малое дело-то сделал?
– Чем больше, тем лучше!..
– Чем лучше-то?.. Чем? Скажи ты мне, ради бога? Эка, какое хорошво накинуться на человека...
– А то что ж на него глядеть? Он тут будет бесчинствовать, а мы ему зубы подставлять, – нешто это закон? Он противу закону идет, не разобравши дела, человека бьет... Он и меня бы так ударил, и другого, и третьего?.. На кой он нам такой хороший!.. Мы, може, не дешевле его стоим-то! Я сколько годов на свете жил, царю-отечеству служил, в походы хаживал, другой тоже как-нибудь потрудился, а он всех сволочит... требует, чтобы шапку перед ним снимали... Нет, ну-ка выкуси... вот возьми теперь!..
Дедушка Илья поднялся с места, сел, поджавши ноги под себя, и необыкновенно оживился. Лицо его загорелось румянцем, глаза заблестели, и у него, как давеча, опять широко раздвинулись ноздри. Бабушка глубоко вздохнула.
– Да ведь его такая собачья должность – надо на всех лаять: сегодня с одним, завтра с другими...
– Так ты языком лай, а рукам воли не давай... вот что!
– А ты-то зачем своим рукам волю дал?
– Сердце не вытерпело...
– И у него сердце не вытерпело...
– Так он сдерживай себя...
– А ты-то отчего не сдержал себя?.. Эх, Илья, Илья!.. беремся мы других учить, а сами над собой еще не совладеем, сами с собой справиться не можем. Какой же толк будет от этого ученья?..
– А такой толк, – упрямо продолжал дедушка Илья, – коли бы их побольше окорачивали, так они бы все у нас шелковые были. А то их избаловали тем, что перед ними баранами стоят да глазами хлопают...
– А этим их не выучишь, а только больше обозлишь. Безответный человек скорей своего добьется, если с понятием, а супротивник их только больше распалит... Ты думаешь, их этим сломишь? Нет, они будут только возвышаться, калян, скажут, народ, нельзя с ними кротостью, нужно над ними палку держать; а под палкой всем плохо, хорошему и худому, правому и виноватому...
– Кому плохо, тот и отбивается от ней.
– Как от нее отобьешься, – она о двух концах... Один отворотил, другой приворотил.
– Ну, вырви ее да переломи...
– Тогда будут две палки... опять не слаще...
– Так что же, по-твоему, делать-то?
– Терпеть надо; Христос терпел да нам велел...
– Он мог терпеть, а у нас силы не хватает. Да отчегой-то нам одним терпеть? А они не такого же закона? Коли терпеть, так всем терпеть... а одним-то перед другими и прискучит...
– Кому прискучит, тот сам себя измучит... Злую собаку чем больше тревожить, то она злее становится.
– А я говорю, что нет: съездишь ее разок, другой по зубам, она и хвост подожмет. Образумится да скажет: надо так гнуть, чтобы гнулось, а не так, чтобы лопнуло.
Бабушка досадливо отвернулась в сторону и проговорила:
– С тобой и говорить нельзя... Ты лопочешь незнамо что и над своими словами подумать хорошенько не хочешь. От упрямства своего ты погибнешь.
– Ну, а ты вот в раю живешь, – опять ложась на свое место и с сильным раздражением в голосе проговорил дедушка Илья. – Ишь как тебя бог награждает хорошо: всю жизнь прожила, нужды не видала, детками бог талантливыми наделил... ни забот, ни хлопот, знай только радуйся...
– Радоваться и должно: этим, говорят, бог испытывает человека; а если испытывает, то милость свою оказывает. Нешто это плохо?..
– Эх, эта милость! Зачем она только мнилась? – сказал дедушка Ильи и злобно засмеялся.
Бабушка поднялась с места и сурово проговорила:
– Замолчи уж, с тобой нешто сговоришь! – Она вынула ломоть хлеба, положила его на меру и добавила: – Как допрашивать-то будут, не очень хрондучи, держи язык-то покороче, молчаньем скорей отойдешь...
– Ну, уж меня учить нечего, – опять грубо сказал дедушка, – не учи ученого, а учи дурака.
XVIII
На другой день после обеда опять в нашей деревне загремели колокольчики, появились редко бывалые люди, но уж не на одном, а в двух тарантасах. Один был вчерашний, запряженный в пару станового, другой – тройкой, и в нем сидел исправник, высокий жирный старик с седыми баками, в шинели, под которой был белый сюртук; с ними были двое сотских.





