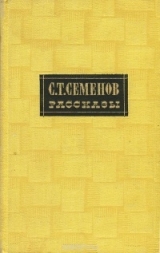
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Сергей Семенов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
После этого отец с матерью принялись усердно ухищать нам на зиму избу. Они замазали углы ее глиной и обгородили завалинкой. На потолок натаскали костры, дыры в повети затыкали пуками соломы, навозили нам дров и лучины и пошли просить у старосты паспорта.
Они пошли оба, так как ни отец, ни матушка отдельно не хотели идти: боялись ли? стыдились ли? Оба они очень робели. Матушка говорила: "А ну-ка он не даст паспорта", – и сейчас же изменялась в лице. Они пошли; и много времени прошло, пока они не воротились. Воротились они с теми же тревожными лицами, как и пошли, но с ними пришел и староста. Он вошел в избу суровый, медленно перекрестился, поклонился бабушке и проговорил:
– Вот, тетка Прасковья, мы к тебе на рассудок пришли. Они вот в Москву хотят, а кто же подати, ты, стало быть, будешь платить?
– Коли пришлют денег, и я заплачу, – молвила бабушка.
– Вот то-то и оно-то, если пришлют! А если не пришлют, тогда с кого требовать? Я тебя в контору не могу весть, что ж мне тогда, яловому телиться?
– Да ведь и дома они ничего не высидят – все равно ведь... проживут зиму, все подъедят, подобьют, а ничего из этого не прибудет. Ну, что у нас из дому взять?
– Что верно, то верно!.. Только то, по крайность, будет кого в волость стащить, а то и того не будет, ты это рассуди!
Староста долго думал и, вздохнув, сказал:
– Я отпущу, мне что ж, только вот что: десяточку вы мне уплатите.
Матушка всплеснула руками.
– Да где же нам взять-то, батюшки вы мои? десяточку! Да что ты, дядя Тимофей, сказал-то?
– Это десятку тебе, да на пачпорта, да на дорогу, много денег нужно, – угрюмо проговорил отец.
– Это ваше дело, ваша и забота, а без того я отпустить не могу. Сами посудите, вы хорошо знаете, сколько за вами? да вот к новому году еще прибавится. Когда мне их с вас выручать-то?
Староста встал с места и стал надевать шапку.
– Нам десятки негде взять, – проговорила мать, – хоть живых в землю закопай.
– Поищите, може, найдете, – вымолвил староста и вышел из избы.
Дело нужно было решать, и этому помогла бабушка. У нас было две овцы и четыре ягненка. Мать лелеяла думку – зарезать ягнят и из овчин сшить мне шубу. У меня еще до сих пор не было теплой одежонки. Когда же решили отцу с матерью ехать в Москву, тогда надумали продать и больших овец, а вырученные деньги употребить отцу с матерью на паспорта да на дорогу. Бабушка сказала, коли продавать, так всех овец продавать, старых и молодых, а чтобы не обидеть меня, то мне на шубу уступила свою старую шубенку.
– Ну, а как же ты-то? – сказала матушка.
– Ну, а я кое в чем пробьюсь.
Отец с матерью не сразу согласились на это, но бабушка настойчиво разъяснила им, что это самое хорошее дело, и убедила их. И как только в деревне появился мясник, так наши показали ему овец и продали их; продали также и бывшего у нас теленка.
– Ну, вот, так-то лучше, – сказала бабушка, поглядывая на оставшихся у нас всего-навсего двух животов и криво усмехаясь, – и забот меньше: ходи тут за ними, зиму-зимскую-то, а то со двора долой и из сердца вон!
Из вырученных денег снесли пять рублей старосте; староста хотя и поломался, но и за пятерку дал отпуск. Тогда наши стали справляться в Москву,
Было осеннее утро. Я крепко спал и не думал еще подыматься. Вдруг слышу, как меня кто-то дергает; я открыл глаза, вскочил на месте и стал протирать глаза. Передо мной стояла мать. Она была обувшись, одевшись, голова была повязана теплым платком. Голосом, и нежным и грустным, она говорила:
– Степа! а, Степа! Вставай прощаться, мы сейчас уйдем.
Мне стало и грустно и жалко расставаться с матерью. Я взглянул на отца, тот подтягивал кушаком недавно выкупленную поддевку. На приступке лежала котомка. Бабушка стояла у простенка и глядела печальными глазами, как наши собирались в путь.
– Смотри, Степочка, – сказала мать, – не балуйся тут, пособляй бабушке в сарай ездить, за водой; береги тут ее, слушайся, на улице не озорничай; приведет бог устроиться нам, гостинца тебе будем присылать.
Я ничего не сказал. Матушка обернулась к отцу и проговорила:
– Ну, совсем ты?
– Совсем.
– Ну, давай богу молиться. Господи благослови!
Все стали перед иконами и начали молиться. Затем отец поклонился бабушке и проговорил:
– Ну, матушка, прости, Христа ради.
– Бог простит, бог благословит, дай бог час!
И бабушка поцеловалась с отцом, потом она попрощалась с матерью. Отец подошел ко мне и тоже поцеловался. Матушка обняла меня и прослезилась.
– Ну, сынок, помни, что я тебе наказывала.
Я заревел. Наши вышли из избы, бабушка пошла провожать их; когда она вернулась, я не помню, так как опять уснул.
XI
Осень подходила к концу. Деревья все уже почти оголились, скотину перестали гонять в стадо; стояли заморозки; бледное, холодное, точно оно вылиняло за лето, солнце выглядывало редкий день. Больше ходили облака, и шумел ветер. Ветер при небольшом морозе нагонял столько холоду, что не хотелось выходить на улицу, и я не выходил, пока мне не справили одежину.
После Михайлова дня закрутила погода, пошел снег и покрыл всю землю. Корм и воду мы с бабушкой стали возить на салазках. Бегать с ребятишками мне приходилось только по улице; за сараями и в лесочке за овинами снег лежал на пол-аршина, и в нем вязла нога. Вскоре и по улице стало можно бегать только посредине, где протиралась санями дорога, да по дорожкам у двора. Навалило сугробов. Установился санный путь. Наш староста поехал на двух лошадях с овсом в Москву.
– Не привезет ли он нам какого слуху об отце с матерью.
Староста привез слух. Он видел отца у нашей заставы. Он сказал, что оба они поступили на место. Отец отдал старосте еще пять рублей в оброк, а нам с бабушкой прислал мешок муки. Хотел было и гостинца прислать, да денег не хватило.
– А не выпивши он? – спросила бабушка.
– Нет, трезвый.
– Слава тебе, господи! – сказала бабушка и истово перекрестилась.
И с этих пор дни для нас с бабушкой пошли как-то веселей. Мы ходили за скотиной, убирались в избе. Днем я убегал на улицу или к товарищам. Она тоже куда-нибудь ходила: или в повитухи, или к корове, которая не растеливалась, а не то еще куда. Вечером к нам кто-нибудь приходил. Бабушка с ними разговаривала, я слушал, пока не засыпал. Если никого не было, то бабушка рассказывала что-нибудь мне про старину, про то, как у нас француз воевал, как литва приходила и как в нашем городе оборонялись от нее. Наш город стоит на горе. Когда литва к нему подступила, то горожане забрались на вал, наварили горячего киселя и обливали им неприятеля; этим будто бы они и прогнали литву.
XII
Одинаково мы проводили дни, одинаково вечера. И верно, этак бы прошла вся зима, если бы совсем нежданно-негаданно среди нас не появился бы новый человек и не внес в нашу жизнь неожиданную перемену.
Дело было около масленицы. Стали ясные дни. Солнце при всходе ударяло в нашу избу и как-то оживляло все. Думалось, что оно делается сильнее и сильнее, светит ярче и резче. Выйдешь, бывало, на улицу, взглянешь на снег, и у тебя зарежет глаза. Проснешься утром, увидишь этот луч, и на сердце чувствуется веселей. В одно утро я проснулся уже поздно. Бабушка истопила печку и закрыла и дверь, и дымовое окно. Было тепло. Я подошел, еще не умывшись, к окну и стал глядеть на улицу.
Я долго сидел так. Вдруг дверь отворилась, и в избу вошел высокий худощавый старик. Он был в лохмотьях, обут в чуни, с палкой в руках. Короткая, курчавая, с сильной проседью борода его вся обмерзла сосульками. Заиндевели даже веки, оттенявшие черные, выразительные, как у молодого, глаза. Он помолился богу и, околачивая одну ногу о другую, проговорил:
– Мир этому дому! Здорово поживаете? Как вас милует бог?
При этом он с тревогой в глазах остановился на бабушке. Бабушка с удивлением уставилась на старика. Я тоже глядел на него, разинув рот. Мы ни таких нищих, ни странников не видали, и оба недоумевали, откуда только взялся он.
Старик долго околачивал ноги, потом сдавленным голосом, словно кто его держал за горло, проговорил:
– И ты меня не узнаешь, и я тебя не разберу. Ведь это дом Братцевых?
– Был когда-то Братцевых.
– А ты-то из этой семьи?
– Из этой.
– Кто ж ты такая? Неужели Прасковья?
– Прасковья, – сказала бабушка.
– Теперь вижу, что ты, – молвил старик, обрывая на бороде сосульки. – Ну, теперь скажи мне, кто я?
Бабушка растерялась и изменилась из лица. Она долго стояла, не двигаясь ни одним членом, ни одним мускулом; вдруг она всплеснула руками и воскликнула:
– Илья! Да неужто это ты?..
У старика сразу появились на лице краски, и глаза подернулись слезой.
Я тут же смекнул, что это был дедушка Илья, тот брат дедушки, которого отдали в солдаты.
– Вот узнала, бог дал! – сказал он. – Знамо, я ваш Илья. – И он подступил к бабушке и потянулся к ней целоваться. Бабушка обвила его шею руками и поцеловалась с ним крест-накрест три раза.
– А это кто же такое, чей он? – взглянувши на меня, спросил старик.
– Это Тихона, сына моего, сынок, – вымолвила бабушка, и я видел, как у ней тряслись руки и ноги. Она до того была взволнована, что не знала, ни что делать, ни что говорить.
– Да откуда это тебя бог принес-то? – сказала бабушка с невыразимым удивлением и вдруг всхлипнула. Старик круто отвернулся и стал скидывать с себя лохмотья.
– С того света, должно, – глухим голосом сказал он. – Небось меня и в живых-то не считали?
– Как же считать, коли об тебе ни слуху ни духу? Ведь больше тридцати годов прошло, как тебя взяли-то от нас, сам посуди!
– Да, времечка прошло немало! Я и сам уж не думал, что сюда попаду: думал косточки положить на чужой стороне, да вот пришлось и на родное пепелище попасть.
Голос старика стал тверже, но в нем звучала такая грусть, что и я тогда легко это подметил. Он замолчал и начал медленно потирать руки, видимо, чтобы отогреть их.
– Да откуда ты только пришел-то?
– Погоди, мать, расскажу, дай маленько очувствоваться да озноб прогнать; я хоть на своем двоем ехал-то, а порядком продрог. Я сегодня из города припер, верст пятнадцать, чай. Мороз, да к солнцу-то, а бобры-то на мне, вишь, какие!
И он стащил с себя кацавейку и положил ее на приступку; под кацавейкой на нем была овчинная прижимка и синяя рубаха.
– Груди-то у меня тепло, только вот коленкам холодно, да ноги вот словно затекли, крепко я их оборами стянул.
– Разуйся; на, я тебе свои валенки достану, а чуни-то на печи посушу.
– Давай, это дело хорошее, ногу в тепло, славно.
Старик сел на коник и стал развертывать оборы. Бабушка послала меня на печку за валенками ему, а сама села на лавку и, качая головой, заахала:
– Ведь вот дивушко-то дивное!.. Где бы кто подумал, что ты как снег на голову свалишься? Другое время сны какие-нибудь видишь, а теперь и во сне-то ничего не снилось... Ах ты, батюшки мои!..
– Не стукнул, не брякнул, а гость подошел! – пошутил старик.
– Как ты только нашел нас, али спросил кого?
– Никого не спрашивал, а шел прямо, и все тут. По липе напротив да по коньку на избе и узнал. Новые-то избы все с захмылом, а эта на старинный лад.
– Все она у нас та же, из которой ты пошел. Григорий вон отделился и новую выстроил, Ликсей тоже в другую хоромину переселился... а нас в старой оставил.
Бабушка всхлипнула и расплакалась.
– Что ж, помер?.. – спросил старик.
– Годов восемь уж, с весны девятый пойдет.
– Царство ему небесное! А дядя Парфен?
– Тоже богу душу отдал.
Старик стал поминать еще какие-то имена, мне совсем неизвестные. Бабушка отвечала ему. Старик, вздохнув, проговорил:
– Знать, моя только смерть заблудилась. Эх... хе... хе!... И он глубоко вздохнул и сразу опустился весь.
Опять наступило молчание. Немного спустя старик снова поднял голову и стал расспрашивать:
– Сколько у тебя было детей?
Бабушка стала рассказывать, старик слушал ее, понурив голову. Вдруг бабушка спохватилась и воскликнула:
– Что ж я тебя словами-то, угощаю, о другом-то забыла. Ты небось поесть хочешь?
– Да, пожевать чего пожевал бы: я сегодня еще ничего не ел.
– Садись к столу-то, я тебе сейчас соберу. Степка, умывайся и ты садись с дедушкой. Это ведь дедушка тебе, родной дядя твоему отцу.
Я умылся и сел за стол, но мне совсем не хотелось есть. Я глядел на пришедшего к нам неожиданно дедушку, слушал его слова, – вспомнил рассказы про него про молодого, и, сам не знаю почему, в сердце мое закралось чувство небывалой грусти. Чувство это все более и более росло и так сжало мое сердечко, что я уже не видел свету. Бабушка, заметив, что я не ем, вдруг проговорила:
– Что ж ты-то, дурашка?
Вместо того, чтобы мне приняться за еду, я вдруг горько заплакал. И бабушка и дедушка Илья очень этому удивились. Дедушка Илья проговорил:
– Это он меня боится, глупый! Погоди, меня нечего бояться, мы с тобой такими приятелями будем, что нас водой не разольешь.
Поевши, дедушка Илья полез на печку и улегся там.
– Вот это хорошо, – сказал он, – погреются мои косточки... Ох, косточки, косточки, много они видели на своем веку!..
– Ты давно из солдат-то? – спросила бабушка.
– Давно...
– И на войне был?
– В севастопольскую войну был, только не в Севастополе сидел, а с туркой дрался.
– Что ж ты после солдат-то домой не пришел?
– Не время было, должно: захотелось свет поглядеть да себя показать.
– Много ты видел на свете?
– Будет с меня, по степям ходил, в казатчине жил, в остроге сидел, всего тяпнул, только добра не нажил, а остался под старость яко наг, яко благ.
У дедушки пересекло в горле, и он умолк. Он молчал несколько минут, потом глубоко вздохнул, и стал кидать кое-какие слова бабушке. Он спрашивал, какие были в последнее время господа, как объявили волю, как устраивались после воли. Бабушка все ему говорила. Дедушка наконец спросил:
– Что ж народ-то, какой жистью больше доволен: что прежде была али теперь?
– Теперь, знамо, вольготнее, что говорить, только угодья нет. Если бы тогдашние угодья...
– Нешто не всю землю-то отдали мужикам?
– Где всю! Больше чем третью часть отхватили, да еще самые хорошие места. Помнишь мелкий лес, мы ведь весь его косили? А княжий-то лужок да дорожный огорок? А теперь все это господам отошло, а у нас осталась на поле глина, а по ручьям острец. Бывало, в покосы-то и сараи набьют кормом, и копен накладут, а нонча накосят – и видеть нечего; кто купит нешто, у того побольше.
– А за землю плату-то положили?
– Как же, неужели задаром?
– Это, значит, волю дали!.. Ха-ха-ха!.. – злобно засмеялся дедушка Илья и поворотился навзничь. Он перестал задавать бабушке вопросы и умолк.
– Ты, може, спать хочешь, так усни, – сказала бабушка.
– Пожалуй, усну, – молвил дедушка и глубоко вздохнул.
Бабушка приумолкла и отошла в угол; я оделся и побежал на улицу.
Когда я вернулся с улицы, дедушка Илья все еще спал, бабушка сидела на лавке и починяла отцовскую рубашку. Я спросил, на что эта рубашка; бабушка отвечала, что дедушке Илье.
– Что же, этот дедушка-то у нас будет жить?
– У нас.
– Что же он будет делать?
– Тебя грамоте учить.
– А он не сердитый?
– Как будешь стараться.
Бабушка вдруг поднялась с места и проговорила:
– Ну, ты посиди маленько дома, а я к дедушке Григорию пойду, скажу им, какой к нам гость-то пришел; може, придет навестить.
– Ну, ступай.
Бабушка накинула на себя одежину и ушла. Она ходила долго; когда она пришла, то видно было, что она не в духе.
– Что ж ты дедушку Григория не привела? – спросил я.
– Пойдет твой дедушка Григорий! Только услыхал, затрясся весь: боится, на его шею не навязался бы; не бойся, не навяжется: проживет как ни на есть у нас.
Вскоре после этого дедушка Илья проснулся; он поднял голову, свесил ноги и закашлялся. Он долго кашлял, насилу перевел дух и сказал:
– Вот он сколько годов так мучит, то ничего-ничего, а то вдруг как нахлынет, того гляди, глаза на лоб выпучишь.
– Где же ты его подхватил?
– Где-нибудь простудился. Ноги, руки вот ломят, да он донимает...
Дедушка Илья тяжело дышал. Он весь опустился. Давеча он казался бодрее и крепче, а теперь стал вялым, с тусклыми глазами. Кряхтя, он спустился с печки, подошел к конику, сел и опустил голову.
– Что это, мне слышалось, вы Григорьево имя поминали? – спросил он.
– Поминали; я ходила к нему, о тебе сказывала.
– Ну, что ж он?
– Ничего. Бабы говорили, чтобы ты пришел к ним.
– Ты говоришь, они хорошо живут?
– Первыми из деревни. Он бурмистром ходил, а теперь сын в Москве в артели, а он по дому торгует.
– Вас-то он не покидает?
– Нам он теперь чужой. Что ж ему об нас заботиться, мы ведь разделились по согласию.
Бабушка, видимо, старалась, как бы не сказать про дедушку Григория чего-нибудь дурного; но дедушка Илья по тону догадался про все. Он вздохнул и спросил:
– Неужели не выручает?
– Кой-когда не оставляет, знамо, в долг.
– Ну, еще бы! Торговому человеку нешто можно помочь оказывать, – в убыток. Эх, хе, хе! Вот все так... Наш брат как залез в богатство, так забыл и братство... Все так...
Бабушка оборвала неприятный разговор и стала собирать обедать; после обеда дедушка Илья сказал:
– Ну, что же, малый, веди меня к дедушке Григорию, показывай, где он живет.
– Сходите, сходите! – проговорила бабушка. – Только не принимай ты к сердцу, если он худо с тобой обойдется. Бог с ним, видно, он уж такой человек.
– Да уж перенесу все, мы не такие виды видали, – проговорил, горько улыбаясь, дедушка Илья.
XIII
Дедушка Григорий жил на том конце деревни, который упирался в речку. У него было две избы, между ними широкое тесовое крыльцо. Крыты избы были хотя и соломой, но под щетку, прочно и гладко. Дедушка держал много скота, и скот у него был отменный изо всей деревни. Все у него было лучше, чем у людей. Полосы его в том же поле породили против людей вдвое-втрое; куры неслись чуть не круглый год, овцы скорей плодились. Дедушка хозяйство любил и только и занимался что им, хотя сам мало работал. У него круглый год жили работник с работницей, а в покос и жнитво работали толокой, или за какое-нибудь одолжение, или просто за вино. Работнику с работницей у него доставалось. Никто у него больше года не жил. Жаловались на строгость и скупость его. Скупы в семье дедушки Григория действительно были все на подбор. Они боялись, как бы работники у них не прогуляли часу, не съели лишнего куска. Из-за этого они и хлеб пекли невкусный. Они каждый день пили чай, но работникам выдавали к чаю только по одному пиленому куску сахару и чай наливали такой жиденький, про который говорили в шутку, что сквозь него Москву видно. В избах у них стояла грязь, в теплушке бродили ягнята, телята, хрюкал поросенок. Тут же на стенах висели хомуты, кисла лохань с помоями для скотины. Тараканов и клопов у них всегда было хоть пригоршней греби. Только передний угол отличался тем, что был уставлен образами и под праздник перед этими образами горело несколько лампад, – так только во всей деревне водилось у них одних.
Жена дедушки Григория, бабушка Татьяна, была не совсем здорова. Она никаким делом не могла заниматься, а только ходила за ребятишками-внучатами. Хозяйствовала вместо нее их сноха, тетка Авдотья. Бабы были дедушке под стать: суровые, скупые и требовательные к другим. В деревне они никого не уважали и полагали, что лучше их, пожалуй, никого в округе нет.
Когда мы пришли к дедушке Григорию, то и сам он и бабы были дома. Дедушка Григорий сидел за столом и перелистывал большую, должно быть, долговую книгу. Бабушка Татьяна помещалась с одним из мальчишек у окна и чесала ему голову, а тетка Авдотья сеяла муку в теплушке. Дедушка Григорий был небольшой, сутуловатый старичок с реденькою бородой и поседевшею головой; он был в новой полукрасной рубахе, подпоясанный плетеным поясом, на носу его сидели очки. Когда мы вошли в избу, он медленно снял очки, положил их на книгу, оперся правой рукой на лавку и уставился на нас. Пока дедушка Илья молился и раскланивался, здороваясь со всеми, он пристально глядел на него, как будто на какого незнакомого, и, должно быть, вид дедушки Ильи ему не понравился, так как на лице его появилось недовольное выражение.
– Здорово, здорово! – сказал дедушка Григорий каким-то приторным тоном. – Этот новоявленный-то? Тебя, ерошкина мать, и не узнаешь!
Бабушка Татьяна тоже поглядела на дедушку Илью с большим любопытством. Тетка Авдотья бросила сеять муку, вошла в эту половину избы и остановилась у стены.
– Проходи вот сюда, садись! – сказала бабушка Татьяна, снимая с лавки и отпихивая от себя мальчишку.
Дедушка Илья прошел и сел. Он чувствовал себя, должно быть, неловко от этого холодного приема. Ничего родного и душевного не высказалось при встрече его; будто бы он всем им был совсем чужой, ненужный, скорей лишний человек.
– А мы тебя, ерошкина мать, и в живых не считали, – сказал дедушка Григорий, – как угнали тебя, так словно ты в воду канул: ни письма, ни грамотки.
– Далеко был, думал, что никакая весть не дойдет. – Сквозь зубы проговорил дедушка Илья.
– Где ж ты побывал, где послуживал?
– Везде побывал, исходил земли немало... Видел горького и сладкого...
– С твоим ндравом, ерошкина мать, этого и нужно было ждать, – сказал дедушка Григорий и покосился на лохмотья дедушки Ильи.
Дедушка Илья вздохнул, по губам мелькнула чуть заметная улыбка, и он, делаясь бодрее, проговорил:
– Понятная вещь, кто правду возлюбит, тот всегда себя погубит, – такой порядок. Ты вон небось и не знаешь, что такое за горькое на свете?
Тон речи дедушки Ильи сделался резкий, хотя он, кажется, и старался скрыть его. Дедушке Григорию не по нраву пришелся этот тон, и он заговорил:
– Видали всего и мы. Что ж мы, ерошкина мать, нешто не люди? И нам приходилось стараться и заботиться. Меня, как покойный барин, ерошкина мать, взыскал милостью, назначил в бурмистры, так неш легко было?.. Опять как воля вышла, нешто, примерно, сладко? Бывало, за барином, как за каменной стеной, а тут, брат, ерошкина мать, на себя надейся, сам себе помогай. Отделился-то я, – не бог весть что досталось, – а я вот, ерошкина мать, все завел и все вот держу.
– А Ликсеевым вон и держать нечего осталось! – с горечью сказал дедушка Илья.
– Вольно ж!.. вольно ж, ерошкина мать! – вдруг загорячился дедушка Григорий. – Они от себя упустили. Кто ж виноват, что у Ликсея башка-то не работала? Али, ерошкина мать, Тишке-то зачем такую волю давать? Он лодыря строит, а на него и глядеть? В солдаты его без зачета!.. Он, такой-проэтакий, даром что лодырь, а тоже, ерошкина мать, гордость имеет. К дяде-то покосить или овин обмолотить не придет, – а что у него руки отвалились бы? Жрать, ерошкина мать, нечего, а спины согнуть боится. А как стукнет нужда-то – идут скучать! А что, мы свое добро-то во щах вытянули? Нам оно тоже достается, а другие на него, ерошкина мать, глаза пялят.
Дедушка Григорий так взволновался, что покраснел, и голос его сделался тонкий и резкий. Дедушка Илья с усмешкой поглядел на него и молвил:
– Не горячись! Никто у тебя твоего не оспаривает, твое у тебя и останется, только других не осуждай: у тебя своя линия, а у тех своя. Такая, знать, судьба!
– Я не охуждаю... а я, ерошкина мать, только дело говорю. Кто заботу имеет, тот и просвет видит и все такое, а кто не старается, тот всегда в нужде колупается, это, брат, ерошкина мать, верно.
– Не стараньем люди добро наживают... Пословица-то не зря говорится: от трудов праведных не наживешь палат каменных.
– Мы и не в палатах, ерошкина мать, живем, ишь у нас хоромы-то не лучше других, – сказал дедушка Григорий.
– Не про тебя и речь идет, – опять с усмешечкой молвил дедушка Илья. – Ты, може, работать горазд, вот у тебя во всем и достаток, а я про тех в уме держу, кто сам ничего не делает, а к нему валится со всех концов.
Дедушка Григорий густо покраснел, и глаза его загорелись такою ненавистью к дедушке Илье, что он уж не мог скрыть ее. Незнамо для чего он взял свою книжку, раскрыл и уставился в нее. Мне заметно было, как у него дрожали руки. Поглядев в книгу, он вдруг захлопнул ее, отпихнул в сторону и сказал:
– По нынешним временам в деревне кому хошь, ерошкина мать, трудно жить. Времена не те стали. Нонче всякий, кто ни на есть, ерошкина мать, храп имеет, и нет с ними никакой справы. Бывало, хорошему человеку-то не то что грубое слово, а все почет отдают, а нонче какой-нибудь прощелыга, а уж тебе, ерошкина мать, глаза колет.
– Так поди в волости и пожалься, може, и теперь хорошего человека послушают? – насмешливо вымолвил дедушка Илья.
– Куда мне жалиться, на кого мне жалиться, что ты, ерошкина мать, говоришь?
– Я знаю, что я говорю, и понимаю, авось не маленький, – сказал дедушка Илья и громко вздохнул: – Чудное дело! Пришел я к Прасковье – нищета, убожество, уж и видно, что плохо, ан и обласкала тебя, и обогрела тебя, и на судьбу не очень жалится. Пришел к тебе, все видно хорошо, а ты ноешь и не знаешь, как от меня отделаться! Отчего это? Или это вот как пословица говорится: иного человека употчуешь кусом, а иного не употчуешь и гусем?
– Не знаю, ерошкина мать, я про себя говорю, а как там другие, не знаю...
Дедушка Григорий замолчал. Он или не находил, что говорить, или ему не хотелось уж и говорить с дедушкой Ильей. Замолчал и дедушка Илья. Бабушка Татьяна поглядела на них и молвила:
– Ну, что это вы так сидите? Ты бы, Григорий, сказал Авдотье, – она бы самоварчик поставила, да чайком бы брату погрел косточки.
Дедушка Григорий нехотя взглянул на дедушку Илью и проговорил:
– Ну, не велик барин-то; он, чай, ерошкина мать, скусу в чаю-то не понимает. Ему бы вот винца стаканчик, да, на грех, ерошкина мать, вина-то у нас нету.
– Небось есть... – заикнулась было бабушка Татьяна.
– Нету! – твердо отчеканил дедушка Григорий и так поглядел на бабушку Татьяну, что та сразу прикусила язык.
– Угостит когда-нибудь, – с напускною веселостью сказал дедушка Илья, – не в последний раз, чай, видимся-то!
Дедушка Григорий пытливо взглянул на брата, как бы желая понять, что значат эти слова, и отвернул глаза в сторону и стал глядеть в окно. Бабушка Татьяна хотела что-то спросить дедушку Илью, но он поднялся с места и проговорил:
– Ну, нам, видно, и идти пора. Прощайте, пока!
– Прощай! – сказал дедушка Григорий и не поворотил даже в нашу сторону головы.
– Опять ходи, – сказала бабушка Татьяна, – пригадывай к обеду когда, а то у них-то, чай, голодно.
– Голодно, да просто, – сказал дедушка Илья, – а где просто, там ангелов со сто.
С этими словами мы вышли из избы.
XIV
Когда мы пришли домой, дедушка Илья был печальный, опустившийся. Он разделся, сел на лавку и заговорил:
– Ну, милая невестушка, Прасковья Ефимовна, скажи мне на милость, с чего это наш братец разлезся так?
– Торгует он, ну, чай, барыши получает, – уклончиво ответила бабушка.
– Да ведь это ж какие барыши, небось они не сотнями к нему валятся? А потом торговлю-то с чего он начал? С одними блохами ведь ничего не заведешь.
– Иван хорошо в Москве живет, он ему подает.
– А Иван-то живет в артели, а в артель-то поступить тоже нужно деньги. А он еще в то время отделился и новую стройку заводил?..
Бабушке волей-неволей пришлось намекнуть на господский магазей. У дедушки Ильи загорелись глаза.
– Ну, вот это дело ясное! – воскликнул он. – Это теперь понятно...
После этого он глубоко вздохнул, впал в печальный тон и продолжал:
– Нет у нас на белом свете ни одного дела, чтобы люди до него правдой дошли. Не туда, видно, дорога идет. К кому ни приглядись, кто отменно от других живет, кого ни колупни, кто если и выделился из других, то, верно, штуку какую-нибудь устроил, чужбинки захватил. И это везде так, по всей святорусской земле. Нагляделся я, милая невестка, много на своем веку, и что я ни видал, и что ни слыхал, если хорошенько разобрать умному человеку, – одни слезы. Нет ходу правде святой, нет привету чести и совести, – не ко двору они ни у вышних, ни у нижних. Кто нахален да смел, тот все и съел, а правильный человек хоть живой в гроб ложись, никто для тебя и пальцем не шевельнет, вот, ей-богу, правда!
Стало это мне открываться еще в молодости моей, с тех пор, как я барский приказ не исполнил. Из-за чего я не исполнил?.. Свою мужицкую кровь пожалел; а эта же мужицкая кровь по барскому приказу так мне руки скрутила, что я думал, и лопатки-то в спине не уцелеют... Словно я их обидел-то... И потом, на службе-то, что я перевидел!.. Эх, и вспоминать-то не хочется!.. Как забрили меня тогда, определили и полк и погнали меня в город Обоянь: там в то время наш полк стоял. Стояли солдаты по деревням, и так-то плохо держали солдат. Амуницию дают кой-какую, провианту мало. Назначили меня рекрутом, а к рекруту приставили дядьку, а всякий дядька только тем друг перед дружкой выхваляется, кто кого собачей. Ты ему подвластен, он и рад этому и норовит над тобой помытариться. Господа бывают подлецы, а свой брат, как повыше поднялся, норовит подлей подлеца быть. Ты у него, бывало, пикнуть не смеешь, даром, что ты знаешь и понимаешь-то, может, больше его. Перво-наперво амуницию ему вычисть, а, бывало, какая амуниция-то: ремни на тесак и у ранцев белые, их нужно мелом натирать, потом ружье, кивер, пуговицы. Сапоги в обтяжку, ученье долгое, сам-то себя едва уходишь, а тут еще дядька! Малость чего не потрафишь, он тебя в зубы, взводный в зубы, фитьфебель в зубы. Искры из глаз сыплются, а роптать не смей. А тут еще грабеж провианту: по третьей части до тебя не доходит, через сколько рук-то они проходят и все прилипает. Дойдет до тебя так-то, а ты и не знаешь: есть ли его или воробьям скормить?
Год так прошел, другой, третий, взяло меня отчайство. Невмоготу жить с такою совестью. Видишь – кто понапористей да побессовестней, тот и табачок покуривает, и водочку пьет, и сдобниками питается, и говядинки частичку урвет, а как с совестью, так хоть пропадай: ни украсть, ни попросить. У других друзья-приятели ведутся, а ты все один: потому ни к кому подделаться не сумеешь... Объявили поход, думаю: ну, вот теперь получше будет, послободней. Война; люди почуют смерть, помягче будут, перестанут друг дружку грызть... Ан не тут-то было! Кто подлецом был, подлецом и остался, а зверь – зверем; никак, еще лютее... Говорили, что и рационы нам больше пойдут – харчи получше, ан еще к границе не подошли, а уж у нас сухарей не хватает. Многие идут в сапогах, а подметок-то нет. Ход быстрый, кто отстает, того в палки, а нешто по доброй воле отстаешь?





