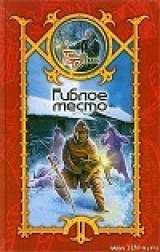
Текст книги "Гиблое место"
Автор книги: Сергей Шхиян
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 18 страниц)
Жажда богатства начала вползать в безыскусные, чистые сердца.
– А делить-то как будем? – неизвестно к кому обращаясь, но косясь на меня, спросил Ефим.
– Известно, по справедливости, – вмешался в разговор Иван Крайний. – Всем поровну.
– Вы сначала медведя убейте, а потом уже шкуру делите, – посоветовал я.
– Какого медведя? – заинтересовался Кнут.
– Неубитого, – замысловато ответил я.
Вопрос с косолапым заинтересовал не только парнишку Кнута, но тут металл лопатной закраины лязгнул обо что-то твердое, и разговор прервался на полуслове.
– Чего там? – прошептал любознательный Кнут, склоняясь вместе с товарищами над ямой.
Молчаливый копатель отставил неуклюжую лопату к стенке ямы и начал руками отрывать находку. Кажется, волонтеры были правы, в земле был зарыт глиняный горшок.
Азарт кладоискательства зацепил даже меня, и я, как и все, пал перед ямой на колени.
– Ну, чего там?! —торопили нетерпеливые зрители. – Осторожней, не разбей! Подковырни его, тащи за горло!
Молчун, не спеша, разгребал руками глину, освобождая горшок. Напряжение достигло предела. Наконец он вытащил сосуд из земли и взял его в руки.
– Тяжелый? – спросил чей-то взволнованный голос.
– А то! – гордо ответил счастливый землекоп.
– Давай сюда, – попросил Крайний.
Молчун передал ему горшок и собрался вылезти из ямы.
– Посмотри, может быть, еще что-нибудь есть, – попросил я.
Парень пожал плечами и снова взялся за заступ. Однако копать не стал, наблюдал, как Крайний аккуратно очищает горловину.
– Ишь, как хорошо закрыли, чтобы вода, знать, не попала, – бормотал он, примериваясь, как ловчее снять керамическую крышку. – Надолго, видать, прятали.
Иван вытащил из-за голенища нож и начал отколупывать залитую смолой крышку. Все, затаив дыхание, сгрудились вокруг него. Наконец крышка поддалась. Иван засунул пальцы в горловину и выудил из горшка холщовую тряпицу, завязанную в узелок. Иван начал зубами развязывать тугой узел.
– Чего там, никак, деньги? – спросил из ямы молчун, которому ничего не было видно.
Ему не ответили, напряженно ждали, когда Крайний справится с узлом. Наконец он развернул таинственную находку. Там, как можно было предположить, действительно были серебряные монеты.
– Это ж надо, какое богатство! – выдохнул кто-то из зрителей.
Богатство было небольшое, сотня монет, целых и рубленных на части, но для крепостных крестьян это было целое состояние.
– Покажи, – попросил я, но Иван сделал вид, что не услышал просьбу и завязал тряпку.
– Поделить надобно, – подал голос из ямы Молчун, – по справедливости.
– Успеем поделить, – обозначил я свое начальственное присутствие, – копай дальше, может быть, там еще что-нибудь есть.
– Пусти меня, – попросил Молчуна еще один охотник, парень по прозвищу Крот.
– Сам раскопаю, – ответил тот и принялся энергично выбрасывать из ямы чавкающую глину.
– Есть, – радостно закричал он, когда лопата опять на что-то наткнулась.
Опять все сгрудились вокруг ямы. Молчун встал на колени и опять принялся руками разгребать мокрую землю.
– Кажись, доски, – сообщил он, вынимая из земли завернутый в холстину сверток.
– Дай сюда, – попросил я, предположив, что это что-нибудь более ценное, чем серебряные талеры.
Молчун передал мне сверток. По форме и весу это могли быть только иконы. Я тут же забыл про неинтересное серебро и начал рассматривать находку, тщательно упакованную в залитую смолой и обмазанную дегтем холстину.
С иконами на Руси до середины семнадцатого века, когда в Москве появились государевы иконописные мастерские, была напряженка. Во времена татарского владычества иконопись осуществлялась в монастырях, которым поработители русской земли не только не препятствовали, но и оказывали покровительство.
Особенное развитие писание икон получило во второй половине XVII столетия, в Москве, когда, для удовлетворения потребностей государева двора, возник при оружейном приказе целый институт «царских» иконописцев, «жалованных» и «кормовых», которые не только писали образа, но и расписывали церкви, дворцовые покои, знамена, древки к ним.
В «нашем время», в начале семнадцатого века, икон в бытовом пользовании было еще мало. Зато многие церковные люди и миряне не только воздавали иконам такое же поклонение, как честному и животворящему кресту, но и «возлагали на эти иконы полотенца и делали из икон восприемников своих детей при святом крещении. Говоря попросту, делали из ликов святых идолов и кумиров.
Я нигде, включая несколько помещичьих усадеб, икон пока не встречал. То, что простые, хуторяне имели немалые деньги и к тому же иконы, наводило на размышления. Однако спросить было не у кого, все обитатели хутора, включая детей, были убиты, а провести следствие не было возможности. Дай Бог было самим решить собственные проблемы.
Пока я исследовал попавшее в руки духовное сокровище, волонтеры предались поклонению серебряному тельцу и любовались свалившимся на них богатством.
– Как будем делить? – опять задал мне вопрос кто-то из ратников.
– Делите между собой, – легкомысленно ответил я, – мне деньги не нужны.
Мой скудеющий мешок с ефимками и так доставлял слишком много проблем. Приходилось везде носить с собой свою тяжелую мошну, и лишний груз богатства мне совсем не улыбался.
– А Кузьма Минич, – спросил Ефим, – тоже не в доле?
– Не знаю, у него спросите.
– Какая дядьке Кузьме доля! – вдруг возмущенно закричал Крот. – Нет ему доли, коли не было его с нами, когда клад нашли!
Мысль была интересная и тут же нашла сторонников.
– Это по справедливости, – согласился с Кротом Ефим. – Ничего не поделаешь, коли не было его здесь, знать, проспал.
– Он полбу варит, – напомнил я.
Волонтеры задумались, но хитроумный Крайний нашел выход:
– Может и тем, которые раненые были, долю дать? Они тоже с нами раньше были! И вообще, всей деревне? Это, боярин, будет не по чести. Вот тебе бы мы долю давали, ты здесь был, но ты сам отказался – твоя воля. Слово нэ воробей, вылетит, не поймаешь.
Хочешь, бери себе остаток клада, мы не возбраняем, а деньги наши, по святой чести и справедливости.
Мне такой жлобский подход к «справедливости» не понравился, но спорить не хотелось, и я совершил очередную ошибку, оставил крестьян самих делить серебро.
– Что нашли? – спросил Минин, действительно занятый варкой полбенной каши.
– Горшок с серебром и иконы, – ответил я, показывая перепачканный в глине сверток. – Тебе решили долю ефимок не давать.
– А тебе?
– Я отказался, мне деньги пока без надобности.
– Ты что, оставил мужиков самих деньги делить? – встревожился Кузьма. – Он же передерутся!
– Я как-то не подумал. Да там и делить-то особенно нечего.
Минин считал по-другому и торопливо, сняв с огня котел с варевом, пошел наводить порядок. Я оставил свой сверток и поспешил за ним. Однако мы опоздали. Драка уже началась.
– Прекратить! – закричал Кузьма, но на него никто не обратил внимания.
Драка была общая. Хорошо, что пока в ход не пошло оружие. Парни исступленно, молчком лупцевали друг друга. Я попытался разнять тех, кто попался под руку, но сзади меня самого ударили, и пришлось отступить.
Минин, не говоря ни слова, побежал в избу, вернулся с пищалью, пристроил ее на плетень и выпалил над головами. Ахнуло, как из пушки. Над нами с воем пролетела моя самодельная картечь. Волонтеры испугались и остановились, где кто стоял. Кузьма прислонил самопал к стволу дерева и, не торопясь, приблизился к застывшей группе.
– Деньги не поделили? – спросил он шершавым голосом. – Кто первый начал?
Вперед выступил Молчун:
– Мне чужого не нужно, но обрезанную ефимку не возьму, – сказал он и протянул на ладони отрезанную по краям монету.
– А мне самые затертые дали, – пожаловался Кнут.
– Соберите все деньги, я сам разделю, – тоном, не терпящим возражений, сказал Минин. – Кто не все вернет, и долю не получит, и я с него своими руками шкуру спущу.
Таким решительным народного героя мне еще видеть не доводилось. Взгляд его был жесток и непреклонен. Волонтеры, пряча глаза, начали ссыпать монеты на запачканную тряпицу. Кузьма подобрал с земли яблоко раздора и, не оглядываясь, пошел к избе.
Виноватые ратники гуськом двинулись следом.
– Я хотел по справедливости, – ища у меня сочувствия, сказал Крайний, – а он чего-то, того...
Кашу ели молча. Никаких вопросов о дележе Минину не задавали. Бойцы выплеснули эмоции и теперь готовы были подчиниться любому решению арбитра. После обеда Кузьма разложил деньги по равным кучкам и Кнут, стоя спиной к столу, называл, кому какая из них достанется. Против Божьего промысла никто не возражал.
Вскоре дождь, наконец, кончился, и в прогалины начало проглядывать солнце.
– Седлать! – приказал Минин, беря командование в свои руки.
Волонтеры без промедления бросились седлать лошадей. Никто ни с кем не разговаривал. Златой, вернее, будет сказать, серебряный телец расколол наше единство. Парни обменивались такими злыми взглядами, что было ясно – инцидент еще далеко не исчерпан.
– Я назад в Семеновское не согласный, – неожиданно заявил Ефим, когда настало время выезжать, – не пойду больше в крепость. Было видно, что решение далось ему с трудом, а драка явилась лишь катализатором. – Пусть кто хочет, тот и бежит до материной юбки.
– И я, и я не согласный, – поддержало его несколько голосов.
Мне, собственно, было все равно, вернутся ли крестьяне в крепостное состояние, или нет. Исключительно из добросовестности предупредил:
– Время нынче смутное, трудно вам будет, в общине легче будет выжить.
– Хоть день, да мой! – упрямо ответил Ефим. – В казаках не хуже, чем в крестьянах.
Как часто бывает, шальная копейка враз переменила психологию и нестойкие жизненные принципы ее обладателя. Небо вдруг показалось в алмазах, жизнь яркой и праздничной.
– Денег вам на всю жизнь не хватит, кончатся, что будете делать? – спросил Минин.
Ефим скептически хмыкнул и будто невзначай покосился на свое «обмундирование» и оружие.
– Кончатся – добудем, – насмешливо произнес он. – Ну, кто со мной?
Четыре человека, не раздумывая, подошли к нему.
– А вы что будете делать? – спросил я Ивана Крайнего и остальных волонтеров.
– Я в Москву подамся, – пряча глаза, ответил Иван, – в стрельцы пойду.
– А мы по домам, – ответил за оставшихся рассудительный Крот, – нам казачить да разбойничать не по-христиански.
Все уже сидели в седлах и осталось только разъехаться. Однако вбитая с младых ногтей привычка подчиняться была столь сильна, что никто без разрешения не осмеливался начать действовать. Я не знал, что лучше для этих парней, вернуться в зависимое, крепостное состояние или проявить инициативу и пуститься в бурное, как говорится, житейское море без руля и без ветрил.
– Ну, что же, у каждого своя судьба. Бог вам в помощь, – только и сказал я.
Распад команды создавал нам с Мининым определенные трудности по части транспортировки казачьего сундука, но теперь, когда мы оставались вдвоем, можно было разобраться с его содержимым и перегрузить ценности, если таковые там окажутся, в более подходящую тару.
– Прощайте всем, – поклонился честной компании Ефим и со своими сторонниками, не оглядываясь, направился в объезд подворья к лесу.
Крайний, не произнеся ни слова, молча поклонился и ускакал в противоположном направлении. Остались только мы с Мининым и идейные хлебопашцы.
– Ну, и нам пора, – сказал Крот, ставший неожиданно для себя лидером группы, – прощайте и спасибо за все. Не поминайте лихом!
– Прощайте, – ответили мы с Кузьмой.
Перед расставанием я посоветовал волонтерам не выезжать на большие дороги и пробираться проселками.
– И к себе в деревню пока не показывайтесь – переловят стрельцы, – добавил Минин.
Крестьяне уехали, и мы остались вдвоем.
– Вскроем сундук? – предложил я.
Весил этот хранитель казачьих тайн килограммов шестьдесят. Упаковали его капитально и залепили так, чтобы в него не попала вода.
– Неужто здесь столько золота? – нетерпеливо спросил народный герой, – это какие же деньжища! Царская казна!
– Посмотрим. Принеси топор, он в сарае.
Сбить навесной замок было нетрудно, сложнее оказалось поднять приваренную какой-то замазкой крышку. Пока я возился, пытаясь загнать толстое лезвие «топорно» выкованного топора в щель, на хутор неожиданно вернулся Кнут.
– Ты зачем здесь? – спросил его Минин.
– Дяденька боярин, можно, я при тебе останусь? – обратился ко мне подросток.
– Ты же домой уехал.
– Нет у меня дома. Тятя с мамкой померши, а я у чужих людей в приемышах живу. А деньги у меня наши отобрали. Дозволь, батюшка боярин, тебе служить. Парнишка был хороший, услужливый и трогательно наивный. Отсылать его одного в деревню было бесчеловечно, да вряд ли сумеет благополучно туда доехать: либо убьют дорогой, либо заберут в холопы. Мне же помощник мог понадобиться.
– Ладно, пока останься, там видно будет, – решил я.
Наконец крышка сундука поддалась усилиям и открылась. Никаких россыпей золота и драгоценных камней в сундуке не оказалось. Он был доверху набит бумажными свитками.
– Это еще что такое? – удивился я, беря лежащий сверху трактат.
– Немецкая бумага, – уважительно сказал Минин, – ишь, сколько ее тут, поди, больших денег стоит!
– Я не про то, что зто за рукописи?
– Давай, прочту, – предложил Кузьма.
– Сам могу, – ответил я и начал читать вслух начало первого свитка:
«Люди Московские, вы клялися отцу моему не изменять его детям и потомству во веки веков, но взяли Годунова в цари. Не упрекаю вас: вы думали, что Борис умертвил меня в летах младенческих; не знали вы его лукавства и не смели противиться человеку, который уже самовластвовал и в царствование Феодора Иоанновича, – жаловал и казнил, кого хотел...»
– Это что еще такое? – удивленно спросил Минин.
– Подметное письмо Лжедмитрия.
– Кого? – не понял Кузьма.
– Есть такой человек, выдает себя за царевича Дмитрия. Неужели не слышал?
– Были разговоры, что царевич чудесным образом спасся. А вот писанное на бумаге, вижу впервой.
Я отложил исторический документ в сторону и вытащил следующий. Текст был тот же. Остальные бумаги были копиями этого же письма.
– Интересно, зачем казаки спрятали письма, – удивился я, – тоже мне ценность!
– Может быть, от народа хотели скрыть правду?
– Про Лжедмитрия? Тогда куда проще было сжечь. Нет, здесь что-то другое. Тем более, что они поддерживают самозванца.
– А ты что, не веришь в чудесное спасения царевича?
– Нет.
– А я слышал, что Дмитрий истинный царевич.
– Ладно, слышал, так слышал, что будем с письмами делать?
– Давай назад закопаем?
– Зачем? Казаки погибли, место это никто не знает, некому будет раскапывать. Лучше сожжем, и все дела.
– Ты шутишь? Столько бумаги!
– Забирай с собой, будешь в нее говядину заворачивать.
– Ты все шутишь, а я серьезно. Вдруг царевич и вправду сын Ивана Васильевича!
Спорить на эту скользкую тему было бессмысленно.
– Можно, я себе возьму? – неожиданно попросил, вмешавшись в разговор, Кнут.
– Тебе-то зачем? – удивился я.
– Сундук всегда в хозяйстве пригодится.
– Ты же со мной собрался ехать, зачем тебе сундук, добро складывать?
– Красивый! – смутившись, сказал мальчик.
– Давайте собираться, а не то, не ровен час, казаки или стрельцы пожалуют.
– Столько бумаги пропадет, – пожалел хозяйственный Минин, – может быть, хоть немного с собой прихватим?
Я не стал спорить, а просто перевернул сундук и вывалил свитки на землю. Китайское трепетное отношение к любому бумажному лоскутку у меня отсутствовало.
– Если тебя так волнует бумага, то поискал бы лучше библиотеку Ивана Грозного, вот там были настоящие сокровища, а эти письма – сплошная ересь.
– А где ее искать? – заинтересовался Кузьма.
– Скорее всего, в Кремле. Станешь народным героем, займись, найдешь – Россия тебе будет благодарна.
– В Кремль еще попасть надо, – скептически сказал Минин, наблюдая, как я раздуваю трут. – Решил-таки сжечь?
Я подпалил бумажный ворох и, дождавшись, когда загорятся плотные листы немецкой бумаги, сел в седло.
– Ну, с Богом, – промолвил Кузьма, и мы пришпорили коней.
До Серпухова мы добрались к полудню следующего дня.
Я уже бывал в этом подмосковном городе, знаменитом, по словам Чехова, только тем, что там дьячок как-то за раз два фунта икры съел. В XX веке Серпухов был промышленным городом, с иным, чем в Москве, акающим говором, с обветшалыми остатками дореволюционных ткацких фабрик и развалинами церквей на высоком берегу заиленной речки Нары. Еще было в нем, как водится, оборонное предприятие и военное училище, защищать сомнительные завоевания Октября. Теперь, по слухам, соборы и монастыри начали реставрировать.
В 16-17 веках у Серпухова был иной статус: город стоял на главном пути кочевников на Москву, у последней серьезной естественной преграды перед столицей, реки Оки, и был форпостом Московского государства. Там даже по праву гордились собственным белокаменным кремлем. По сравнению с Московским был он невелик, в два раза меньше, но не менее неприступен.
В крепость мы по понятным причинам не сунулись, там был всего один вход и, соответственно, один выход. Проходил он по длинному извилистому коридору между крепостных стен, простреливающийся со сторожевых башен. Случись у нас неприятности с властями, убраться из крепости было бы проблематично. Потому мы сразу же направились на городской посад с торгом, где Минин развил бурную деятельность, подбирая себе надежную оказию до Нижнего Новгорода. Дело, впрочем, оказалось несложным – нижегородских гостей, ведущих торговлю с Москвой и Подмосковьем, тут оказалось сразу несколько человек. Известному в Нижнем Кузьме Миничу были рады, он легко сговорился с хозяином двухмачтовой барки о месте на судне. Без приключений мы погрузили имущество Кузьмы на судно и по-братски с ним распрощались.
Народный герой окропил мою грудь слезами, я тоже чуть не расплакался, но в последний момент сумел взять себя в руки и только троекратно с ним расцеловался. Кузьма прошел по трапу на барку, шкипер отдал команду отчаливать, и матросы оттолкнулись шестами от Серпуховской пристани.








