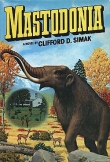Текст книги "Аналитическая психология К.-Г. Юнга и закономерности творческой фантазии"
Автор книги: Сергей Аверинцев
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
С.С.Аверинцев
«Аналитическая психология» К.-Г. Юнга и закономерности творческой фантазии
1
Что, собственно, означает применительно к изучению литературы и искусства пресловутое слово «мифология»? Для вдумчивого исследователя этот вопрос давно уже перешел из категории праздных спекуляций в сферу самых что ни на есть насущных профессиональных затруднений. Для него этот вопрос принимает весьма конкретную форму: в каких случаях он вправе (и обязан) констатировать в изучаемом им объекте, будь то литературный текст, картина, статуя, а может быть, также фортепьянная соната и т. п., присутствие того, что называется мифологией? Вопрос идет еще дальше: если мифологический элемент выявлен, как ему в своей работе учитывать это? Ведь искусствовед или литературовед, о котором мы говорим, еще на студенческой скамье должен был догадаться, что когда речь заходит о «мифологии» Кафки, дело идет о вещах как небо от земли далеких от предмета, трактуемого в книге Н. Куна «Легенды и мифы древней Греции». Его положение усложнено тем, что термин «мифология» утрачивает в наши дни необходимые всякому термину общеобязательные границы применения решительно повсюду, исключая только сферу этнографий, точнее же, ту ее область, которая занимается «примитивными», докультурными народами. Пока исследователь не покидает эту область, пока предметом его занятий остается та нерасчлененная идеологическая первоматерия, из которой еще не успели выделиться наука и словесность, история и сага, религия и право, философия и теология, – для него все ясно, и он может говорить о мифе со спокойной совестью. Мало того, ему дана привилегия ставить вопрос о специфических законах мифологического сознания, не вызывая подозрений в иррационализме. Коллеги будут с ним спорить по существу дела, но само слово «миф» споров но вызывает: здесь ему гарантировано всеобщее понимание. Ибо миф в собственном смысле слова есть миф первобытный – и никакой иной. Но – что делать! – этот, еще не выведенный из надежного тождества самому себе, миф не может вплотную заинтересовать ни литературоведа, ни искусствоведа, ибо заведомо несовместим с существованием объектов их профессионального изучения: с литературой и искусством как автономными формами человеческой активности. Первобытный тотальный миф и дифференцированное художественное творчество лишены возможности встретиться: жив первый, его цельность как раз и гарантирована тем, что искусство из него еще не вычленилось, а появление искусства само сигнализирует о распаде мифологического мира, – тут, говоря словами Гераклита, «огонь живет смертью земли». Миф, понятый этнографически, по необходимости есть «иное» для искусства, внеположен ему.
Конечно, необходимую оговорку предполагает тот общеизвестный факт, что выделение профессионального искусства из родового мифотворчества происходит не так быстро: это не мгновенный взрыв, а процесс, для древней Греции, например, занимающий не только эпоху архаики (VIII–VI вв. до н. э.), но и эпоху высокой классики (V в. до н. э.), – уже Гомер не есть первобытная мифология, но еще Софокл не есть до конца индивидуалистическая «литература». Общепонятна оговорка и для средневековья, когда культура была включена в организм тотального культа (хотя перенос термина «миф» с первобытной идеологии на монотеистические верования христианского типа есть рискованная интеллектуальная операция, уже имплицирующая дальнейшее расширение понятия мифа). Но отвлечемся от этих фактов и будем говорить исключительно о таких эпохах, когда феномен дифференцированного художественного творчества выступает во всей своей чистоте (как это имеет место в рамках новоевропейской культуры): чем может быть для такого общества миф?
Казалось бы, единственно возможным является тот ответ, который лет сто и более назад был бы само собой разумеющимся – особенно в устах человека, избежавшего соприкосновений с темными и непопулярными учениями немецких романтиков и позднего Шеллинга. Этот ответ прост: мифы «красивы», а потому для поэта или художника естественно их заимствовать и использовать. Здесь важны два момента: 1) убежденность в том, что мифология (почти всегда имеется в виду греко-римский материал) – это непременно «красиво»; 2) представление о чисто механическом «заимствовании» и «использовании» – как будто из театрального реквизита взяли нужный предмет, использовали, а затем водворили на место. Классицистическое новоевропейское культур-филистерство видело в мифе нечто донельзя формальное, лишенное жизненности, но как раз поэтому необычайно возвышенное и изящное; для той типической фигуры, которая имеется в виду во флоберовском «Лексиконе прописных истин», мифология – несомненная бессмыслица, но вместе с тем предмет преклонения, сюжет для оперетки (ср. «Прекрасную Елену»!), но в то же время столп и утверждение академического благородства. Эти по видимости противоречащие друг другу оценочные моменты сливаются в одном неоценочном: в утверждении формалистической концепции мифа. Формальны прежде всего его границы: мифология – это сумма рассказов о «мифических существах», каковы боги, духи, демоны и герои, а потому квалификация того или иного мотива как мифологического осуществляется предельно просто: в зависимости от наличия определенных имен. Если в тексте упоминается Зевс, или Ифигения, или Демон, можно спокойно говорить о мифе. При таком подходе изучение «использования» мифологии в литературе сводится к составлению индексов, учитывающих все упоминания имен подобного рода.
Надо сразу же оговориться: концепция художественного «использования» мифологии, какой бы плоской она ни представала I в свете опыта культуры XX века, в общем, отвечает реальной практике очень продолжительной и весьма почтенной историко-культурной традиции. Эта традиция выступает в предельно четком виде уже ко времени Овидия. Овидианское отношение к мифу, оказавшее всеобъемлющее воздействие, на новоевропейскую литературу и искусство, от Ренессанса вплоть до эпигонов классицизма в XIX веке, само по себе представляет интереснейший духовный феномен. Здесь особенно важен момент высокосознательной игры с заранее известными и «заданными» мотивами, организованными в унифицированную знаковую систему: Овидий. последовательно подвергает эстетической нивелировке самые различные слои греческой и римской мифологии, добиваясь полнейшей однородности. При этом существенно, что если по отношению к каждому отдельному мотиву допустима любая степень иронии и особенно эстетической фривольности (ибо мифология эмансипирована от всяких жизнестроительных задач), то система в целом эстетически оценивается как наделенная особой «высокостью». Это сочетание самодовольной непринужденности и условного пиетета как нельзя лучше подошло к социологическому строю бюргерского гуманизма: начиная с позднего Возрождения, по образцу мифологии Овидия пересоздаются сферы христианского мифа, рыцарских легенд, стилизованной еще Титом Ливием античной истории – на основе всего этого материала создается однородная система «высокой» топики. Даже в церковной словесности этой эпохи христианские понятия без труда транспонируются в образную систему языческой мифологии, которая в таких случаях выступает как до предела формализованный язык: так, иезуитский поэт XVII столетия Фридрих Шпее воспевает в своих духовных пасторалях Иисуса Христа под именем Дафниса, кардиналы с кафедры именуют деву Марию «богиней» и т. п.
Применительно к литературе и искусству, основанным на овидианском подходе к мифу, схема «заимствования» и метод выявления мифологических персонажей по индексу более или менее работают. К тому же старая методология имеет несомненное преимущество постольку, поскольку она с топорной четкостью устанавливает общепринятые и общеобязательные границы понятия мифа. Правда, вне этих границ (а потому и вне кругозора старой науки) оказывается множество явлений, без учета которых невозможно до конца осмыслить даже новоевропейскую культуру Ренессанса и барокко: таковы хотя бы «низовые» и «карнавальные» мифологемы раблезианского типа [1]1
Ср. обстоятельный анализ этого материала в кн.: М. Бахтин, Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса, «Художественная литература», М. 1965.
[Закрыть] не говоря уже о крайне важном для определенных эпох алхимическом мифе. И все же неблагополучно старой схемы в полной мере выявляется прежде всего на материале литературы и искусства двух последних веков.
Становление нового подхода к мифу происходит с начала XIX столетия и притом с особой интенсивностью в Германии. Уже во второй части «Фауста» Гёте проходят образы греческих и христианско-католических, но также и простонародно-немецких мифов, каждый из которых схвачен в своей жизненной и менее всего книжной специфике, а все в совокупности складываются в некоторый новый миф, уже не «заимствуемый», но заново «творимый». Небывалое по напряженности вникание в глубинные аспекты подлинной греческой мифологии, казалось бы, погребенной под пластами овидиевского классицизма, происходит в поэзии Гёльдерлина; его поэтический язык выявляет органичнейшее переживание некоторых предельно простых моделей мифа [2]2
См.: М. Hеidеggег, Unterwegs zur Sprache, Pfullingen, 1959.
[Закрыть]. Одновременно ученые и поэты романтизма вводят в кругозор европейского читателя богатство национальных мифологий германцев и кельтов, славян и народов Востока; выясняется, что не всякая мифология так непосредственно и выпукло «образна», иконична, как заставляла предполагать структура греческого мифа, – а это наносит еще один удар по «индексовому» изучению мифологических мотивов. Так, мифология Китая давала литературе и искусству не только и не столько иконические типы, сколько абстрактные первосхемы моделирования мира в числе, пространстве и времени (постепенно наука делается более чуткой к такому роду мифологии и в западной культуре). Открытая романтизмом возможность некнижного, жизненного отношения к мифологическим символам, реализуясь в обстановке расцвета реалистико-натуралистических бытописательских жанров, выливается в опыты мифологизации быта, когда первообразы мифомышления выявляются в самых прозаических контекстах. Эта линия идет от Гофмана с его относительно условной и наивной стилизацией к фантастике Гоголя («Нос»), к натуралистической символике Золя [3]3
Как спрашивал Томас Манн: «Разве Астарта Второй империи, именуемая Нана, – не символ, не миф?» (Т. Man n, Gesammelte Werke, Bd. X, Berlin, 1955, S. 348).
[Закрыть] – и уходит в наши дни. В этой сфере уже невозможно найти «мифологические» имена и книжные реминисценции, но архаические ходы мифомышления активно работают в заново творимой образной структуре на выявление простейших элементов человеческого существования и придают целому глубину и перспективу.
Психологизм XIX века в своем развитии с необходимостью наталкивается на мифологические первоосновы современного сознания, что дает возможность в еще большей степени лишить миф книжной условности и заставить мир архаики и мир цивилизации активно объяснять друг друга. В художественной практике Рихарда Вагнера этот шаг был сделан еще в 40-70-х годах XIX столетия, задолго до психоаналитического теоретизирования. Какой бы вульгаризации ни подвергся вагнеровский подход к мифу в руках эпигонов, он на ряд десятилетий предвосхитил дальнейший путь – к Фрейду и далее; виртуозная интуиция Вагнера, как она сказалась, например, в реконструкции мифологемы воды как символа первoзданно-хаотического состояния универсума (начало и конец «Кольца Нибелунга»), в мифологическом сближении ковки и коварства (образ Миме), женской любви, материнской любви, страха и огня (2-я сцена 2-го акта «Зигфрида») [4]4
«Здесь присутствует угадываемый и мерцающий из бездны бессознательного комплекс привязанности к матери, полового вожделения и страха… стало быть, такой комплекс, который представляет Вагнера-психолога в любопытнейшем интуитивном согласии с другим типичным сыном XIX столетия – Зигмундом Фрейдом, психоаналитиком» (Т. Mann, Gesammelte Werke, Bd. X, S. 353
[Закрыть] и т. п., до сих пор поражает своей меткостью. Очевидно, что старое представление об использовании мифологических мотивов безнадежно неприложимо ко всей культуре XX века в целом. Первоэлементы эллинского мифологического мира в таких стихотворениях О. Мандельштама, как «Сестры – тяжесть и ножность» и т. п., вообще невозможно выявить при помощи «индексовых» методов, а между тем эти первообразы там явственно присутствуют [5]5
Ср. попытку подойти к этой проблеме посредством структуралистских методов: Ю. И. Левин, О некоторых чертах плана содержания в поэтических текстах (Материалы к изучению поэтики Мандельштама), «International Journal of Slavoniatl Linguistics and Poetry», X, 1967, и другие работы этого же автора.
[Закрыть] «Бесплодная земля» Т. Элиота оказывается мифологичной не потому, что сам автор в комментарии дешифрует спрятанного там «повешенного бога», знание о котором почерпнуто из многотомного исследования Дж. Фрэзера «Золотая ветвь», но по объективной внутренней структуре произведения. Травестия иудаистского мифа, без сомнения, образует эмоциональный фон творчества Кафки, но как сделать ее предметом строгого анализа?
И еще раз: что такое миф в художественном творчестве? Эта методологическая проблема неизбежна для всякого исследователя, который попытался бы при решении конкретных проблем исходить из более или менее цельного представления о культуре. Прежде всего необходим такой критерий определения «мифологичности» мотива который, счастливо избежав пустой формальности прежних критериев, был бы столь же ясным и общеобязательным.
В чем признак мифа? При самом приблизительном описании того, как мы представляем себе миф, невозможно обойтись без таких слов, как «первоэлементы», «первообразы», «схемы», «типы», и их синонимов. Итак, мифологичны какие-то изначальные схемы представлений, которые ложатся в основу самых сложных художественных структур. Дело идет о том, чтобы возможно более адекватным образом выявить повторяющиеся схемы и систематизировать их.
Эта задача предполагает по меньшей мере Два различных пути своего решения. Во-первых, эти схемы, моделирующие человеческий мир, могут быть отнесены по ведомству философской феноменологии; таков путь Э. Кассирера. Сюда же примыкает работа структуралистов над инвентаризацией этих схем; бесспорно, например, что исследования Леви-Стросса открыли ряд возможностей, которые еще не скоро будут исчерпаны. Но мифология имеет весьма для нее существенное психологическое измерение, и в этом своем измерении она должна быть изучена именно как таковая, имманентно, а не ликвидирована как предмет через сведение к внеположным вещам (как это делал, например, ортодоксальный фрейдизм). В этом необходимость попытки Юнга – независимо от того, как приходится оценивать результаты этой попытки.
2
Одно из распространенных обозначений психологии Карла Густава Юнга (1875–1961), введенное им самим, – «аналитическая психология». Это название, представляющее как бы перевернутый вариант фрейдовского термина «психоанализ», хорошо выражает противоречивое отношение зависимости и отталкивания, в котором работа Юнга относится к идеям Фрейда.
Более того, противоречив и сам характер отталкивания Юнга от ортодоксального фрейдизма. Объяснять дело «завистно» Юнга к славе и интеллектуальному превосходству учителя – выход, который следует предоставить запоздалым публицистам фрейдовской «партии». История повторяется: в античной литературе были попытки мотивировать философские различия между платонизмом и аристотелизмом дурным характером Аристотеля, не ужившегося с учителем. Более серьезны указания на идеологически консервативный характер юнговского выступления с ревизией фрейдизма. Это – определенная сторона истины, которой надо отдать должное; и все же для начала следует отклонить презумпцию виновности для Юнга и попытаться добросовестно рассмотреть научно-позитивную, осмысленную сторону его разрыва с доктриной учителя.
Уже первые столкновения с Фрейдом, еще до окончательного разрыва в 1913 году, относились либо к «метафизическим» мечтаниям ученика, либо к «сексуальной теории» учителя. Запомним первый пункт, но для начала сосредоточим внимание на втором. Дело было
но только в том, что Юнг указывал на «многочисленные случаи неврозов, в которых сексуальность играла разве что служебную роль, на первом же месте стояли иные факторы, как-то: проблема сосуществования с* социальным окружением, подавленность трагическими жизненными обстоятельствами, притязание на престиж и т. п.» 1. Важнее были разногласия: в восприятии феномена «духа», культуры: «Стоило проступить в каком-нибудь человеке или художественном произведении отблеску духовности, как Фрейд ставил его под подозрение и усматривал в нем вытесненную сексуальность…
Я заметил ему, что если продумать логически его гипотезу до конца, это будет уничтожающим приговором над культурой. Культура окажется пустым фарсом, болезненным результатом вытесненной сексуальности, – Ну да, – подтвердил он, – так оно и есть. Это проклятие судьбы, против которого мы бессильны» [6]6
lbidem, S, 154,
[Закрыть]. Конечно, Фрейд был волен отбросить подобные апелляции к чувству как научно бессмысленные. Но ведь для Юнга дело шло не только об оценке, но и о понимании. Главный позитивный резон юнговской критики Фрейда может быть сформулирован так: предложенная классическим фрейдизмом модель духовной жизни всецело держится на одном весьма сомнительном методологическом допущении – будто все более высокие и сложные формы бытия непременно должны быть без остатка редуцированы к некоему простейшему началу и тем самым «разоблачены» в качестве иллюзии. Характерную методологическую параллель фрейдизму представляет вульгарный социологизм (в избитой шиллеровской формуле о «любви и голоде», господствующих над миром, фрейдизм взял первую половину, вульгарный социологизм – вторую). Все подобные умонастроения апеллируют к тому – по видимости непререкаемому – факту, что биологические элементы человеческого существования предшествуют мировоззренческим и потому якобы более реальны, чем последние. Ha деле человек, поскольку он есть человек, то есть существо социальное, по необходимости есть также, говоря словами Э. Кассирера, «символическое животное», потребности которого в символическом моделировании своего мира не уступит по своей существенности, настоятельности, ежеминутности любой из биологических потребностей. Еще никто не видел человека, способного съесть кусок хлеба или удовлетворить сексуальное желание, не вводя этого акта в сплетение хотя бы сколь угодно элементарных символических цепочек. Но если это так, не нужно искать для внутреннего человеческого универсума того абсолютного вещественного центра, которого мы не ищем для универсума космического, – иначе говоря, последнего «значения», которое само не может обозначать чего-то другого. На деле различные стороны человеческого бытия могут вааимно «обозначать» друг друга таким образом, что нельзя сказать, какой из двух полюсов А и Б является обозначающим, а какой подразумеваемым: в конечном же счете «имеется в виду» не какой-то один из этих двух полюсов, но факт их соотнесенности. Это весьма наглядно выявилось, между прочим, в контроверзе между Фрейдом и Адлером (на которую ссылался и Юнг): последний, как известно, предложил альтернативную модель, где на место фрейдовской «сексуальности» под всю сумму мыслимой символики подставлялась «воля к власти». Мы можем с некоторым упрощением изобразить суть дела так: если существует простейшая словесная мифологема «овладеть женщиной», то, по Фрейду, мы обязаны сделать из ее наличности вывод, что всякое «овладеть» всегда подразумевает «женщину» (но почему-то ни в коем случае не наоборот!), а по Адлеру – что под «женщиной» всегда кроется стремление «овладеть», утвердить себя (но опять-таки без обратной связи). Правомерность и необязательность обоих толкований лишний раз показывает, что весь смысл ходового словосочетания – именно в регистрации взаимообратимой связи идей, как эта последняя сложилась в итоге социальной эволюции человечества. Юнгу не стоило большого труда показать, что как раз сексуальные мотивы наделены в человеческой психике сложнейшим символическим значением и этому значению – а не чисто биологическим факторам – обязаны своим распространением. В частности, выплывание в мифах, художественных произведениях, снах и фантазиях современных пациентов и т. п. особенно интересовавшего фрейдистов мотива инцеста происходит не просто оттого, что сексуальная энергия тех или иных индивидов оказалась в результате детских впечатлений направленной на их ближайших родственников [7]7
Ср. раннюю и еще вполне ортодоксально-фрейдистскую работу О. Ранка: «Das Inzeatmotiv in Dlohtung urid Sage: Grundzugo oiner Psychotogie dies dichterl schen Schaffens», Leipzig – Wien, 1912.i
[Закрыть] идея кровосмешения исторически оказалась связанной с представлением об изначальном и потому «священном» состоянии мира, о божественной экстраординарности. Инцест – это символ нарушения социальной меры, в силу которого личность недозволенным образом мыслит себя сочленом сверхчеловеческого мира богов (поздний Юнг назовет этот случай «Inflation» [8]8
Термин «Inflation» не имеет ничего общего с обычным значением слова "инфляция» («обесценение»). Он связан с церковной фразеологией и лучше всего может быть передан как «гордыня» (в строго религиозном смысле) или как «надмевание».
[Закрыть]). Во фрейдовской интерпретации мифа об Эдипе нужно все поменять местами, чтобы добиться правильного смысла: Эдип не потому претерпевает свою судьбу, оказываясь носителем экстраординарного значения (разгадка загадки сфинкса) и экстраординарной власти 3, что его неудержимо влекло к реализации «эдипова комплекса», но напротив; в убийстве отца и соитии с матерью мифомышление в соответствии со своими имманентными законами обретает символ для характе-
ристики его «выходящего из нормы» бытия. Юнг в конце жизни так подводил итоги своих поправок к Фрейду: «Распространенная ошибка – полагать, будто я не вижу значения сексуальности. Напротив, она играет в моей психологии существенную роль, а именно, как важное – хотя и не единственное – выражение психической целостности. Но моя главная установка состояла в том, чтобы исследовать и объяснить ее духовную сторону и ее нуминозный [9]9
«Нуминозный» (от лат. numen – предельно общее понятие для яэыческого божества или демона) – термин, заимствованный у видного психолога религии Р. Отто; близко и понятию «мифологического».
[Закрыть] смысл, которые выходят за пределы ее значения для индивида и ее биологической функции» [10]10
С G. Jung, Erinnerungen, Traume, Gedanken…, S. 172. t
[Закрыть].
Теперь, через полвека после столкновения Юнга со своим учителем, юнговская критика «сексуальной теории» Фрейда интересна уже не по связи со своим объектом. Полемика с фрейдовским пан-сексуализмом давно перестала быть актуальным делом; уже сам Фрейд оказался вынужденным безгранично расширить рамки понятия «сексуального», одновременно лишая его почти всякой конкретности. Но по сие время не перестает быть актуальной методологическая проблема соотношения формы и содержания (означающего и подразумеваемого) в структуре символа; и здесь гибкость позиции Юнга, сумевшего схватить диалектику живого мифа, в котором знак и означающее на наших глазах способны меняться местами, может вызвать достаточно позитивный интерес и у исследователя, не разделяющего мистико-метафизических уклонов швейцарского психолога. Внутренняя необходимость для науки XX века более динамично подойти к психологии символа, нежели это делалось в прошлом столетии, засвидетельствована мыслителями совершенно иного склада, чем Юнг. Целесообразно вспомнить слова Э. Кассирера: «Миф нельзя сводить к определенным застывшим, статичным элементам:| мы должны стараться понять его в его подвижности и гибкости» [11]11
E. Cassirer, Essay of Man, New Haven, 1944, p. 76.
[Закрыть].
Мы сознательно начали с наиболее разумных аспектов юнговской позиции; во всяком умственном построении естественно прежде всего искать его смысл, ибо лишь исходя из этого смысла можно подвергнуть адекватной критике то, что лежит вне этого смысла. Однако в юнговской полемике с Фрейдом, как и во всем мире его мышления, бьет в глаза смешение здравых научных установок с причудливыми и внутренне необязательными философскими формулировками, современного – с архаичным. Колоритная архаичность формулировок Юнга обусловлена прежде всего тем, что в борьбе против механистико-рационалистической традиции XIX века – против «Бюхнера и Молешотта», с которыми он ассоциировал Фрейда, – он систематически апеллировал от вчерашнего дня философии к ее позавчерашнему дню: к наследию ранней немецкой романтики,
В деле Jung contra Freud воспроизводятся ходы мысли, у романтических мыслителей работавшие против рационализма французских просветителей. Собственно говоря, влияние романтизма неотделимо и от позитивных достижений Юнга, – как же, ведь именно романтики в борьбе против рассудочного аллегоризма отточили понятие символа как органической многозначности. Здесь уместно вспомнить Шеллинга, говорившего о «бесконечности бессознательности», которой живет и подлинное произведение искусства, и подлинный миф: любое произведение искусства, «словно автору было присуще бесконечное количество замыслов, допускает бесконечное количество толкований, причем никогда нельзя сказать, вложена ли эта бесконечность самим художником или раскрывается в произведении, как таковом» [12]12
Ф. Шеллинг, Система трансцендентального идеализма, Соцэкгиз,Л. 1936, стр. 383.
[Закрыть]. Еще одна цитата из Шеллинга: «Чары… всей мифологии объясняются, между прочим, и тем, что они допускают и аллегорическое значение как возможность; в самом деле, аллегоризировать можно решительно все. На этом основана бесконечность смысла в греческой мифологии» [13]13
Ф. Шеллинг, Философия искусства, «Мысль», М. 1966, стр. 109.
[Закрыть]. Эти формулировки без малейшего насилия накладываются на контроверзу между Фрейдом и Юнгом: если для первого образы фантазии суть однозначная аллегория полового влечения, то для второго в этих образах заложена бесконечность взаимообратимых символических сцеплений. Но вместе с интуитивной чуткостью к жизни символа Юнг вынес из романтической выучки и другие мировоззренческие традиции, и прежде всего откровенное недоверие к логике, иррационализм, приобретающий временами особенно агрессивные и отталкивающие черты под влиянием эпигонов романтизма типа Эдуарда Гартмана [14]14
Еще в студенческие годы Юнг, по собственному свидетельству, «прилежнейшим образом» изучал «философию бессознательного»; тогда же он соприкоснулся с романтической традицией психологии, как она представлена Г.-Г. Шбертом и шеллиигиаицем К.-Г, Карусом
[Закрыть]. Правда, практический опыт психиатра не позволял Юнгу до конца забывать, что в реальности – реальности психиатрических больных – выступает как радикальная альтернатива разума; это отделяло его от безответственных Dozenten des Unbewussten (выражение Т. Манна) типа Л. Клагеса, инвективы которого против «духа – противника души» вызывали со стороны Юнга довольно выразительную критику. Но духовный авантюризм романтиков, их бросающая вызов элементарной научности тяга к мифотворческим экспериментам – весь этот опасный комплекс нашел у Юнга попную реализацию. Не следует забывать, что Фрейд в споре со своим учеником представал как озабоченный хранитель традиций позитивистского рационализма. Юнг сообщает о таком красочном диалоге: «Я хорошо помню, как Фрейд сказал мне: «Мой дорогой Юнг, обещайте мне никогда не отказываться от сексуальной теории. Это самое важное. Поймите, из этого нужно сделать догму, несокрушимое заграждение». У него было лицо папаши, который берет с сына обещание по воскресеньям посещать церковь. С некоторым изумдением я спросил его: «Заграждение – а против чего?» На что он ответил: «Против черного потока грязи», – здесь он на минуту заколебался, а затем продолжил: «Против оккультизма» [15]15
С. G. Jung, Erinnerungen, Traume, Gedanken…, S. 154.
[Закрыть]. Конечно, паническое поведение Фрейда и его неосторожные слова о «догме» давали Юнгу возможность сохранить выигрышную позицию и не без основания заметить, что сама «сексуальная теория была столь же «оккультной», то есть бездоказательной, всего лишь возможной гипотезой, как и любые спекулятивные концепции» [16]16
Ibidem, S. 155.
[Закрыть]. И все же контраст между позитивизмом Фрейда, искавшего в любой форме мистики лишь материал для психоаналитических «разоблачений», между его грубовато-недвусмысленным атеизмом [17]17
Чего стоит его знаменитый ответ пытавшемуся эпистолярным путем обратить его в христианство англичанину, где он мстительно вскрывает за описанным в письме последнего религиозным переживанием сексуальную подоплеку компрометирующего свойства!
[Закрыть] – и готовностью Юнга к далеко заходящей игре с архаикой мифомышления, к тому, чтобы «стать на точку зрения» последней, достаточно разителен. Рядом с наукой XIX века фрейдизм может показаться интеллектуальной авантюрой; рядом с учением Юнга он оказывается топорным, но честным рационализмом в соседстве с комбинацией глубокомысленных двусмысленностей. Переписка Фрейда и Юнга (в частности, цитированное выше письмо Фрейда от 16 апреля 1909 года) свидетельствует, что до тех пор, пока их разрыв не состоялся, ученик играл роль искусителя, подстрекавшего наставника к рискованной и сомнительной постановке вопросов, на что последний отвечал: «Но я снова надеваю на нос отцовские очки и увещеваю дорогого сына сохранять спокойную голову»…
3
Систематически излагать философские и психологические воззрения Юнга – задача трудная и до конца едва ли разрешимая. Все его мышление проникнуто принципиальной несистематичностью, сказывающейся уже на уровне стилистики: ничего общего со стройным продвижением к цели от одного предположения к другому – фразы и абзацы как бы паратактически поставлены рядом друг с другом без внутреннего подчинения и соподчинения. Единственный в своем роде факт: у Юнга, прославленного и притом крайне плодовитого ученого, нет, собственно, ни одной крупной работы в настоящем смысле этого слова; его большие книги – это циклы расположенных под общим переплетом этюдов без необходимой связи друг с другом, опять-таки просто «поставленных рядом». Его изложение всегда оставляет возможности для различных и взаимоисключающих выводов, его формулировки по большей части наделены колеблющимся, многосмысленным значением. От связного изложения своей доктрины он неизменно уклонялся и в конце, концов предоставил это дело еще при жизни своей ученице Иоланде Якоби [18]18
J. Jacobi, Die Psychologie von C. G. Jung, Eino Einführung in das Gesamtwerk, Zürich, 1940.
[Закрыть] оставаясь в ситуации «ограниченной ответственности» за то, что из этого выйдет.
Из практического опыта Юнг вынес одно убеждение, решающим образом определившее все его дальнейшие конструкции. Это убеждение состоит в следующем: существуют определенные мотивы и комбинации понятии, наделенные свойством «вездесущности» («Ubiquist»), – они с непостижимым постоянством выявляются не только в мифах и верованиях самых различных народов, заведомо не имевших между собой никаких связей, но и в сновидениях или бредовых фантазиях современных индивидов, для которых абсолютно исключено знакомство с мифологией. Существенно и то, что эти мотивы по видимости совершенно «фантастичны», «произвольны», то есть не детерминированы логикой внешнего мира; объяснить эти повсеместно распространенные символические сцепления повсеместными же условиями человеческой жизни нет никакой возможности. Остается искать порождающие их закономерности в самой человеческой психике. Поэтому Юнг предположил, что бессознательное вновь и вновь продуцирует некоторые, схемы, априорно формирующие, представления человека. Эти схемы он назвал "архетипами». Важно, понять, что речь идет именно о схемах, а никак не о настоящих образах: «Архетипы имеют не содержательную, но исключительно формальную характеристику, да и ту лишь в весьма ограниченном виде. Содержательную характеристику первообраз получает лишь тогда, когда он проникает в сознание и при этом наполняется материалом сознательного опыта. Напротив, его форму можно… сравнить с системой осей какого-нибудь кристалла, которая до известной степени преформирует образование кристалла в маточном растворе, сама не обладая вещественным существованием… Архетип сам по себе есть пустой, формальный элемент, не что иное, как способность преформирования, данная возможность оформлять представления» [19]19
C. G. Jung, Von den Wurzeln des Bewusstseins, Zürich, 1954, S. 95—96
[Закрыть]. По при всей своей формальности, бессодержательности, крайней обобщенности архетинические фигуры имеют свойство «по мере того, как они становятся более отчетливыми, сопровождаться необычайно оживленными эмоциональными тонами… они, способны впечатлять, внушать, увлекать» [20]20
C. G. Jung, Das Gewissen in psychologischer Sicht, in; «Das Gewissen Studien aus C. G. Jung-Institut», I, Zürich, 1958, S, 199,
[Закрыть].
Эту констатацию лежащей в архетипах силы внушения важно иметь в виду при изучении юнговской интерпретации искусства и механизма его восприятия. Всякое эффективное внушение осуществляется через архетипы; поэтому художник – и это роднит eгo, по Юнгу, с пророком и другими аналогичными психологическими типами – это прежде всего человек, отличающийся незаурядной чуткостью к архетипическим формам и особо точно их реализующий. Важно и другое. Психическая энергия, которую сосредоточивает в себе архетип, не меньше любой физической энергии нейтральна относительно всех определений добра и зла: архетип сам по себе не морален и не имморален, не прекрасен и не безобразен, не осмыслен и не враждебен смыслу, но в нем заложены открытые возможности для предельных проявлений добра и зла. Поэтому архетипический характер внушения решительно ничего не говорит о доброкачественности или злокачественности самого внушения: архетипично творчество Гёте, но также и пошлейшие детективы, на архетипах основана власть над умами великих учителей человечества, но также и безответственных демагогов – вообще всякого «внушающего», каким бы ни было содержание этого внушения. Мало того, архетип амбивалентен даже с точки зрения биологических критериев: он выработан психофизическим организмом человека как «орган», гарантирующий равновесие психики, и до поры до времени действительно спасает индивида в угрожаемых состояниях; но в то же время затопление сознания архетипическими материалами явная примета невроза или психоза. Архетипичностъ – эпитет, начисто лишенный всякого оценочного содержания[21]21
Поэтому, если Юнг делил литературные тексты в зависимости от уровня насыщенности архетипическим материалом на «психологические» и «визионерские», естественно отбирая для своего анализа вторую категорию, из этого отнюдь не следует, что в его глазах «визионерская» литература «выше» или «лучше» бытописательской.
[Закрыть]. Осознание этого возвышает Юнга над обычным для романтической традиции оценочным идеализированием мифа и вообще бессознательного (ср. фразу Э. Гартмана об «изумительном бессознательном, которое грезит и молится, пока мы зарабатываем на прожитие»). Здесь опять-таки психиатрический опыт Юнга принуждал его к менее сентимейтальному и более конкретному взгляду на вещи.