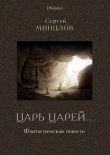Текст книги "Атлантида"
Автор книги: Сергей Минцлов
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Черт в Риге
Легенда
– Способен ли злой дух делать добро?
Этот, по виду праздный, вопрос долгое время занимал умы схоластов средневековья, но многотомные труды их остались бесплодными и мудреный вопрос так и застыл открытым. Ответ на него, и притом исчерпывающий, дает одна рижская легенда, которую я и излагаю ниже.
* * *
Вся опушенная и занесенная снегом стоит над сверкающим и широким простором Двины молодая Рига. Золотыми лучами вонзаются в белые облака высокие шпили соборов; будто тесные толпы любопытных, выглядывают из-за бурых стен города верхние этажи домов; между ними путаются и вьются узкие извилины улиц.
Вечерело. Белая риза Двины опестрилась нежными розовыми пятнами; по ту сторону ее, под дремучим бором, пролегли густо-синие тени. И нигде – ни на реке, ни у леса не виднелось ни души; только вороны черными стаями тянули по бледной зелени неба: был канун Рождества и горожане собирались идти в церковь. А так как всякому доброму христианину достоверно известно, что на первые три дня этого праздника черти получают отпуск на землю, но не смеют творить пакостей и даже проронить хотя бы слово, то сделается понятным, почему соборный звонарь, отец Себастьян, беззаботно подымался по крутой и полутемной коленчатой лестнице на колокольню.
Несколько раз он садился на ступеньку и отдыхал и тогда бережно извлекал из глубочайшего кармана коричневой рясы глиняную сулею и погружал в нее синебагровый нос; с середины лестницы о. звонарь начал уже петь что-то совсем не походившее на молитвы и, когда добрался до верхнего яруса, то вид имел достаточно блаженный; было как раз время звонить к службе, о. Себастьян взялся за веревку и вдруг распознал, что на балке, на которой висел колокол, сидит, тесно прижавшись друг к другу, кучка маленьких чертенят мышиного цвета, очень напоминавших не то сов, не то обезьянок.
– А вот и не смеете меня тронуть!! – произнес о. звонарь и упер руки в бока. – А вот я и не упал на лестнице!.. Кши вы, паршивцы!!
Он поднял лежавшую на полу метлу и замахнулся, но удар пришелся мимо, по балке; чертики не шелохнулись и только распушились еще более; желтые глаза их, не мигая, смотрели на монаха. Не успел он размахнуться во второй раз – будто дымки вспыхнули на балке и исчезли; остался только один чертенок; он с необычайной ловкостью перескочил на перила, оттуда на крышу, покувыркался в снегу и, словно на салазках, влетел на собственной спине в слуховое окно соседнего двухэтажного дома.
О. Себастьян долго следил за проказами чертенка со своей высоты.
– Ну, так я и знал!.. – вслух заявил звонарь: – в школу отправился! Я говорил о. канонику, что с приездом молодого учителя там завелась нечисть! А каноник смеется. Но смеяться нечему: мне-то с колокольни видней, что внизу на земле делается!
О. Себастьян навалился грудью на перила и не отрывал глаз от школы. Через несколько минут дверь ее приотворилась и появился мальчик лет шести в темной хламиде с широкими рукавами и капюшоном на голове.
– Черт!.. Держите его, ловите!! – закричал о. Себастьян, но он стоял на такой вышине, что слова до слуха людей не долетали.
О. звонарь плюнул от всей души на бестолковую землю и взялся за веревку; колокол скрипнул, качнулся раз и другой и запел звон.
Пустынные улицы оживились; млечный путь из людей и фонарей потек в собор; на площади у входа в него взметывали искры и языки огня смоляные бочки; будто пожар обагрял стены и слюдяные окна домов. Над входами в погребки светились большие фонари; в распахнутые двери видны были нарядные служанки, суетившиеся между дубовыми столами и винными бочками; пылавшие как пионы хозяева в разноцветных колпаках и передниках жарили на вертелах в громадных очагах всякую рождественскую снедь: наплыв посетителей ожидался очень большой не только по случаю праздников, но еще и потому, что зима в том году стала ранняя и суровая и несколько бременских и гамбургских кораблей застряли в Риге на зимовку.
Мальчик в шлыке пробрался к паперти, заглянул немигающими глазками во внутренность ярко освещенного собора и пошел на ратушную площадь; всюду заманчиво пахло жареным. Мальчик остановился около одного из погребков и с таким вниманием уставился на румяный окорок ветчины, обложенный колбасами, будто видел его впервые в жизни.
Из соседнего закоулка показались две дамы в синих бархатных шубах и больших шапках и с молитвенниками в руках. Около них прыгал и весело лаял на всех встречных рослый мышастый дог; шага за три до мальчика он остановился как вкопанный и понюхал воздух. Шерсть на собаке поднялась дыбом, блеснули оскаленные зубы, дог попятился, зарычал и вдруг яростно набросился на ребенка; оба они покатились по снегу. Перепуганный мальчик отбивался худенькими, смуглыми ручонками; пес как бешеный рвал на нем платье, затем вцепился в шею; мальчик пискнул тоненьким, придушенным голоском… Младшая из дам бросилась спасать ребенка и с помощью прохожих прогнала собаку. Он продолжал лежать, уткнувшись черной, кудрявой головенкой в сугроб и горько всхлипывал.
– Не плачь, не плачь, маленький, хороший!.. – заговорила молодая девушка, нагнувшись над ним и осматривая следы укусов, из которых сочилась кровь. – Бедный крошка, это скоро заживет все!.
И она заботливо принялась прикладывать к местам укусов пригоршни снега.
– Довольно возиться тебе с чужими собаками и оборванцами!.. – надменно произнесла старшая дама. – Вечно из-за тебя опаздываем в церковь!
Девушка торопливо открыла парчовую сумочку, висевшую у нее на боку, и ошарила ее, но там никаких монет, кроме новенького бременского талера, не оказалось; без всяких раздумываний она сунула его в карман мальчика, ласково погладила его по жестким волосам и пустилась догонять свою высокую спутницу, величаво шествовавшую уже довольно далеко по улице.
Весь вывалянный в снегу ребенок поднялся на ноги и очутился перед плечистым худощавым молодым человеком с закрученными в стрелку усами и острой бородкой; темные волосы спадали из-под берета ему на плечи.
– Это еще что за кроха?! – воскликнул он, присев на корточки. – Кто ты, откуда? о чем плачешь?
Мальчик молчал и только прижимал ладошкой пораненную щечку. Собравшаяся около них кучка людей рассказала, что произошло.
– Ах ты, бедняга!! – воскликнул усач. – Как тебя зовут?
Ответа опять не было.
– Он не наш!.. – отозвался кто-то.
– Арабчонок, должно быть!., наверное, с бременцами приехал да заблудился…
– Уж не немой ли он?.. – предположил другой голос.
– Немой или нет, а ночевать ему где-нибудь надо!.. – заявил усач. – Ну, араб, давай лапу и марш за мной!!
Мальчуган доверчиво подал ему ручку и через несколько минут оба они стояли на совершенно пустынной улице около узенького двухэтажного домика; усач извлек из кармана большой железный ключ, отпер дверь и они стали подыматься по почти отвесной каменной лестнице. В комнате хозяин высек огня, поджег сухие ветки, которыми был набит камин и комната озарилась светом; в ней стояли несколько глиняных головок и мольберт с начатым портретом молодой светловолосой девушки в синей шубе; на стенах висели несколько картин и лютня; простая узкая деревянная кровать, такой же стол и несколько стульев составляли всю обстановку художника; середи пола валялись сапоги, постель вся была взбудоражена, как будто на ней только что окончил драку добрый десяток людей.
– Вот мы и дома! – сказал художник, потирая зазябшия руки. – Ты своего плаща не снимай. Я люблю, знаешь ли, когда в комнатах холодно!… А теперь приступим к ужину!…
Он направился в шкафчику, придвинутому к камину, покопался в нем, бормоча и пожимая плечами, и наконец обрадованно воскликнул – «эврика!»: в руке у него оказались два яйца и ломоть хлеба. Он разделил все найденное поровну и отдал половину мальчику. Тот проглотил яйцо с такой жадностью, что хозяин не успел поднести своего к губам и застыл с раскрытым ртом.
– Однако!! – проговорил он и с вожделением перевел взгляд на свою порцию: секунда колебания и он переломил яйцо и протянул большую часть его маленькому гостю. – Я, знаешь, что-то совсем сыт: я великолепно пообедал вчера у одних знакомых!.. Слышишь, какой обед в животе бурчит?.. – и он, опасаясь своей щедрости, поспешно запихал в рот остатки еды.
– Так ты совсем не можешь ничего говорить?.. – невнятно начал опять художник с набитым ртом; диковинно закрученные усы его шевелились как у таракана. В глазах мальчика мелькнула лукавинка. Он протянул ручонку к художнику и прикоснулся к усу его.
– Гам!! – совсем по-собачьи рявкнул хозяин.
Мальчик в испуге откинулся назад, но увидал козу, сделанную из пальцев художником и шествовавшую через стол бодаться, и засмеялся; смех его напомнил писк стрижа.
– Занятный ты малый!.. – проронил художник. – Однако, черт возьми, камин гаснет и становится холоднее. Надобно в лес за дровами съездить… у меня есть неподалеку собственная роща, да снег глубок!..
Он поднялся и вышел в соседнюю комнату; через минуту он вернулся, таща пару тяжелых стульев. Расшибить их об пол было делом двух взмахов и куски дерева отправились в камин. Мальчик усердно помогал собирать щепки и кидал их туда же. Огонь быстро охватил сухое дерево и комната сразу наполнилась теплом.
– Вот теперь, если бы у нас было доброе пиво и хозяйка, мы бы до утра пробеседовали бы с тобой по душам!.. Впрочем, ты немой, но это ничего не значит: мне нужны слушатели, а в болтунах я не нуждаюсь! Ложись спать, дружок, на мою кровать; хоть ты и легок, но нас двоих она все же не выдержит! Я привык начинать ночь на постели, а просыпаться на полу: это разнообразит жизнь! А я посижу у огня и расскажу тебе, отчего я сегодня выпил лишнее!
Он уложил мальчика на постель, прикрыл его одеялом, а сам передвинулся к камину и вытянул длинные ноги на другой стул. Мальчик, не моргая, глядел на него; откуда-то из угла появился пушистый черный кот, вспрыгнул на кровать и, мурлыкнув, стал ласково тереться мордочкой о щеку немого.
– Ты еще не знаешь, малыш, что значит влюбиться!.. – начал художник. – Это значит сделаться бараном, ослом, идиотом с пшенной кашей вместо мозгов! Вот и я попал в это благородное состояние! Что поделаешь: все мы ругаем женский пол, а чуть появится хорошенькое личико – и капут: вози на нас хоть воду!
И все бы ничего: и Лотхен меня любит до того, что видеть не может и я у ее ног, но я беден, как крыша на цапле… я хотел сказать – как цапля на крыше!.. Когда я расстроен, я всегда выражаюсь наоборот! А она единственная дочка богача-растгера Эйзенберга, важного, как бочка, и умного, как два свиных окорока. И он вчера заявил мне, что пока я не принесу ему тысячу талеров и не привяжу свой язык покороче, он запрещает мне даже упоминать о Лотхен!.. Кажется, талеры принести ему все же будет мне несколько легче!..
Легкий храп со стороны кровати заставил его оглянуться: мальчик сладко спал, подложив под смуглую мордашку ручонку. Художник безмолвно посидел несколько минут, затем такое состояние показалось ему нестерпимым; он встал, снял с деревянного гвоздя лютню, накинул плащ и на носках выбрался на улицу. Серо-синее небо усеивали яркие звезды; окна всех домов были освещены, искрился и хрустел под ногами снег.
Только что художник запер дверь – что-то мягкое и теплое уцепилось за его палец; он остановился и увидал обращенную к нему довольную рожицу мальчика.
– Ты как проскочил?! – возопил художник. – Ведь ты же спал, шельмец!
Отзыва, конечно, не было; не выпуская художника, мальчик потащил его за собой и остановился у каменной лесенки, уводившей в обширный погребок, полный посетителей; из распахнутой двери вырывался говор и шум, запахи стряпни; над входом висела вывеска с изображением белого оленя.
– Для твоих лет познания у тебя обширные! – заметил художник. – В «Белом олене» кормят хорошо и можно с толком провести время: заморское купечество любит коротать тут время за игрой в кости и в чет и нечет! Сыграть нам с тобой, конечно, не придется, но за песню нас угостят сытным ужином и хотя бы цельной бочкой пива!
Мальчик протянул ему что-то крепко зажатое в кулачке.
– Талер?! – гаркнул на всю улицу изумленный художник. – Ты владелец такой суммы? Спрячь его хорошенько, дружок! – Он хотел возвратить монету, но мальчик заложил руки за спину и отрицательно потряс головой.
– Чудеса!!.. – талеры стали расти на улицах как грибы!! – пробормотал художник. – Ну хорошо, я беру его у тебя на хранение и потому угощу тебя лукулловым пиром; сегодня обойдемся без песен!
Вместе с семенившим рядом с ним мальчиком, художник спустился в погребок и морозный воздух и тени ночи сразу сменились теплом и светом; пылал очаг, на стенах горели сальные свечи.
Художник выбрал местечко, откуда было видно все происходившее в погребке, заказал, чтобы «не мазаться с пустяками», целого поросенка, гуся и пива и в расплату кинул кокетливой служанке на поднос талер. Она принесла сдачу и наевшийся до одышки художник небрежно сунул деньги в карман.
– А знаешь, я, кажется, сыт? – произнес ублаготворенный художник. Он икнул и отодвинул от себя оловянное блюдо с оставшимися костями. – Теперь попробуем с тобой счастья на игорном турнире, но сначала подсчитаем наше вооружение!
Он запустил руку к себе в карман и вытащил пригоршню мелочи; среди нее белел новенький бременский талер.
Художник вытаращил глаза, поднес его к самому носу, попробовал зубом – монета была настоящая.
– Неразменный талер!! – сразу охрипнув, сказал он. – Пойдем, испытаем его еще раз!
Оба встали и начали пробираться среди столов и бочек в дальний угол, где шла крупная игра.
Художник бросил свой талер на середину стола и выиграл: поставил два, потом четыре, потом восемь – ставки все удваивались и счастье неизменно было на стороне художника. Скоро перед ним вырос на столе целый холм из серебра и золота: расстроенные, бледные и побагровевшие игроки спустили все, что имели и понемногу стали бросать игру.
– Баста!.. – закричал, наконец, художник и с помощью мальчика принялся набивать свои и его карманы деньгами. Дома он разделил пополам всю добычу, но мальчик отодвинул свою долю обратно и не взял даже чудесного талера.
Ночью художник бредил игрой в кости и до того вошел в азарт, что свалился со стула на пол, что не помешало ему проспать до утра как на перине.
На другой день уже весь город толковал о громадном выигрыше художника Антониуса и нечего распространяться о том, с каким почетом были приняты он и его безотлучный маленький спутник, принесшие не тысячу талеров, а целых две. Немой переходил с рук на руки от художника к Лотхен и их родственникам; все наперерыв ласкали его, всякому хотелось подержать такого счастливчика: счастье ведь заразительно! Пир шел горой с музыкой и танцами и много десятков лет спустя Рига помнила торжественное обручение у растгера Эйзенберга.
Наступил третий день Рождества; радовавшийся всему малыш вдруг притих, сделался грустным и что ни придумывали жених и невеста, чтобы развеселить своего друга – все оказывалось тщетным. А время неуклонно передвигало узорные стрелки часов и незаметно наступила ночь, прозрачная и тихая; потоки горожан, гулявших в ожидании торжественной поздней мессы, заполнили улицы; наконец, загудели колокола города, призывая к богослужению.
– А где же наш немой?.. – вдруг спохватилась Лотхен, шедшая под руку со своим усатым женихом; оба всполошились и стали оглядываться, но мальчика видно не было; он отыскался у наружной боковой стены собора: будто тень, он стоял, плотно прильнув к ней, и напряженно слушал громы органа, сменявшиеся нежными голосами певцов.
Заметив своих друзей, мальчик бросился им навстречу и сталь ластиться то к одному, то к другому.
– Что с тобой, крошка? – заботливо спросила Лотхен, – отчего ты весь дрожишь?
Художник подхватил его на руки и изумился: мальчик казался почти невесомым; круглые глазки его с тоской переходили от лица Лотхен к Антониусу; темные ручки охватили шею художника и немой уткнулся головой в теплую шубу его. Башня над ними кинула в небо первую весть о полуночи. И с первым же ударом ее с мальчика спали одежды и на руках у Антониуса оказалось черное, слегка мохнатое существо с чуть пробивающимися рожками на курчавой головке; оно ловко соскочило на снег и вместе со звоном начало таять и превращаться в туман; с двенадцатым ударом все исчезло и только на крыше собора, несмотря на полное безветрие, закрутился и вскинулся в высь небольшой снежный смерч.
Немой исчез бесследно.
* * *
Расстроенные Антониус и его невеста наутро решили пойти к своему духовнику и открыть ему, что произошло с ними за истекшие три дня.
Древний монах, подпоясанный веревкой и с ермолкой на лысине, внимательно выслушал в сводчатой келье их рассказ.
– Дети мои, вы спрашиваете – не согрешили ли вы, войдя в сношения с духом зла?.. – сказал дряхлый мудрец. – А как вы думаете, есть ли на свете тягчайший преступник, в котором не таилось бы искры добра?
– Нет такого!.. – отозвались оба исповедовавшихся.
– Тогда, значит, почему же не иметься ей и у бывшего ангела? Ведь и он создан рукою Творца. Через вас Господь прикоснулся к посланному вам гостю и это прикосновение осветило блуждавшую в потемках душу его. Вы поступили хорошо. Идите же с миром и помолитесь о бедной душе вашего немого!
* * *
Антониус сделался известным скульптором и дожил с женой до глубокой старости. В память о своем маленьком друге на карнизе и кровлях всех храмов, которые возводились Антониусом, им ставились, среди изображений святых, высеченные из серого камня фигурки чертей, чудовищ и гномов, прислушивающихся к тому, что творится в церквах.
С легкой руки Антониуса такие украшения распространились по всей средневековой Европе и до сих пор на готических соборах и даже внутри их внимательный наблюдатель увидит «нечисть»: ей не молились, но в знак надежды на прощение ее допускали к присутствии при молитвах.
А происходило все вышереченное в лето Господне 1333 и акт о сем подписан господином бургомистром, достохвальными растгерами и надежнейшими свидетелями и очевидцами. Amen.
Странное происшествие
Рассказ
Была затихшая, теплая, ноябрьская ночь.
Я и моя попутчица, пожилая дама, запоздали на последний трамвай и возвращались в город по липовой аллее мимо лютеранских кладбищ. Она терялась в бесконечности и в тумане – черная, пустынная, безлистая; кое-где мутно желтели пятна фонарей, слева, совсем рядом, тянулась сквозная деревянная ограда; за ней среди кустов и деревьев белели бесчисленные кресты и памятники.
Мне почудилось, что я в потустороннем мире: за забором светилось множество огоньков, походивших на болотные.
Я остановился и указал на них своей спутнице.
– Это свечи!.. – пояснила она. – У нас, у лютеран, есть обычай зажигать их в вечерь дня поминовения усопших на могилах близких людей.
– Красивый обычай… – сказал я, не отрывая глаз от россыпи огоньков, мерцавших между крестами и деревьями.
– В Риге много любопытного – и старины и преданий!.. – произнесла она немного погодя. – Как все меняется на свете! Семьдесят лет назад здесь, где мы идем сейчас, залегал густой лес; около него ютилось это кладбище – оно и тогда уже на памяти деда было старинным, а дед мой был пастором на окраине Риги. Мирной улицы не имелось и в помине; ее заменяла немощеная дорога, вся в колдобинах; пустыри под городом были изрыты ямами; вместо нынешней Ревельской улицы тянулся глубокий овраг; через него был устроен деревянный мост. Место это считалось небезопасным и даже нечистым; во дни юности деда здесь случилось одно странное происшествие.
Появилась в Риге какая-то загадочная дама, уже не молодых лет. Жила она замкнуто, была очень набожна, посещала все церковные службы. Слухи, между тем, ходили о ней темные: люди всегда ведь любят пошептаться насчет ближнего!
Прошло сколько-то лет, дама тяжело заболела и послала за пастором.
Тот застал ее мечущейся по постели.
– Я великая грешница!.. – заявила она. – Дайте мне умереть спокойно – обещайте, что положите мне под голову в гроб евангелие, а в руки дадите вот этот молитвенник!.. – она протянула ему две книги.
Пастор обещал и больная вскоре скончалась. Обещание свое он выполнил, затем наступил день похорон. С выносом тела запоздали и, когда катафалк и немногие провожавшие добрались до кладбища – уже смеркалось.
День стоял осенний, чуть моросил дождь; гроб опустили в могилу, засыпали ее песком и ельником, пастор прочел молитву и все стали расходиться.
Пастор задержался разговором в конторе и, когда вышел за ворота, там стояла всего одна бричка – его собственная.
Он уселся в нее и тронулся в обратный путь. Ехать приходилось шагом, делалось все темнее.
И вдруг работник, правивший лошадью, повернулся к седоку.
– Господин пастор?.. – сказал он со страхом. – Люди какие-то на мосту караулят!
Тот подался вбок и увидал, что впереди, действительно, стоят черные фигуры двух человек; своротить в сторону было некуда и пастор велел ехать дальше.
Незнакомцы были в цилиндрах: их, как вам, конечно, хорошо известно, с давних времен носят в Риге только на похоронах да трубочисты.
Смирная лошадь пастора вдруг забеспокоилась, захрапела и ни за что не хотела идти на мост; один из неизвестных, весь бритый, схватил ее за узду; другой, бородатый, подошел к самой бричке и взялся рукой за ободок облучка. Пастор силился припомнить, кто они, но таких лиц среди провожавших покойницу не было.
– Что вам нужно?.. Отпустите лошадь!.. – воскликнул он.
– Нужен нам ты… – произнес бородатый. – Сейчас ты вернешься на кладбище, вынешь из гроба старухи обе книги и привезешь их сюда!
– Зачем?!.. – с ужасом спросил пастор. – Я не могу этого сделать!
– Тогда завтра умрешь!.. Книги или смерть – выбирай любое!.. И помни: ничто не спасет тебя от нас.
Раздумывать долго не приходилось и взволнованный пастор приказал поворачивать лошадь.
– Вы, конечно, представляете себе, с какими чувствами вышел он из своей повозки у ворот кладбища?
Сторож уже спал, в его избушке было темно; будить его пастор не решился – не хотел мешать в такое страшное дело лишнего человека – и велел своему работнику идти за собой. Тот весь трясся, но все-таки последовал за хозяином.
Пастор осторожно потрогал калитку – к удивлению его, она оказалась отпертой. Чуть похрустывая песком, крадучись, подошел он к двери сторожки, взял стоявшие около нее две лопаты и поспешил дальше.
Спотыкаясь о могильные холмы, напарываясь на ветки деревьев, добрались они до чуть желтевшей, как показалось им, свежей насыпи и оба вдруг остановились: перед ними на поверхности земли стоял закрытый гроб старухи.
Кто ее вытащил из ямы, зачем – ответа не было – кругом не имелось ни души живой. Пастор и кучер сняли крышку; перед ними под белой кисеей лежала покойница.
За оградой кладбища в нескольких местах протяжно завыли собаки.
Пастор, дрожа всем телом, сунул руку под голову мертвой и ледяной холод пронизал его; он вытащил евангелие, потом стал доставать молитвенник, но запутался в саване и сдернул и поволок его со старухи.
Она стала подыматься. Вне себя, крепко притиснув к груди книги, он кинулся бежать; за ним пустился работник. Падая и налетая то на гранитные памятники, то на чугунные статуи, они вынеслись за ворота, вскочили в бричку и лошадь, храпя, понесла их во весь опор.
У моста их ожидали те же двое незнакомцев.
Пастор сунул им книги, те вежливо приподняли цилиндры и бричка помчалась дальше.
Дома пастор едва пришел в себя. Весь остаток ночи он не сомкнул глаз и даже не раздевался, а утром поспешил в город, в ратушу, где и сообщил, что приключилось с ним.
Немедленно на кладбище была отправлена комиссия для осмотра могилы, но никакого гроба на поверхности не оказалось – все находилось в полной исправности.
Сторож, когда его спросили – не закапывал ли он вторично могилу, изумился и сказал, что ничего подобного не делал и не видал, но что почему-то кругом кладбища ночью выли необыкновенно многочисленные собаки.
Что это были за люди в цилиндрах, почему им понадобились именно те экземпляры книг, кто вытащил из земли гроб и затем вновь закопал его – так и осталось неузнанным.
Происшествие это вызвало в Риге много толков и ратушный совет постановил занести его в летописи города. Если интересуетесь, то хоть завтра можете прочесть о нем в архиве, в соответственном месте хроники.
* * *
Туман сгущался, сеялся мельчайшей пылью, свет фонарей сделался еще неяснее. Мирная улица утопала в потьмах.
Я шагал рядом со своей замолчавшей спутницей и словно воочию видел рассказанную ею историю.





![Книга Приключения студентов [Том I] автора Сергей Минцлов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-priklyucheniya-studentov-tom-i-242335.jpg)