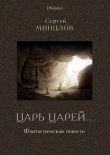Текст книги "Атлантида"
Автор книги: Сергей Минцлов
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
РИЖСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
Приключение с музыкантом
– Верите вы своим старикам, или нет – не знаю: нынче ведь все по-особенному на свете пошло! А мы своим верили и послушать их любили – видели они и слышали на своем веку много побольше, чем мы с вами и истории тогда приключались на удивление! Вот, к примеру сказать, что я слышал от своего деда, а ему его дед рассказывал – стало быть, речь не о близкой старине идет!
Вы-то этого уже не помните, а раньше там, где теперь нынешняя самая главная, Александровская улица находится, шоссе Петербургское пролегало, а вдоль него по пустырю домишки старенькие были разбросаны; о Новой Гертрудинской церкви и думы еще не было – на месте ее колодец находился и колоды для водопоя стояли. Около них кузница гремела-работала, а дальше леса уже начинались, а какие они в старину были, – глухие да темные, – поминать не приходится!
Где теперь мост над железной дорогой выведен, там глубокий овраг шоссе рассекал, речонка в нем протекала узенькая; нынче о ней и помину нет, а в те годы мост деревянный через нее был перекинут; для проезду царицы Екатерины каменный сделали.
Рядом с оврагом корчма длинная приземистая находилась, в глухом месте стояла, а всяким людом всегда была набита; частенько в ней и танцы затевались. Крылечко – сказывал дед – у нее замечательное было – навес на столбах и дикий виноград по ним под самую крышу всползал; а осенью весь дом будто пламенем бывал охвачен.
И вот однажды, в конце августа месяца, в корчме за-праздновались до самой ночи; посетители глянули в окна и поспешили разойтись. Стали собираться по домам и музыканты.
Вышли они со своими инструментами на улицу – темно, ветер в листве шумит, на небе ни звезды – один узенький серп месяца смотрит.
Попировали музыканты достаточно, особенно один, тот, что на спине контрабас нес.
Были они все из одной деревни, а дорог туда вело две – одна обыкновенная проезжая, но кружная, а другая тропочка. Остановились приятели у перекрестка, контрабас и заявляет:
– Я братцы, тропой дойду – устал очень, а здесь вдвое ближе выйдет!
У другого скрипка под мышку засунута была. Он свободной рукой придержал на себе шляпу от ветра и спрашивает:
– С ума ты сошел, что ли? Разве можно тут ночью ходить?
– А почему бы нельзя?
– Иль тебе память вином отшибло, что ли? С бедой с какой-нибудь хочешь повстречаться?
– Не боюсь я вашей нечистой силы… бабьи сказки все! – ответил контрабасист. – Дураков много развелось на свете, вот они всякие пустяки и трезвонят!
– Ну, коли ты так умен, так и иди один!.. – заявил третий, тот, что с кларнетом был.
– И проваливайте, трусы!.. – сказал контрабас. – А что я нынче раньше вас на час спать лягу – это вернее верного!
– Ой, не дури!.. – повторил скрипач. – И смотри, бур я ведь начинается!
Ветер в них и вправду песком бросил и листву опавшую взвихрил.
Контрабас пошатнулся, словно огромный аист, отмахнулся рукой, будто носом, и исчез в потемках.
Товарищи его постояли, послушали, посмотрели ему вслед и пошли своим путем.
Тропка вилась узкая, едва приметная; лес ревел и перекликался, вершины деревьев мотались как бешеные; за спиной музыканта лапы елей, будто смычки, изредка проводили по струнам контрабаса и он издавал «зум-зумс».
Музыкант озирнулся несколько раз; различить что-либо было невозможно, но человеку с мухой, конечно, море по колено, а как стал хмель из мозгов улетучиваться – жуть начала забирать. Остановился он, не знает, что делать – вперед ли идти, назад ли бежать? Повернулся – ан тропы позади уже и приметы нет – ели одной сплошной черной стеной встали. Ветер сразу стих, тишина наступила, опять дорожка наметилась.
Поостыл страх у контрабасиста, опять двинулся вперед. Видит – светлей сделалось, будто сияние какое-то за деревьями раскинулось. Сделал он еще несколько шагов – поляна ярко освещенная открылась, на ней дуб большой, раскидистый, а близ него костер огромный пылает, языки огня в самое небо взметываются. Народа на поляне видимо-невидимо; все разряженные, веселые. А вокруг дуба пляс, смех, говор, скрипка пиликает, кларнет дудит.
Понять ничего не может контрабасист – стоит, только диву дается – везде знакомые лица, все спешат к нему, здороваются, радуются, а где он видел их – не может вспомнить, только глаза у всех какие-то необыкновенные были. Больше всех одна девица высокая, краснощекая веселилась – нарасхват ее парни приглашали и кружились с нею как бешеные.
Глядит контрабасист и глазам не верит – навстречу ему из толпы оба его товарища – скрипач и кларнетист бегут.
– Что, обогнал нас?! – с хохотом закричал кларнетист.
– Наконец-то, приплелся! – поддержал скрипач. – Мы уже давно тебя здесь ждем!
– Без контрабаса музыка не в музыку… – заявили несколько голосов. – Становись скорей играть!
– Нет, погодите! – возразил кларнетист. – Пусть и он сперва с Лизой потанцует!
Не поспел он инструмент свой снять – красавица уже тут как тут; подхватила музыканта под руку и понеслись оба как в вихре: скрипка и кларнет залились на весь лес. Радостно сделалось контрабасисту, за облака, казалось, взлетел бы со своей дамой!.. Танцевал до одури, пока из сил не выбился и ее другой танцор из рук у него вырвал.
Отдышался музыкант и взялся за контрабас. Заухал он, загудел и уж тут веселье началось настоящее.
И все богатый и тароватый народ был – то один, то другой целые пригоршни денег в карманы ему совали, благодарить не поспевал. Стало ему совсем невмоготу, забрался он под дуб. а там дупло было: затиснулся музыкант в него, свернулся калачиком и заснул сразу.
Долго ли он спал – определить нельзя. Неловко, что ли, сидеть в дупле сделалось, только открыл он глаза и никак не мог сообразить – где он.
Поопомнился малость, выглянул наружу – лес кругом, светать начинает, тишина, ветка нигде не хрустнет, нигде ни души. Выбрался музыкант из своего убежища и думает – сон ли ему такой чудной приснился, явь ли была?
Видит – кострище большое, пеплом подернутое, тлеет, а крутом него земля вся будто заступом взрыта; присмотрелся ближе – следы как будто человеческие, бесчисленные.
– Ну, стало быть, не сон был… – решил контрабасист и обрадовался – вспомнил, что денег ему ночью надавали.
Сунул руку в карман, потом в другой – ан там листьями сухими полно – он и рот разинул.
– Ну! – подумал: – это, наверное, меня вчера пьяного обобрали!
В это время ворона над ним закаркала. Поднял он голову – видит, две их низко на ветке сидят, глазами посверкивают, а между ними длинный мешок, наполовину черный, наполовину зеленый, на веревке висит. Подошел музыкант ближе, да как шарахнется назад, как пустится бежать! О контрабасе и память из головы вылетела: то, что он за мешок счел, женщиной повешенной оказалось – той самой, что ночью с ним танцевала!
Примчался он опрометью в деревню, народ, конечно, сей час же собрался; узнали, в чем дело, на смех музыканта подняли: ни одна душа из деревни ночью в лесу не ходила и ни о каких танцах под дубом не слыхивала.
– Здорово, должно быть, ты вчера муху урезал! – сказал один из парней, тоже любитель выпить. И только он эти слова вымолвил – скрипач с кларнетистом на улице показались.
– Вот вы их спросите! – закричал контрабасист. – Они вместе со мной всю ночь играли под дубом!
Те и глаза выпучили. Ни на каком празднике они не были, а вернулись благополучно по домам и сейчас же спать завалились – их и домашние видели.
– А Лиза, братцы, где же?.. – вспомнил кто-то. В толпе ее не было.
Пошли все гурьбой к ее дому, а там тревога: девушка еще накануне ушла и ночевать не вернулась. И задумчивая такая была в последние дни, побледневшая.
Народ к дубу повалил. Глядь – висит она на суку и стая ворон ей плечи и голову обсели, дерутся за нее – крик и драка издалека слышны были: самоубийством с собой покончила!
Поняли тут люди, кому контрабасист ночью играл и отчего глаза у его знакомых остеклелые были: с мертвецами он здоровался!..
Вот какие дела в старости здесь приключались! Нынче уже лесов прежних нет и дуб давно срублен и на поляне дачи настроены, а вместо Бога в радио веруют. И что же при таком расположении вещей хорошего человеку ждать?
Буря
Рассказ из прошлого Риги
Стоял февраль месяц 1908 года. Дома мне отчего-то не сиделось: я ощущал легкое, беспричинное беспокойство, мешавшее заниматься. Это чувство я испытывал не впервые и знал, что лучшее лекарство от него – прогулка, и вышел на улицу. Сразу охватил снежный хаос; мела пурга, было уже довольно поздно и прохожие намечались только кое-где; мутно светили оледенелые фонари.
Я свернул на Александровскую улицу и медленно побрел по ветру: – я бесконечно люблю ночные метели в городах, когда все видится и чувствуется по-необычайному, придвигается потустороннее…
Я миновал мост, свернул в закоулок, в другой и когда огляделся, увидал, что нахожусь среди спутанного клубка совершенно пустынных и темных улочек; очевидно было только одно – что я где-то в Старом городе, но где именно, – не мог себе представить.
Встречных не попадалось ни души: бесчисленные рати белых привидений бросались на меня на перекрестках, осыпали снегом, взметывались выше острых черепичных кровель домов и с воем уносились дальше.
В вышине что-то протяжно заскрипело; в то же время ветер разорвал крутившуюся сетку пурги и на очистившемся сизом клочке неба очертилась вся задымленная снегом, многоярусная мощная башня св. Петра; рядом со мной, черной дугой, выгнулась низкая арка и я сообразил, что нахожусь у церковных ворот. За ними, между двумя стенами, тесно зажался крохотный домик моего давнего приятеля Христиана Ивановича.
Меня потянуло посидеть у него; я вышел из-под ворот и очутился перед его жилищем; в оконцах света не было, но я знал, что свои одинокие вечера Христиан Иванович коротает, склонясь над рукописями, в задней комнате, более просторной, чем две остальные, смотревшие на проходной двор.
Звонка у входа в дом Христиана Ивановича не полагалось: его заменяла чугунная рука, державшая шар, и я ударил им по скобке и прислушался.
Прошло несколько минут и за занесенной снегом дверью зашаркали туфли и стали спускаться по лестнице; в зарешеченное отверстьице блеснул огонек, показался настороженный глаз.
– Кто там? – спросил знакомый голос.
Я назвал себя и дверь открылась.
Передо мной стоял высокий, худощавый человек со свечой, поднятой над головой…
– Однако и занесло же вас… белый верблюд совсем!.. – сказал он, впустив меня и плотней запахивая на тощей груди коричневый халат с зелеными обшлагами.
– Извините, что потревожил вас в такую погоду!
Я отряхнулся и вслед за светившим хозяином поднялся по крутой деревянной лестнице во второй этаж. Приятно обняло теплом, окружили тесно стоявшие и друг на друга наваленные старинные, еще живые друзья уже умерших людей – книги, мебель с тисненой кожей, хрусталь, чуть мерцающий сквозь покров пыли; крохотное свободное местечко занимал на середине пола маленький, резной черный стол; на нем над раскрытой рукописью горела керосиновая лампа с зеленым абажуром.
К столу была прислонена длиннейшая голубая трубка, вся вышитая бисером.
Мы опустились на жесткие кожаные кресла времен рыцарей; Христиан Иванович взял трубку и сделал глубокую затяжку.
– Я думал о вас и вы пришли… – заговорил он, и в серых, острых глазах его почудилось какое-то беспокойство.
– Очень рад, что в эту ночь вы со мной!.. – он слегка пожал мою руку, лежавшую на краю стола, и опять всхрипнул трубкой; сивые волосы на его голове торчали в разные стороны и, казалось, тоже претерпели метель; круглое, как мячик, лицо, давно не видавшее бритвы, заросло перепутанным репейником.
Христиан Иванович был глубоким мистиком, потому слова его меня не удивили.
– А зачем я вам понадобился? – спросил я.
– Сегодня особенная ночь! – ответил он.
– Чем же именно?..
Мой собеседник молча указал узловатым пальцем на развернутую рукопись и передал ее мне.
Глянули крупные, порыжелые буквы; надпись гласила: – «Анно Домини 1428»… Над нею двумя неровными чертами был сделан большой крест. Далее следовали краткие записи о событиях в городе Риге.
Я стал пробегать их, а хозяин то исчезал, то выявлялся из дыма и молча следил за выражением моего лица. Заметки были краткие, но любопытные и касались главным образом вечных распрей города с орденом Меченосцев. Рыцари добивались подчинения себе архиепископа, т. е. полной власти над Ригой; упрямые ратсгеры и горожане добровольно не уступали Ордену решительно ни в чем и наконец произошло неслыханное событие.
В январе месяце названного 1428 года в Домской церкви было назначено собрание для разбора какой-то новой претензии и жалобы Ордена на рижан; храм был переполнен горожанами и рыцарями; заседание происходило особенно бурное; раздраженные стороны осыпали друг друга укорами и дерзостями и вспыльчивый гроссмейстер Ордена Зигфрид фон Спонгейм обнажил меч и в бешенстве кинулся на хладнокровно председательствовавшего ратсгера.
Бюргеры заслонили его и предотвратили кровопролитие в святом месте.
Умный и просвещенный архиепископ Генинг Шарценберг в том же январе созвал «провинциальный» собор и это собрание вынесло ряд важных постановлений, нанесших сильный удар рыцарям.
Среди прибывших на собор Рига увидела епископов Дерптского и Эзельского и празднества и пиры в честь гостей продолжались несколько дней.
В противовес рыцарям, всегда закрепощавшим крестьян, был принят целый ряд мер, облегчавших положение латышей и признававших за ними все права. Сверх того, было постановлено отправить посольство к самому Папе с подробным донесением о насилиях и обидах, чинимых Орденом духовенству.
Посольство выступило в путь в половине февраля месяца и к нему, в видах большей безопасности, примкнули шестнадцать юношей знатнейших фамилий; Рига почуяла веяние Ренессанса и впервые послала свою лучшую молодежь в Италию для завершения образования.
Толпа родных, знакомых и зевак далеко проводила длинный поезд возков, вытянувшийся на замерзшей Двине; настроение у уезжавших было радостное и бодрое, но часть остававшихся на родине хмурились: просочился слух, будто в ночь перед отбытием посольства сторожа слышали, как на башне св. Петра сам по себе зазвучал погребальный колокол; в него звонили только во время шествия осужденных преступников к месту казни.
Еще хуже было другое предзнаменование: при спуске поезда с ратушной площади на Двину, дорогу ему пересек пьяный городской палач, кривой Иеронимус Вурм, несший под мышкой длинный и широкий меч для предстоявшей ему в тот день работы.
Далее в рукописи стояло:
«18 февраля. В соборе идет заупокойная месса, улицы полны взбудораженными горожанами; ночью на взмыленных конях прискакали трое всадников с вестью о гибели посольства; мерно и медленно звонит на башне св. Петра колокол.
19 февраля. Бедственное происшествие выяснилось: близ Лива-озера рыцари под предводительством комтура Госвина фон Ашенберга напали на поезд, ограбили, а частью перебили его и отняли все документы, предназначавшиеся Папе. А шестнадцать человек защищавшейся молодежи были спущены под лед в проруби и утоплены. Господи, прими их души!..»
Под 1438 годом стояло: «Сего числа служили в Домском соборе траурную мессу по погибшим десять лет тому назад членам посольства к Папе. Весь город в черном.
А с того ужасного злодеяния в семнадцатый день февраля каждого года со стороны Ливского озера ночью стала налетать жестокая буря; с воем и визгом бросалась она на стены и башни города и души погибших рвались в ворота и стучали в окна своих домов…»
Я вздрогнул и прервал чтение: в раму окна глухо ударил ком снега; слышно было, как что-то припало к крыше, потом бросилось к трубе, застонало над ее отверстием и, плача, унеслось дальше.
– Что это?.. – невольно спросил я. – Кто-то кинул снежком?
Христиан Иванович молчал и продолжал завешиваться облаками дыма.
Я встал и пробрался к окну. Не было видно ни зги; метель бушевала по-прежнему.
– Сегодня семнадцатое февраля… вот почему я вызвал вас! – проронил мой приятель. – Слышите звон на св. Петре?
– Это воет метель! – ответил я. – Кому охота лезть ночью на такую вышину?
Христиан Иванович напряженно прислушивался. – «Звонит!..» – убежденно подтвердил он.
Я почти припал ухом к стеклу, изукрашенному морозными завитушками: кроме звуков бури, ничего иного не доносилось.
– Звонит… звонит!.. – возбужденно повторил он. – А если вы не слышите, значит, он относится только ко мне!
Мне сделалось жутко: почудилось, что передо мной, сгорбясь, сидит выходец с того света.
– Все мы только призраки!.. – ответил он на мою мысль, – и все живые существа, и вся земля, и небо – не то, чем кажутся! Жизнь – это великий маскарад. Смысл его слишком громаден и непонятен для нас, и кто дерзает, тот рушится первый!
Беседа наша дальше вязалась плохо и, когда я вскоре простился с притихшим приятелем и вышел из душного домика на свежий воздух, свершилось чудо: стояла прекрасная, светлая и тихая ночь; на прозрачной синеве неба плыл месяц, опалом и перламутром отливали окна и только закутавшиеся в плотные, белые покрывала дома свидетельствовали о только что творившемся хаосе.
* * *
Дела заставили меня уехать на довольно продолжительное время и, когда я вернулся и собрался навестить Христиана Ивановича – домик его я нашел опустевшим; вещи, наполнявшие его, все исчезли и только места картин и разных древних предметов на облепленных и покрытых пылью и паутиной стенах свидетельствовали, что там не очень давно обитал думающий и пытливый человек.
Соседи сообщили мне, что старый чудак исчез еще в конце февраля 1909 года; они обратили внимание на то, что характерная, высокая фигура Христиана Ивановича уже целую неделю перестала показываться где бы то ни было и в окнах его свет не появлялся.
Запертая дверь его домика была вскрыта, но ни живого, ни мертвого хозяина не оказалось: он пропал без вести.
Весной загадка раскрылась: к берегу, у старого базара, было прибито и опознано тело Христина Ивановича.
Как он попал в Двину, что ему почудилось – осталось неизвестным; обитатели двора уверяли, что 17 февраля видели его направлявшимся к реке в жестокую пургу: вероятно, он попал в одну из многочисленных прорубей на Двине и успокоился в ледяной могиле.
Ночная служба
Рассказ
Давно, пожалуй, лет полтораста назад в глухом углу Лифляндии, в лесном селении проживал каноник Якуб. С виду был он неприметный, простой, а слава о нем и об его набожности стлалась по всей стране. Люди называли его святым и вот что однажды приключилось с ним.
Стоял март, самый метелливый месяц в году; крыши домов обвесились ледяными сосульками, под снегом стали журчать и пробираться ручьи, дороги начало развозить, а отцу Якубу потребовалось во что бы ни стало съездить в Ригу, получить там святые Дары и поспеть воротиться домой к Светлому дню. Пасха в том году выпала ранняя, но как на грех отец Якуб крепко прихворнул и смог пуститься в путь только на Страстной неделе и уже в самую оттепель.
Поехал он с батраком рано утром на простых розвальнях, а к закату солнца ясное небо вдруг засумеречило: Бог перину затряс, и начался такой снегопад, что даже дремучий еловый лес, стоявший по сторонам дороги, скрылся в мятущихся белых хлопьях. Лошадка поплелась шагом.
Прошло сколько-то времени, работник оборотился к своему седоку да и говорит:
– Отец Якуб, что-то черное впереди нас мелькает, уж не волк ли? И только успел выговорить эти слова – черное пятно около самых саней очутилось: оказалось человеком в легком черном плаще и в каком-то необыкновенном берете.
– Не подвезете ли меня, добрые люди? – обратился он к проезжим.
– А куда вы идете? – спросил о. Якуб.
– В Ригу! – был ответ.
Голос у незнакомца был хриплый, простуженный.
– Садитесь! – пригласил отец Якуб. – И мы туда же путь держим!
Новый попутчик – звали его Генрихом – сел рядом с о. Якубом, закутался поплотнее в плащ и сани заскользили дальше.
Прошло с полчаса и метель так же сразу кончилась, как и началась.
Надвинулись сумерки, лес как отрезало, развернулась белая равнина; за нею, на буром небе, зачернели высокие шпили церквей и башни Риги; светились огоньки.
– Вы где пристанете? – осведомился незнакомец и не успел усталый о. Якуб ответить, как человек в плаще добавил:
– Остановитесь в Конвенте – там у меня есть помещение, вам будет удобно!
Так он эти слова радушно вымолвил, что о. Якуб сразу согласился.
Город был уже совсем близко. Замелькали маленькие домики предместья, стал наматываться клубок из черных ущелий-улиц с узкими домами в два и в три этажа; некоторые окна были освещены и свет полосками падал на грязную дорогу и на бритое лицо незнакомца; оно казалось посинелым.
Сани миновали церковь св. Петра, такую высокую, что, взбираясь на нее, того гляди с Богом встретишься. Сквозь арку ворот попали на двор Конвента: там высились развалины церкви св. Георгия.
Незнакомец указал работнику на конюшню, а сам проводил гостя в свою комнату. О. Якуб умылся, переоделся и поспешил к епископу, где и сделал ему доклад и получил св. Дары; в соборе должна была скоро начаться вечерняя служба и о. Якуб отправился послушать ее. Там он опустился в сторонке на скамью, склонил голову на руки и стал молиться.
Собор тонул в потьмах, смутным пятном высился главный алтарь; поодаль, в стороне, белел гроб Господен, сложенный из плит; вверх струились желтые огоньки нескольких свечей; будто маски смотрели со всех сторон многочисленные лица прихожан.
Нездоровье ли, долгий ли путь утомили о. Якуба, только через несколько минут он уснул.
– Ваше преподобие? – услыхал он чей-то отдаленный зов; он приподнял отяжелевшую голову и различил бритое лицо нагнувшегося над ним церковного сторожа.
– Служба кончилась, пора церковь запирать!
О. Якуб повел кругом недоумевающими глазами: скамьи пустовали, кругом не было ни души. Горевшие около гроба свечи лили трепетные тени и свет на деревянное изображение тела Христа; костлявые руки и раскрашенное лицо Его были мертвенны и страшны.
Каноник встал, преклонил перед алтарем колено, потом во второй раз перед гробом и вышел на тесную площадь.
Не было видно ни зги, не светилось ни огонька; в выси, на железном шпиле собора, слегка поскрипывал жестяной петух. Отцу канонику показалось, будто бы этот петух вдруг затрепыхал крыльями и прокричал ку-ка-ре-ку.
– Жар у меня, почудилось мне! – подумал о. Якуб, ощупал горевший лоб и стал пробираться дальше; несколько раз он натыкался на кучи конского навоза, чуть не упал через выброшенное, негодное ведро и бережно придерживал одной рукой святые Дары за пазухой, а другой ошаривал стены домов. Миновав одну улицу, он свернул на другую и вдруг будто звездочки рассыпались впереди него на земле.
О. каноник остановился; час был поздний, между тем, показалось множество горожан; из боковых улиц выступали все новые и новые люди; огоньки ручных слюдяных фонарей неясно выявляли из темноты странные, отороченные мехом длинные и широкие одежды, бородатые лица, плоские, широкие береты; на шеях висели золотые цепи; на женщинах, будто сахарные головы, высились островерхие колпаки; всех облегали тяжелые бархатные и шелковые платья; в руках виднелись молитвенники. Особенно бросались в глаза несколько белых рыцарских плащей с красными крестами.
С недоумением глядел о. Якуб на загадочных людей, окруживших его; все шли важно и безмолвно; слышался шелест ног; откуда-то наплывал мягкий, призывный звон колокола.
Показались низкие своды ворот Конвента; в них вливался народ; вслед за другими каноник попал во двор и тотчас около него оказалось улыбавшееся синее лицо подвезенного им человека.
– Ждем вас! – заявил он. – Вы должны сейчас отслужить для всех нас ночную мессу; святые Дары при вас?
– Но у меня нет с собой чаши? – возразил каноник.
– Она имеется! – был ответ. – Вы возьмете ее себе за вашу службу!
– Где же я буду служить? – спросил о. Якуб. Глаза его расширились и приковались к месту, где еще сегодня находились остатки церкви св. Георгия; их не было и тени: стрельчатый храм стоял весь целый и невредимый; из высоких окон от множества свечей исходил яркий свет; двери были распахнуты настежь, двор и церковь переполняли богомольцы.
Дорожный товарищ о. Якуба провел его сквозь расступавшийся народ в ризницу; их встретил высокий закристиан в белой накидке и помог отцу Якубу облачиться в кружевной стихарь; каноник взял чашу, указанную ему в нише стены, положил в нее св. Дары и, став на ступенях перед престолом, высоко вознес Дары и благословил ими собравшихся.
Орган загремел Те-Деум; мощный хор человеческих голосов покрыл его. Началась торжественная служба.
Неизъяснимая радость и страх проникали в сердце каноника: на его глазах произошло великое чудо – воскрешения развалин; значит, Бог прошел близко мимо них! Никогда так жарко не молился о. Якуб. – «В полночь встаю, чтобы славить Тебя» – вспомнились ему слова из псалма Давида и он чувствовал, что стоит на пороге смерти: сердце едва выдерживало неземную радость, овладевшую им.
Богослужение подходило к концу. Будто сон долетело второе пение петуха; свечи оплыли и превратились в огарки; храмом овладевала темнота, звуки органа замирали, лица молящихся начали таять, делались все прозрачнее; сквозь передних людей можно стало различать находившихся позади.
Один старик, с длинным голым черепом, орлиным носом и с начерненными усами приковал к себе на миг внимание о. Якуба; усач также начал растворяться в легкий туман и только клюв носа упорно и резко очерчивался сквозь головы ближайших людей.
С треском погасла последняя свеча и все погрузилось во тьму; мутный свет сверху наполнил храм. О. Якуб поднял глаза и увидал, что своды исчезли и их заменило синее небо; не стало ни алтаря, ни икон, ни статуй; пол покрывали разбросанные камни, в углу росли кусты и тощие деревца. Из-за остатка колонны выглянула чья-то лобатая голова.
– Позвольте, я вас провожу? – произнесла она и к отцу канонику протянулась непомерно длинная костлявая рука; из впадин глаз исходило пламя.
Весь трепеща, о. Якуб отшатнулся в сторону и перекрестил чашей с Дарами чудовище; оно застонало, согнулось, аршинные пальцы его врылись в землю и вдруг оно превратилось в длиннорогого козла и бросилось в ближайший куст. Стая ворон с криком заметалась над о. Якубом; он, весь облитый лунным светом, с блистающей чашей в руке недвижно стоял среди развалин.
Захлопал железными крыльями и в третий раз закричал петух, и все разом стихло.
Светало.
Башня св. Петра четко выделялась на бледном небе; на петухе розовел заревой отсвет. Не было слышно и видно ни души; строения конвента спали: путь о. канонику был свободен.
Сам не помня как, он выбрался на двор и только тогда ощутил, как он разбит и измучен; он узнал дверь в свою комнату и отворил ее; она ржаво проскрипела. Чашу со св. Дарами каноник поставил на табурет рядом с постелью, повалился головой в подушку и разом потонул в полном небытии…
Не то прикосновение, не то зов пробудили о. Якуба. С трудом он открыл веки и увидал своего батрака; из-за плеча его выглядывало бородатое лицо незнакомого кнехта, одетого в длинную баранью шубу. Свет чуть брезжил в комнату через единственное маленькое оконце, затянутое паутиной и пылью; пахло сыростью, прелью, давно необитаемым местом.
– Вставайте, ваше преподобие, – говорил батрак. – Время ехать нам!
Каноник сел и увидал, что на подушке, на слое пыли, отпечаталось его лицо; отец Якуб потрогал наволочку и она расползлась от прикосновения пальцев.
Сторож подошел под благословение и о. Якуб спросил, где он находится…
– Да я и сам дивлюсь, как вы сюда попали! – ответил сторож. – В комнату эту лет сто, а то и больше никто не входил: с тех пор, как в ней задушила нечистая сила бюргера Генриха. Сказывают, душа его доселе появляется в этой коморке и в развалинах.
Все трое перекрестились. Внимание о. Якуба привлек блеснувший предмет, стоявший на табурете. Каноник нагнулся и узнал чашу, с которой он служил ночью. Она была из золота и такой замечательной художественной работы, какой о. Якуб еще и не видывал.
Каноник осведомился – встал ли его дорожный товарищ Генрих.
– Такого у нас нет! – возразил сторож.
Каноник описал его наружность.
Сторож отступил назад и перекрестился.
– Господь с вами, ваше преподобие! – со страхом произнес он. – Да это же тот самый бюргер, который погиб здесь!
– Вот оно что! – отозвался о. Якуб и, не вдаваясь ни в какие дальнейшие рассуждения, приказал запрягать лошадь.
* * *
До самой смерти своей о. Якуб не открыл никому тайну о ночной службе для привидений и только на духу поведал, что с ним приключилось. Золотая же чаша – дар мертвецов – была им отослана римскому папе.





![Книга Приключения студентов [Том I] автора Сергей Минцлов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-priklyucheniya-studentov-tom-i-242335.jpg)