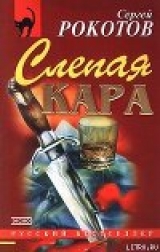
Текст книги "Слепая кара"
Автор книги: Сергей Рокотов
Жанр:
Крутой детектив
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
– А вы его не видели со вчерашнего дня? – спросил Гусев.
– Нет, не видел.
– А не предполагаете, куда он мог запропаститься?
– Да мало ли… Подумать надо. – По лицу Сапелкина можно было догадаться, что он знает, где Трыкин.
– Вы подумайте, подумайте, это очень важно, прежде всего для него. Что бы там ни было, ему нужно появиться у нас. Если убил и если не убивал – тем более. Вы понимаете, какое страшное обвинение нависло над вашим товарищем, Сапелкин?
– Да, понимаю… – Глазенки Сапелкина заблестели, забегали, видно было, что он колеблется, сказать или нет, где можно найти Трыкина. Не будет ли это предательством по отношению к товарищу. Но он взглянул на труп Николая и выпалил:
– Езжайте на улицу Гримау, дом десять. Там он должен быть. Там Верка живет, любовница его. Там его и найдете.
– Сергеев! Давайте вместе с Алексеем Алексеевичем срочно туда. И привезите сюда Трыкина!
Сергеев и Царев вышли.
– Закурить позволите здесь, Любовь Михайловна? – спросил Гусев.
– Курите, конечно, товарищ инспектор. Вот пепельница.
– Спасибо. – Гусев вытащил пачку «Кэмела», закурил.
Потом решил выйти в туалет. Проходя по темному коридору, почувствовал чей-то взгляд. Он обернулся…
В коридоре стояла маленькая старушка Вера Александровна и смотрела на него. В ее взгляде Гусев почувствовал какое-то напряжение. В нем были мольба и желание что-то важное рассказать ему, Гусеву. Он невольно вздрогнул и сделал шаг к ней. Но она резко повернулась, открыла дверь своей комнаты и шагнула в нее. Хлопнула дверью.
Странно все это. Что-то она знает. Что-то очень важное…
Гусев стоял в раздумье, не зная, что ему делать.
Зайти сразу к ней или подождать, дать ей собраться с мыслями. Коли она не решилась рассказать то, что знает, она не решится, даже если он будет настаивать.
А на чем он может настаивать? Она и намека не сделала никакого. А с другой стороны, надо ковать железо, пока горячо. А она, безусловно, что-то знает…
Он подошел к ее двери и постучал. Дверь была заперта на замок. Он постучал сильнее.
– Вера Александровна! Вера Александровна! Это я, Гусев. Откройте, пожалуйста.
Ответом было молчание. Гусев продолжал стучать.
– Я плохо себя чувствую. У меня давление поднялось. Я не могу сейчас разговаривать. Позже, позже, – слабым голосом отвечала из-за двери Вера Александровна.
Гусев не счел нужным стучать дальше, постоял немного и пошел опять в комнату.
В принципе, делать здесь было уже нечего. Труп надо было увозить на судмедэкспертизу, а затем вести это дело – видно, простецкое, несложное, обычная ерундовая бытовуха на почве пьянства и скотства.
Найдут они, разумеется, скоро этого дурацкого Трыкина, тот покочевряжится малость да и расколется как миленький. Соседка-то, видать, все видела, да припугнул ее Трыкин, вот она и боится рассказать, хочет, да боится, но она все равно расскажет, честность у таких, как она, выше страха. Устроят им очную ставку, припрут его косвенные свидетели, да наверняка и нож где-нибудь неподалеку отыщется с его отпечатками пальцев. И все. Будет суд, получит этот придурок лет восемь-десять по сто пятой статье и поплывет по этапу в дом родной. А он, Гусев, будет заниматься следующим делом, таким же нелепым и безобразным.
Он сидел и курил, поглядывая на труп мясника Фомичева, продолжал что-то записывать эксперт, пригорюнившись, подперев голову руками, сидела за столом Люба, всхлипывал полупьяный Сапелкин, паясничал на диване Толик. Все это было нелепо и ужасно скучно. «Скорее бы приходили Сергеев и Царев с Трыкиным ли, без него, надоело в этом клоповнике до ужаса», – думал с раздражением Гусев..
Время тянулось медленно, Люба принесла чаю, попили молча, потом Гусев опять закурил. «Как же они долго…» – злился он. И вот наконец раздался звонок в дверь.
– Товарищ капитан, – озадаченно произнес Царев, вытирая пот со лба. – Дела-то какие… Трыкин-то со вчерашнего дня в камере. Его еще вечером взяли, на улице хулиганил, гад…
– Во сколько его взяли? – с тоской произнес Гусев.
– Да около полуночи, – ответил Царев. – Он и впрямь поперся на улицу Гримау, но около метро «Академическая» сцепился с кем-то, возникла драка, его и скрутили. Так и сидит там со вчерашнего дня, мне только что звонили.
– Ну, я же говорил! – воскликнул радостный Сапелкин. – Не мог Вовка убить! Он только с виду такой, а так он добрый…
– «Добрый», – проворчал Царев. – Спасу от вас, добрых таких, нету.
– Это ладно, – почесал голову Гусев, глядя на Любу, сидевшую с открытым ртом. – А убивал-то кто же? Трыкин не убивал, Любовь Михайловна, алиби у него железное.
– Вы это еще проверьте, – буркнула Люба. – Мало ли… А вообще-то, это ваше дело – расследовать. Я вам сказала, что было вчера, а теперь расследуйте.
– Расследуем, не беспокойтесь, – тихо произнес Гусев. – Ну а теперь все. Сейчас за телом приедут, а мы уходим. Вы останьтесь, Алексей Алексеевич, пока тело не увезут. Ладно, Любовь Михайловна, всего доброго, будем вас вызывать. Примите еще раз мои соболезнования.
Он мрачно взглянул на Толика, корчившего на диване гримасы, и вышел из комнаты. За ним последовали Сергеев и эксперт. Проходя мимо комнаты Веры Александровны, Гусев приостановился и непроизвольно дернул ручку двери. Но та была заперта.
Глава 2
Через несколько дней состоялись похороны. Событие такое вообще дело невеселое, но эти оказались тягостнейшими особенно, и в моральном, и в материальном смысле. Люба была уверена, что два братана Николая помогут, надеялась она и на сбережения старухи Пелагеи Васильевны. Ведь ее собственные ресурсы подходили к концу.
Кинулась Люба к загашнику в тумбочке да так и ахнула… Не зря покойник каждый день дома попойки устраивал. Своей сберкнижки у нее не было, она нашла сберкнижку Николая. На его счету было три с половиной тысячи. Не густо, но на похороны бы хватило.
«Вклад завещан», – было написано на сберкнижке.
Люба побежала в сберкассу и обнаружила там удивительную вещь – вклад был действительно завещан, но на имя Фомичевой Пелагеи Васильевны…
Старуха тяжелой поступью вошла в комнату. За ее мощной спиной возвышались головы Ивана и Григория. На физиономиях застыли скорбные гримасы.
«Не уберегли», – произнесла старуха и плюхнулась на стул. И обхватила голову ручищами. Иван и Григорий сели рядом.
Люба накрыла на стол, потом долго рассказывала старухе и братьям о случившемся. Выпили, закусили.
И лишь в конце трапезы Люба решила завести разговор о деньгах.
– Вы понимаете, мамаша, – сказала она. – Николай-то свой вклад вам завещал, там три с половиной тысячи осталось, было больше, но он остальное снял.
А дома, понимаете ли, почти ничего нет, он ведь мало зарабатывал в последнее время.
Старуха при упоминании о деньгах вся напружинилась и уставилась в одну точку. Не произносила ни слова. Братья делали вид, что все это их не касалось.
– Так что же, Пелагея Васильевна, – обратилась Люба к ней по имени-отчеству. – На похороны деньги нужны.
Старуха продолжала молчать.
– Эти деньги Коля мне на старость оставил, – наконец произнесла она. – А не потому, что вы кормильца своего похоронить не можете. Совести у вас нет. Извели человека, а теперь со старухи деньги требуете. Ничего я тебе не дам, ни одной копейки, поняла?! – Она властно поглядела в глаза Любе.
– А хоронить-то на что? Знаете, сколько денег нужно? – дрогнувшим голосом произнесла Люба. Ей стало не по себе от бешеной ненависти, звучавшей в голосе злой старухи.
– Это твое дело. Ты вдова, ты и хорони. А мне о боге думать надо.
Люба поглядела на братьев. Те сразу отвернулись.
– Вы-то что? – спросила она.
– А мы что? – отвечал Иван, лысеющий, с бесцветными глазами. – Я зарплату уже полгода не получал, откуда у меня?
– А ты, Гриша?
– Я-то? – засуетился чернявый Григорий, очень похожий на покойного Николая. – Я был дал, да нет ничего. Я шоферюга, мое дело какое? А подкалымишь, все на жисть идет, сами знаете, жисть-то какая поганая. Вот сто рублей есть, хотел в Москве гостинцев детишкам купить, да уж ладно, бери, раз так, ради только братана…
– Да что такое сто рублей? – пожала плечами Люба. – Разве на такие деньги похоронишь?
– Скажи и за это спасибо! – возмутилась старуха. – Это вы за ним жили, вам и хоронить его! Тебя и сына кормил, да еще и дочь твою, он ее вообще кормить не обязан был…
– Она сама работает! – обозлилась Люба. – Не хотите давать – не надо, и нечего мне мораль читать.
Похороним вот Николая, и катитесь вы, мамаша, со своими сыночками отсюда к едреной бабушке в свою Сызрань, мы вас не знаем, вы нас не знаете.
– Ишь ты! – поднялась с места старуха, суча богатырскими кулачищами. – Возникла тоже, падла! Мы еще не знаем, кто Кольку нашего ухандокал. Уж не ты ли сама со свой дочкой-шлюхой?
– Старая ведьма! – поднялась и Любка. – Пошли вон отсюда все! Катитесь, катитесь, вот бог, вот порог!
Богатыри сыночки вскочили, как по команде.
– Тихо, Любаха, тихо, – увещевал вертлявый Григорий. – Ты не кипятись, а то хуже будет. Неча на мамашу нашу пошумливать, мы тя быстро прищучим.
– Милицию вызову, – спокойно ответила Люба. – Проверят и вас, может быть, это вы его и убили, приехали с утра и убили; Вот, кстати, идея хорошая, как это я раньше не подумала?! А ну-ка я Гусеву позвоню, скажу, что вы здесь, чтобы вызвал вас.
– Да ладно тебе, – успокоил Иван. – Побазарили, и будет. Свои как-никак люди, горе общее. Я вот дам денег, есть в загашнике малость, братан ведь. Вот, Любаха, возьми, тут тысяча, больше нет, ей-богу…
«Странно он как-то засуетился, – пришло в голову Любе. – То сидел как сыч, а то встрепенулся весь, лишь только о милиции разговор зашел. Странно…»
Но скандал был замят, снова сели за стол, выпили, закусили…
Денег, однако, было совсем мало. Надо было занимать. Люба была вынуждена обратиться к матери, позвонила ей, попросила приехать.
К вечеру в квартире на улице Бабушкина появилась крохотная старушонка Зинаида Федоровна, озабоченная и суетливая.
– Я, Любаша, деньги-то эти на свои похороны копила, а вот приходится тебя выручать.
– Да отдадим мы, мама, скоро и отдадим, я после похорон сразу работать пойду, надоело уж сидеть дома.
Мать втихомолку передала Любке пачку пятидесятирублевых купюр, вынув ее из платочка, аккуратно перевязанного.
На все это похоронили Николая, справили поминки.
Сидели молча, мрачно, погода в день похорон была ужасная, полил дождь, а потом перешел в мокрый снег, и это в середине апреля! Народу было немного – Люба, мать, Толик, Наташа, мать Николая с сыновьями да Сапелкин. Трыкин получил пятнадцать суток за хулиганство и на похоронах быть не смог.
Люба поглядывала на присутствующих. Вот налегает на яства Толик, клюет как птичка ее мать, смачно жрут Иван и Григорий, горячая слеза течет по щеке круглого Сапелкина, а Наташа…
Люба помнит, как в тот вечер сообщила Наташе о смерти Николая. Наташа ничего не произнесла в ответ, прошла в свою комнату, но Люба заметила, как блеснули глаза Наташи, она прочла такую бешеную радость в этих глазах, что ей стало не по себе. Мысли вихрем пронеслись в голове, Люба заквасила губу, она не в состоянии была думать о том, что происходило между Николаем и Наташей. Она закрывала на это глаза, она старалась думать, что все нормально и ничего этого нет вообще. Удобная политика. Выяснять отношения было опасно. И страшно. И вот теперь…
Николай мертв. А Наташа молчит. Радуется в душе.
И молчит.
Когда Наташа вышла ужинать, Люба посмотрела на нее пристально.
– Чего молчишь-то? Убили, говорю, Николая. Не понимаешь, что ли?
– Слышу. Не глухая, – ответила Наташа и принялась за котлеты с картошкой.
– Ну, слышишь, и чего? Чего?
– Чего? Ничего. Убили Николая. Я поняла. Прими мои соболезнования. – Она слегка усмехнулась.
– Ох и стерва же ты! – возмутилась Люба.
– Да уж не хуже твоего покойного мужа, – возразила Наташа. – И не прикидывайся, что горюешь сильно. Собаке собачья смерть, и ты сама это прекрасно понимаешь. Кто его? По пьянке небось? Не Трыкин ли? Вчера они круто побазарили.
– Думала так. Думали – Трыкин, ан нет! Трыкин-то со вчерашнего дня в камере, алиби у него, понимаешь, железное! Так что вопрос большой, кто убил.
Следствие идет.
– Ну и правильно. Так положено. Идет и пусть идет. Нам-то что? – спокойно отвечала Наташа.
Люба уже не знала, что ей и говорить. Пробить олимпийское спокойствие Наташи было невозможно.
– Муж он мне как-никак, кормилец, сына моего отец, – неуверенным голосом проговорила Люба.
– Да? – усмехнулась Наташа. – Я вот о чем тебя попрошу, мама, ты сделай так, чтобы после похорон его мамаша и братья сюда больше не приезжали.
Очень тебя прошу.
– А чего они тебе? – удивилась Люба, хотя и сама терпеть их не могла.
– Так… Воздух чище будет, – с ненавистью произнесла Наташа.
Что-то странное звучало в ее голосе, и тут Люба поняла, что ей уже пришла в голову удивительная и страшная мысль, в которой она боялась себе признаться. При этой мысли она чувствовала, как мурашки ползут у нее по спине, а волосы на голове начинают шевелиться…
…И вот поминки. Жрет семейство Фомичевых, а Наташа ковыряет вилкой поминальный блин на тарелке и поглядывает на Пелагею Васильевну, усердно занятую жрачкой. Люба замечает этот Наташин взгляд, и опять у нее мурашки пробегают по спине, такая ненависть в этом взгляде…
Вера Александровна не пришла на поминки, хоть Люба и приглашала ее – сосед как-никак помер.
«Нет, нет», – тихо ответила она и быстро постаралась ускользнуть с кухни, где происходил разговор. «А то зашли бы, блинка бы, рюмочку на помин души», – вдогонку сказала Люба. «Да нет, нет, нет», – забормотала Вера Александровна, словно испугавшись чего-то, и буквально убежала к себе в комнату. Странным показалось Любе поведение старушки. Ей вообще было не по себе – она словно потеряла точку опоры, до смерти Николая было все просто и ясно, хоть и погано, на некоторые вещи она старалась закрывать глаза, а остальное было вполне понятно. Теперь же, выпив пару рюмок за помин души убиенного Николая, она почувствовала, как у нее кружится голова. До нее вдруг дошло, что Николай не просто умер, что его убили, убили здесь, вот на этом самом месте, и убил не Вовка Трыкин, а кто убил, до сих пор неизвестно Ей, в общем-то, не было жалко Николая, теперь, после его гибели, она поняла, что никогда не питала к нему ни малейшей симпатии, больше того – он был ей неприятен, но эта тайна, которая нависла над их домом, над их семьей, была ужасна. Здесь, на этом месте, ножом в грудь, среди бела дня… И это странное поведение Веры Александровны, и этот ненавидящий взгляд Наташи… Боже мой…
– Не ценили, – то и дело бубнила Пелагея Васильевна. – Не уберегли.
– Да ладно вам, мамаша, – бурчал Иван, раскрасневшийся от водки. – Как они могли уберечь? Пил Коляка в последнее время да не поделил что-то с кем-то… Всего и делов-то.
Потом Ивану приспичило по нужде. Он вышел.
А вскоре Люба вынесла грязную посуду. И услышала шепот:
– Смотри, никому не вздумай сказать, что видела меня здесь. Урою, старая курва, – шептал зловеще голос Ивана.
– Я и не собираюсь ничего никому говорить. Это ваши дела, и меня они не касаются И нечего меня запугивать, – отвечал тихий голос Веры Александровны.
«Так, – подумала Люба. – Вот оно что…»
Она вернулась в комнату, надеясь, что Иван не слышал ее шагов в коридоре. Поставила грязную посуду обратно на стол.
– Потом все вместе унесу. Голова что-то кружится, – объяснила матери, глядящей на нее с недоумением.
Вскоре вошел потный, раскрасневшийся Иван.
Сел за стол. Налил себе и брату Григорию водки Потом поглядел на свою мамашу и налил ей тоже.
– Ну, помянем брательника Коляку! – провозгласил он с идиотской улыбкой на лице. – Пусть земля будет ему пухом!
Люба внимательно глядела на него. Заметила, что глазки у него бегают. Да, что-то тут не так…
Закончились поминки. Ушел вдребезги пьяный Сапелкин, уехала и мать. Братья Фомичевы отправились с мамашей спать в Наташину комнату, а Наташа, Толик и Люба легли в большой комнате…
Любе не спалось. Поздно ночью, когда все в доме затихло и из соседней комнаты послышался богатырский храп Пелагеи Васильевны, она на цыпочках прошла туда. Храпели все трое. С колотящимся сердцем нащупала светлый пиджак Ивана, сунула руку в карман, потом – в другой, внутренний. Вот оно… Толстая пачка денег ткнулась ей в руку. Она вышла из комнаты, в руке была пачка сто – и пятидесятирублевых купюр. А между ними было еще что-то. Люба так и ахнула! Это была ручка Николая – неприличная ручка с раздевающейся красавицей. Все ясно. И деньги это его, Николая… Ей с самого начала не верилось, что Николай мог пропить все деньги. Он хоть и пил в последнее время, но головы не терял. Люба пересчитала деньги – пять тысяч. Одну, значит, он на поминки дал. А было шесть. Так… Все ясно. Этот гад утром приехал из Сызрани, убил Николая, родного брата, и взял деньги… Что же ей теперь делать? Что делать? Надо положить деньги на место, тихо, аккуратно, а прямо с раннего утра позвонить следователю Николаеву, Гусев оставил его телефон. Чтобы этот гад не успел и проснуться, как его взяли бы тепленького, с деньгами и ручкой в кармане… Только бы сейчас не проснулся…
Только бы не проснулся…
Нет, вроде бы спят, гады! Ну мамаша, народила сынков, один краше другого. И храпят богатырски… Ну ничего, завтра запоете по-другому, с вас спесь быстро собьют…
Любка тихо положила деньги и ручку во внутренний карман светлого пиджака Ивана и на цыпочках вышла из комнаты. Слава богу, вроде бы никого не потревожила…
Вернулась к себе в комнату и юркнула в постель.
Ей показалось, что Наташа не спит, слишком уж тихо лежит на диване. Не спит, и ладно… Завтра все узнают… Главное, не заснуть, не проспать… А то потом ищи-свищи, хитрющие эти Фомичевы…
Так проворочалась Люба в тревожной полудреме всю ночь. Но не проспала своего времени. Было начало восьмого, когда она тихо выбралась из постели, оделась и выскользнула на улицу – звонить из дома сочла опасным. К счастью, в кармане плаща оказался жетончик. Она набрала домашний номер следователя Николаева.
Глава 3
– Вы что, офонарели, что ли? – орал Иван, продирая заспанные глазки. В маленькой комнате стоял густой запах перегара из трех ртов Фомичевых. – За что? Чо я сделал?
– Вставайте, Фомичев. Вы подозреваетесь в убийстве вашего брата Фомичева Николая, – тихо произнес следователь Николаев, человек лет сорока, высокий, сутулый, с усталыми серыми глазами.
– Я? Своего брата? Братана? Коляку? – вытаращил глаза Иван. – Вам чо, делать нечего, что ли?
– Молчи, сволочь! – не выдержала Люба. – А деньги у тебя откуда? А ручка у тебя откуда? Вот, обыщите его пиджак, товарищ следователь! Здесь! Здесь!
– Позвольте, – сказал Николаев, осуждающе глядя на Любу. – Вот ордер на ваш арест, гражданин Фомичев.
Он взял пиджак, сунул руку во внутренний карман и вытащил оттуда пачку денег и ручку с непристойным изображением.
– То-то сволочь! Даже припрятать не постеснялся, думал, тебе все так с рук сойдет. Еще тысячу мне выделил на бедность мою, на похороны брата, падла такая! Давайте мне эти деньги, товарищ следователь.
Это Колькины деньги, все наши накопления, кроме тех, что он на книжку положил, для этой вот суки старой.
– Ты чего, Любовь? Белены объелась? – тихо и строго произнесла Пелагея Васильевна, привставая на кровати в белой ночной рубашке. Было неприятно смотреть на ее матово-бледное, изрезанное глубокими морщинами лицо. Из-под густых бровей злобно смотрели черные глаза.
– Ты, старая, на меня так не зырь! – рассвирепела Любка. – Наплодила убийц, бандюг! Еще хает все, падла, то ей не так, другое не так! У вас зато все так! Приперся сынок твой утром, убил другого сынка, муженька моего, и деньги все забрал, которые он потом и кровью зарабатывал И пялится еще!
– Это доказать надо, – сквозь зубы проговорила старуха.
– Чего доказывать? – Люба повернулась к Ивану. – Откуда у тебя деньги? Откуда у тебя ручка? А что ты вчера Вере Александровне шептал на кухне? Грозил, чтобы не говорила, что ты был тут утром в тот день? Отвечай, паскуда!
Потерянный и сразу побледневший Иван безвольно сидел на кровати, глядя в сторону С удивлением пялился на него брат Григорий, лежавший на матраце на полу.
– Одевайтесь, Фомичев Давайте, давайте, не задерживайте, – устало проговорил Николаев.
Иван встал, натянул брюки, потом рубашку.
– Не убивал я его, Люба, ей-богу, не убивал, – наконец пробормотал он.
– А кто же мог, кроме тебя? – закричала Люба. – Да убил-то ведь из-за денег, не из-за чего-нибудь! Ох, гад…
Позвонили в дверь, и вскоре в комнату вошел инспектор Гусев.
– Вот, Константин Иванович, глядите, мы с вами на Трыкина грешили, а убийца-то вот он – родной брат, сын вот этой старой ведьмы…
При этих словах Люба ткнула пальцем в грудь стоявшего столбом Ивана.
– Любовь Михайловна – главный следователь по этому делу, – пошутил Гусев. – Она дает уже вторую весьма обоснованную версию.
– Вы, Константин Иванович, так не шутите, – нахмурилась Люба. – У меня мужа убили, понимаете вы, мужа! И никто этим делом не хочет заниматься.
Никто ничего не проверяет Вы почему соседку Веру Александровну не вызываете? Она бы вам сказала, что видела в тот день здесь этого изверга. Вот и приходится самой… Идите, спросите ее, она дома – Спросим, когда надо будет, – сказал Гусев.
– А когда надо? Если бы я ночью в карман не сунулась к этому бандиту, они бы укатили сегодня же втроем в свою Сызрань и хрен бы вы их оттуда вытащили. Покатили бы по холодку денежки наши кровные прожирать, это дело нехитрое при таких аппетитах, на них никаких денег не напасешься, жрут, как будто сто лет не ели, оглоеды! Для вашей утробы, что ли, Колька всю жизнь за прилавком стоял? Вяжите его, гада! Пусть все убираются отсюда! – заплакала Люба.
– Ладно, одевайтесь, Фомичев, – сказал Николаев. – Пора нам. А ты, Костя, сходи к соседке все же, она у нас на сегодня на двенадцать часов повесткой вызвана, но мы можем и здесь поговорить Гусев подошел к двери Веры Александровны, постучал, дернул за ручку, но было заперто. И ни звука за дверью.
– Ушла, наверное, в магазин, – предположил Гусев, заходя в комнату.
– Никуда не ушла! Боится просто открывать. Запугали они ее, эти гости дорогие, вот и не открывает.
Вы стучите сильнее, Константин Иванович, – посоветовала Люба.
Стучать, однако, Гусев больше не стал. Два молчаливых дюжих милиционера увели Ивана Фомичева.
– Мы вас вызовем, Любовь Михайловна, – пообещал Гусев.
– Вы его там как следует, Константин Иванович, не церемоньтесь с ним!
Когда представители органов покинули квартиру, воцарилось гробовое молчание. Никто не знал, что сказать. Нарушила молчание вошедшая Наташа. Она была одета, причесана.
– Я пошла на работу, мама, – сказала она тихо, не обращая внимания на сидящую на ее кровати растрепанную старуху, сжавшую пудовые кулачищи, и балдеющего на матраце на полу похмельного Григория. – И так опаздываю.
– Ты хоть позавтракала, Наташа? – крикнула ей вдогонку Люба.
– Я не хочу есть. Кофе попила.
Люба вышла в соседнюю комнату. Там шустро собирался в школу Толик, жуя бутерброд с колбасой.
– Давай, давай скорее! – торопила его мать. – С этими делами занятия совсем забросил И так-то двойка на двойке. На вот тебе еще бутерброд. Там смолотишь. Иди, иди…
Толик выскочил за дверь, и Люба осталась наедине с мамашей и Григорием Фомичевым.
Фомичевы медленно одевались. Накрывать им на стол Люба не стала, села, выпила чаю, поела вчерашний салат, взяла кусочек селедки. Вошли Фомичевы.
Старуха Пелагея Васильевна уселась за стол напротив Любы. Григорий пошел умываться. Старуха буравила глазами Любу.
– Чего пялишься? – спросила Люба, не отрываясь от тарелки.
Старуха молчала.
– Не ты ли и подговорила своего сыночка? – не выдержала напряжения Люба. – Деньжат сильно захотелось?
Старуха опять ничего не ответила. Встала с места, подошла к Любе и отвесила ей сильную оплеуху. От этого мощного удара Люба вместе со стулом полетела на пол со страшным грохотом.
– Ах ты, старая блядь! – завопила Люба. – Да ты сейчас вместе с сыночком в тюрьму уедешь, падла! Ну погоди!
Она никак не могла подняться на ноги. На шум прибежал Григорий.
– Вы что? Вы что, мамаша, обалдели? – Он подбежал к матери. Та стояла со сжатыми пудовыми кулачищами.
– Я ее еще не так охерачу! Задавлю! – орала старуха.
– Все, все. Собирайтесь, мамаша! Собирайтесь!
Нам ехать надо. Домой поедем, в Сызрань, – суетился Григорий. – От греха подальше. А то все здесь поляжем, в столице этой окаянной.
– Куда я поеду?! Сыночка загребли ни за что, а мы домой поедем? Ни в жисть!
– Здесь останешься, старая ведьма, в камере! – Люба наконец вскочила на ноги и ринулась к телефону. Григорий схватил ее за руки.
– Погоди, Люб, погоди, не спеши. Чего со старухой связываться. Она из ума выжила, не бери в голову!
Ну извини…
– Напугались?! – злорадствовал а Люба. – То-то…
Вообще, катитесь отсюда к ебене матери оба. И хрен с вами. Никуда я звонить не буду, валандаться с вами неохота. Собирайтесь живо и валите отсюда, хоть в Сызрань, хоть в ночлежку. Здесь вам не гостиница «Метрополь». Деньги у вас есть, не подохнете, а и подохнете – не велика потеря.
– Накормить-то на дорожку не помешало бы, – сказал маявшийся похмельем Григорий.
– На вот, выпей рюмаху, заешь селедкой с хлебушком и провожай свою мамашу… Долго с вами нельзя. Грабите, бьете, убиваете, опасные вы.
Григорий налил себе рюмку водки, выпил, поел селедочки с хлебом, потом налил вторую рюмку. Мамаша мрачно взирала на его трапезу.
– Стыда в тебе нет, Григорий, – промолвила она. – Не западло тебе жрать в этом доме?
– Тихо, тихо, мамаша, – бурчал Григорий. – Лучше садитесь сами, пожрите на дорожку, веселей станет.
Мамаша покобенилась малость, а потом все же присела к столу.
– Это все Коленька наш заработал, что здесь мы кушаем, – утешила она себя вслух. – Ихнее бы сроду жрать не стала. – При этих словах она тяпнула водки и закусила колбасой.
– Это, между прочим, моя мать дала из денег, что себе на похороны откладывала, – возразила Любка. – А то, что Колька заработал, в кабинете у следователя как вещественное доказательство да у вас в кармане, с его сберкнижки снятое. Так что жрите, мамаша, да помалкивайте.
Та поела, отрыгнула и встала.
– Куска вашего больше не съем. Пошли, Григорий!
Григорий за это время ополовинил бутылку водки и наелся всласть.
– Пошли, пошли. Спасибо, Любаха, тебе за угощение. Счастливо оставаться.
– Идите, идите, скатертью дорожка, – провожала Люба, почесывая ушибленную старухой челюсть. – Да не приходите больше, на порог не пущу.
– Это еще поглядим, как дело обернется, – улыбнулся Григорий. – Щас оно так, а потом, глядишь, и иначе… Смеется тот, как говорится, кто…
Дослушивать Любка не стала, захлопнула за гостями дверь. Прошла в комнату. Села на диван и несколько минут сидела молча. Потом подошла к столу и налила себе рюмку водки. Выпила залпом. Стало как-то легче.
Но потом опять накатилась беспросветная тоска. Никакой точки опоры. Средств к существованию нет.
Только долг матери да разве что те деньги" что у следователя, а их еще надо получить…
Сколько она так просидела, сказать не могла. Очнулась от забытья, почувствовав чей-то взгляд. Она подняла голову и увидела на пороге комнаты маленькую Веру Александровну, с каким-то странным выражением смотрящую на нее. В этом взгляде был и испуг, и сильное желание что-то рассказать, чем-то мучительным поделиться. Она вся словно тянулась к Любе.
Волосы были растрепаны, лицо белое-белое, как у покойницы. Любе стало не по себе.
– Так вы дома, оказывается. Вера Александровна? – спросила она.
– Да, да, – пробормотала соседка. – Я дома, дома.
– А к вам стучали, вы не открыли. К вам Гусев стучал, Константин Иванович, инспектор.
– Да, да, стучал, не открыла, – бормотала Вера Александровна, очевидно, страшно волнуясь.
– Вас на сегодня следователь вызывал? – спросила Люба.
– Да, да, на сегодня, на двенадцать часов. Я должна кое-что вам рассказать. Люба, но не знаю, как начать…
– Да вы не волнуйтесь так, Вера Александровна.
Что вы так волнуетесь? Мы все знаем. Я все вчера слышала. Этот бандит вам вчера угрожал на кухне, я слышала. Он угрожал вам, чтобы вы не говорили никому, что видели его здесь в тот день. Я вам по секрету скажу, я-то ночью его пиджак обыскала. И знаете, что я там нашла? Наши деньги, Колькой накопленные.
И ручка шариковая Колькина, неприличная, я знаю эту ручку. Так-то вот, Вера Александровна, такие дела.
Родной брат приехал и Кольку нашего из-за денег убил, ножом пырнул прямо в сердце. Вот такая нынче у людей мораль. Вера Александровна. Я-то знаю, вы Кольку не очень любили, а все-таки жалко, кормилец ведь, Толик мой сиротой будет расти, и мне работенку найти в наше время тоже трудно, согласитесь.
– Да, да, конечно, – бормотала Вера Александровна, продолжая стоять с вытаращенными глазами. – Значит, это брат его убил, вы говорите?
– А как же? А кто же еще? Деньги у него, ручка Колькина у него, доказательства налицо, с поличным почти что взяли. Там щас экспертизу сделают для полного доказательства, и все – суд. Жалко вот только, не расстреляют подлеца. Дадут лет десять, не больше.
Да и то ничего, десять лет – не десять дней, там ему мало не покажется, будет знать, как убивать и грабить.
Думал, так ему с рук сойдет, ручку даже не побрезговал взять, жмот окаянный. А я денег просила, он же мне из них тысячу выделил на бедность мою, на Колькины похороны, это из моих же денег. Вера Александровна.
– Да, да, – опять, словно сомнамбула, пробормотала Вера Александровна.
– Да вы сядьте же, наконец. Выпейте вот чайку.
Чего волнуетесь так? Говорю вам, забрали его, в камере он. А этих гостей я выгнала, сами небось все слышали, раз дома были. А если сунутся вас запугивать, сразу звоните в милицию, я вам телефон Константина Ивановича Гусева дам и следователя Николаева, домашний и рабочий. И вот еще телефон участкового нашего Алексея Алексеевича Царева, он добрый, он сразу придет, если что… Пейте, пейте чай, блинок вот съешьте, как положено, раз вчера не пришли, за помин души Николая.
Вера Александровна откусила крохотный кусочек холодного блина и сразу же подавилась. Запила большим глотком чая.
– Ну так что? Во сколько он пришел? Чего слышали? Рассказывайте.
– Он-то? Да почти сразу после вашего ухода. Люба.
Позвонил, я открыла. Потом он долго стучал в вашу комнату, дверь-то заперта была, а Николай, видно, заснул после вашего ухода. Он выходил еще в туалет, а потом дверь запер и, видно, заснул. Так что брату его долго пришлось стучать. Минут с пять в дверь долбил и руками, и ногами. Но потом тот все же проснулся, открыл.
– Ну, и дальше что? – спросила Люба.








