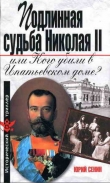Текст книги "Распни Его"
Автор книги: Сергей Позднышев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Страна была поражена. Вспыхнул взрыв негодования. Подлое, отвратительное преступление было заклеймено всенародным проклятием. Как будто прозрели очи и увидели русские люди в крови растерзанного царя ту бездну, куда влекла Россию революция. Предатели затаились и ушли в глубокое подполье.
Царствование Императора Александра III, продолжавшееся тринадцать лет, прошло спокойно. Царь, ломавший подковы, Царь, спокойно относившийся к политическим убеждениям «насвистанных скворцов», Царь-великан во всех отношениях, конечно, сломал бы всякую попытку к мятежу, беспорядкам и волнениям, если бы это угрожало спокойствию государства. «Насвистанные скворцы» это отлично понимали. Царь был так прост и величав, что даже у этой беспардонной братии вызвал чувство невольного преклонения перед силой. Революционное движение, не находя отклика в массах, быстро замерло.
Оно вспыхнуло снова, когда на престол России взошел молодой Император Николай Александрович. Дворянство, общественные круги, представители науки, торговли и земские люди решили поднять старый вопрос о конституции. А вслед за ними заволновалось и зашевелилось революционное подполье. Духовный маразм начал овладевать русским обществом. На сцену жизни поднимались люди с опустошенными, выхолощенными душами, для которых не было ничего святого. Периодическая пресса вела ожесточенную пропаганду, подрывая государственные устои.
Прошло двадцать два года с того дня, как Государь возложил на себя бармы Мономаха. Душа в душу прожил он в эти годы с «милой Аликс». Это была редкая любовь. Они создали идеальную семью, какая когда-либо была на свете. Но счастье обмануло их золотые мечты. Никому, вероятно, не пришлось пережить столько горя и страданий, как пережили они.
…Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты…
Последняя поездка в Ставку
22 февраля 1917 года, около трех с половиною часов дня, на Александровском вокзале в Царском Селе, в особом царском павильоне, собрались чины свиты Его Величества. Они поджидали приезда Государя, который в этот день уезжал в Ставку.
Тут был престарелый граф Фредерикс, министр императорского Двора, дворцовый комендант генерал Воейков, адмирал Нилов, командир конвоя граф Граббе, князь Долгоруков, начальник военно-походной канцелярии генерал Нарышкин, флигель-адъютант полковник Мордвинов и лейб-хирург профессор Федоров.
Это было ближайшее окружение Государя. Многие сопровождали его во всех поездках. Каждый из них видел его почти ежедневно, соприкасался с ним в той или иной степени, в зависимости от исполняемой должности: одни больше, другие меньше. Каждый из них множество раз слышал разговоры Государя, его смех, видел его очаровательную, влекущую улыбку, видел его ласковым, веселым или грустным, озабоченным и сумрачным. Общество приписывало этим господам большое влияние на Императора и на дела государственные. При этом, конечно, судили, рядили, злословили и сплетничали.
Граф Владимир Борисович Фредерикс сидел отдельно от других; он недавно плотно позавтракал, и его клонило ко сну; он то закрывал глаза, то силился их открыть и смотрел уставшим, мутным взглядом. Он был стар, как Мафусаил. Это был красивый старик с породистой барской внешностью. У него был прямой, стройный стан, благообразное и благородное лицо с пушистыми, холеными белыми усами и белой, коротко подстриженной бородкой. Только глаза потеряли свой блеск, вылиняли, выцвели и потускнели.
Фредерикс от старости все забывал, путал и не всегда все понимал. Бывали случаи, когда, обращаясь к Государю, он серьезно спрашивал: «А ты будешь сегодня на высочайшем обеде?»… Или говорил кому-либо из обращавшихся к нему с просьбой: «Поговорите об этом деле с министром императорского двора». Про старика ходило много забавных анекдотов. Он служил пищей для петербургских салонов. К былям прибавляли еще больше небылиц. Впрочем, о старике говорили всегда благожелательно, с юмором, но и с почтением.
Фредерикса давно нужно было уволить на покой. Но Государь ценил его за прошлые заслуги, за службу трем императорам, за преданность и верность. Желание Фредерикса служит Царю и Отечеству до последнего издыхания, до могилы, – было в глазах Государя символом высокой патриотической идеи и отражением тех красивых, благородных чувств, которые одушевляли некогда исчезнувшее рыцарство. Любила старика и Царица Александра Феодоровна: нередко она писала супругу: «Присматривай за милым Фредериксом; он стал совсем как ребенок»…
Неподалеку от Фредерикса и тоже отдельно сидел его зять Владимир Николаевич Воейков. Это был плотный, плечистый, мускулистый, подтянутый молодой генерал, с лицом сухим, неулыбающимся, со взглядом твердым, жестким и холодным. Сослуживцы не любили его за неприятный характер. Он был неразговорчив, сух и резок. Его считали человеком честолюбивым, самовлюбленным и с большим самомнением.
Молва сделала Воейкова личностью одиозной и ненавистной. Ему приписывали особенно отрицательное влияние на Государя. Его считали алкоголиком, который вместе с Ниловым спаивал Николая II. Милюков утверждал, что это делается для того, чтобы «держать слабого, пьяного Царя в своих руках». Проверить правду было очень легко. Но правда в борьбе с Царем была не нужна. Для этой цели было другое оружие – испытанное и неотразимое: клевета. «Что можно ожидать от такого Царя, которого окружает вечно пьяная компания», – вздыхали сокрушенно радетели отечественной свободы. «Что можно ожидать от министров, пришедших к власти через распутинскую квартиру»?.. Государь пил очень мало; Воейков никогда не прикасался к спиртным напиткам. Это был типичный карьерист, образцово несший свою службу. Никакой интимной близости с Государем у него не было, и никогда Государь не спрашивал у него советов.
В стороне, в другом конце зала, отдельной группой, сидели Нилов, Граббе, Мордвинов, Долгоруков и Федоров. Кирилл Анатольевич Нарышкин стоял у окна, задумчиво смотрел на белую снежную даль и барабанил пальцами, выбивая различные мотивы. День был солнечный, сухой, небо – синяя чаша, без туч, ветра не было, вдали над лесом стоял прозрачный молочно-серый туман. Зимний пейзаж Царского Села в снежном, белом наряде был прекрасен и очарователен.
– Вы что нахохлились? – спросил Нилов, упитанный, как телец для заклания, с двойным подбородком, с полным брюшком, добродушно-веселый и неунывающий. – В чем дело? – обратился он к флигель-адъютанту Мордвинову. – Я не люблю, батенька, людей с тяжелой думой на челе, угрюмых, сумрачных, унылых. От мрачных мыслей никогда не бывает ничего путного. Вы же не собираетесь совершить преступление? Надеюсь также, что вы не готовитесь стать доктором философии и, вероятно, меньше всего у вас есть желание отправиться в обители райские, где вас еще не ожидают.
– Ваше превосходительство, Константин Дмитриевич, вам хорошо; у вас благодатный характер; вам даже моря не страшно, – вы моряк, – оно вам, кажется, всегда по колено. К сожалению, я воспринимаю жизнь иначе, чем вы, и чаще впадаю в дурное настроение. Вчера я получил известие, что вся моя усадьба, со всем имуществом сгорела. Для меня это разорение; я человек не богатый. Кроме того, я уезжаю на этот раз с тяжелым, гнетущим чувством. Мне кажется, что в наше отсутствие здесь, в Петербурге, произойдет что-то ужасное… Все говорят о неизбежной революции…
– Ну вот, поздравляю. Еще один начал пророчествовать, – сказал Нилов. – Любопытно послушать, что скажет флигель-адъютант Его Величества. Прорцы нам, чадо!..
– Константин Дмитриевич, вы все изволите шутить. Вы как будто сознательно не хотите видеть грозящей России опасности и всем нам с ней вместе. Может быть, это очень красиво и мужественно – бравировать опасностью, сидеть на пороховом погребе, ожидать взрыва и посмеиваться. Но я не думаю, чтобы это было очень благоразумно. Вы надеетесь, что взрыва никогда не будет, но даже и в этом случае не мешает быть осторожным…
Мордвинов вынул золотой портсигар и нервно закурил. Что он нервничал – было сразу заметно: по резкости движений, по дрожанию рук и по выражению озабоченного, сумрачного лица.
– Я убежден, что кто-то сеет смуту в народе, кто-то готовит революцию, используя продовольственные затруднение и царящие в обществе настроения. После Нового года начали распространяться слухи о том, что столица скоро останется без продовольствия и хлеба. Неужели вы не видите, что все объяты психозом, все ждут революции, как манны небесной. Она освободит их от чего-то, она принесет им что-то… Людей тянет к пропасти. Хоть гирше, да инше… Сплетни, провокация и клевета разливаются грязными потоками. Этим сплетням верят не только внизу, но и наверху.
– И вы раскисли оттого, что люди сплетничают, – насмешливо произнес Нилов. – Батенька мой, вы как невинный младенец, который всему удивляется. Сплетни всегда были и будут. От начала и до скончания века. Общество будет всегда судачить друг друга. Сплетня – это один из основных элементов легкого разговора. Сплетня – это соль, без нее разговор будет пресным… Вы как Чацкий – человек с опасными уклонами…
Нилов открыл рот и остановился. Какая-то новая мысль осенила пьяно-возбужденную голову. Добродушное, бритое, «актерское» лицо приняло постепенно суровое выражение, а в уголках толстых губ продолжала змеиться веселая улыбка. Наконец он как будто что-то вспомнил и вдруг начал декламировать:
…Куда меня закинула судьба?
Все гонят, все клянут; мучителей толпа,
В любви – предателей, в вражде неутомимых,
Рассказчиков неукротимых,
Нескладных умников, лукавых простяков,
Старух зловещих, стариков,
Дряхлеющих над выдумками, вздором…
– Откуда это, милый друг? Из «Горя от ума». Наше отеческое, родное, стародавнее. Всегда так было. Может ли наше общество обойтись без этого легкого, приятного вина?.. Вы только послушайте и не перебивайте:
А наши старички. Как их возьмет задор,
Засудят о делах, что слово: приговор.
Ведь столбовые все: в ус никому не дуют
И о правительстве иной раз так толкуют,
Что если б кто подслушал их… беда.
Не то, чтоб новизны вводили, – никогда,
Спаси нас Боже. Нет. А придерутся
К тому, к сему, а чаще ни к чему,
Поспорят, пошумят и… разойдутся.
– Хороший талант зря погибает, – проворчал сумрачный Мордвинов. – Только, увы, я не Чацкий и вы не Фамусов и живем мы совсем в другое время… Мы живем в подлое время…
– Да, столица полна слухами, – присоединился к разговору Граббе. – По пословице: «На чужой роток не накинешь платок». Молва бежит повсюду, как ручьи текут. Сейчас, например, все говорят, что Протопопов дал Распутину пятьдесят тысяч, чтобы стать министром. А вчера слышал из достоверных уст, что великая княгиня Мария Павловна, уезжая на Кавказ, сказала: «В Петербург я вернусь только тогда, когда здесь все будет покончено»… Никому не секрет, как надо эти слова понимать…
– Откуда известно, что Протопопов дал Гришке деньги? – спросил Нилов. – Кажется, такие вещи делаются обычно келейно? Доверять такому слуху опасно, а делать из него те выводы, которые сделал Милюков, просто недостойно порядочного человека, претендующего на роль демократа, учителя и моралиста.
– Протопопов, конечно, скрыл факт передачи денег, а пьяный Распутин взял да все и выболтал, – догадливо, иронически заметил Граббе, улыбаясь в пушистые, холеные усы.
– Может быть, выболтал, не знаю. А может быть, всю историю со взяткой придумали задним числом, после смерти старца. Но вот результаты сплетен мне хорошо известны, – опять сказал Мордвинов. – Недавно я посетил моего родственника, генерала Зыкова. У него был убит единственный сын. Я поехал, чтобы выразить старику соболезнование. Он сразу же заговорил о слухах и буквально начал кричать, не сдерживая себя: «Что это такое? Какой позор!.. Распутин ставит министров. Вот до чего дошли! Развратный, пьяный мужик правит государством. Какой срам! Разве это можно терпеть?.. Стоит ли после этого умирать на войне?..» Сплетня, господа, сделала свое подлое дело. Почтенный человек, убежденный монархист, заслуженный ученый поддался на удочку…
– Да-с, дела и делишки, что и говорить, – протянул Граббе. – Как не попасться на удочку, когда так много приманки. Взять хотя бы убийство Гришки. Ведь не ради же молодечества и не по пьяному делу стрелял Великий князь Димитрий в Распутина? Было, значит, за что! Знал, что делал.
– Ha днях я посетил моих хороших знакомых, – продолжал Мордвинов. – Было много гостей. Разговор шел, конечно, на милую тему о последних слухах. Говорили о том, что измена свила гнездо во дворце, что там подготовляют сепаратный мир с Германией, что с этой целью в Петербург приезжал брат Государыни, герцог Дармштадтский, что делами государства правит мистический кружок, что царица неверная жена, замыслившая устранить Государя и, подобно Екатерине II, сесть на престол, и так далее.
Я заявил со всей доступной резкостью, что все это гнусная ложь и что подобные разговоры недостойны для общества. На это мне снисходительно, мягко и укорительно, с видимым сожалением о моей слепоте, сказали: «Конечно, ваше положение обязывает вас так говорить. Мы вас понимаем и за резкость не сердимся, но ведь вы сами отлично знаете, что это правда. Смешно было бы, право, не знать того, что знают все»…
Мордвинов безнадежно махнул рукой, показывая жестом, что все идет к черту. Он, нервничая, выбросил затухшую папиросу, двумя пальцами провел вдоль шеи, под воротником, как будто освобождал себя от удушья. Вид у него был расстроенный – он действительно скорбел и негодовал. Вынул новую папиросу и опять закурил, сильно затягиваясь.
– Русское общество с ума сошло. Эта игра в революцию кончится очень плачевно…
– Не каркайте, Анатолий Александрович, и не судите, да не судимы будете. Те, кто не согласны с некоторыми порядками, конечно, не менее нас с вами патриоты, – заметил опять с улыбкой Граббе. – Всякое следствие имеет свои причины и резоны. Может быть, потому и осуждают, что болеют душой. Надо стать на их точку зрения и тогда станут понятными их чувства. Общество было шокировано приближением Распутина к трону. Оно восприняло это как национальный позор. Общество восстает против участия Государыни в делах управления империей, считая это ненормальным. Родзянко на последнем докладе не постеснялся заявить об этом Государю. Он ему сказал о недопустимости, чтобы министры делали государственные доклады кому-либо иному, кроме него, Государя. Это не по-русски. Недопустимо, чтобы на судьбы империи влияли какие-то темные, таинственные и безответственные личности. По словам Родзянко, Государь был сильно взволнован докладом; он схватился руками за голову и воскликнул: «Неужели я двадцать два года старался, чтобы все было лучше, и двадцать два года ошибался?» На это Родзянко заметил: «Ошибались, Ваше Величество!»
– Ох уж этот Родзянко, – вздохнул Федоров. – Он ведет странную политику. Его имя определенно связывают с революционным движением. Ему внушили, что взоры общества обращены к нему, что только он, по своему положению председателя Думы, может вывести заблудившуюся, усталую Россию на светлую стезю победы и спасения. На его честолюбии играют. Он не очень умный человек. Фимиам лести вскружил ему голову. Роль национального вождя в трудную историческую годину ему очень нравится. Он мыслит неглубоко и упрощенно: надо устранить Царицу и учредить ответственное перед Государственной думой правительство; после этого тотчас же настанет тишь, гладь и божья благодать.
– Одним словом, не мешайте мне, хочу быть спасителем; хочу быть Мининым и Пожарским сразу…
На круглом лице Нилова просияла довольная, блаженная улыбочка. Продолжая говорить, он спросил:
– Да он не Рюрикович ли, чего доброго? Может быть, ему нравятся бармы Мономаха? Чем не царь всея Руси! И имя подходящее: Михаил Владимирович… и голос отменный: бас отличный… Только вот, господа, мое мнение. Не дай нам бог дожить до революции. Это будет совсем не то, о чем мечтают наши общественники. Мы все будем висеть на фонарях: правые и виноватые; и зубры беловежские и бараны, которые идут ныне впереди двуногого стада, и в упоении говорят речи, и с гордостью почитают себя вождями общественного движения…
Добродушное лицо Нилова перестало улыбаться; оно приобрело новые, суровые черты, как будто это был другой человек; карие глаза уже не смеялись, смотрели строго и холодно:
– По поводу сказанного милейшим графом я замечу: Государыня Императрица Александра Феодоровна есть одна из выдающихся женщин. Ее ум, выдержку, характер, волю признают за ней даже враги. Потому так и ожесточены против нее. Не вижу ничего зазорного и дурного в том, если какой-нибудь министр спросит у нее совета о делах государственных… Говорят и сплетничают много; замочки бы следовало повесить на сахарные уста. Много людей заблуждающихся, безвольных, растерявшихся, а еще больше лукавых рабов, неверных «верноподданных»… А в общем, скажите, Анатолий Александрович, мы сейчас сплетничали или нет?
Мордвинов не ответил; может быть, не нашелся сразу, что сказать. Граббе, кажется, был недоволен, что ввязался в разговор. Долгоруков не проронил ни слова, хотя внимательно слушал. Федоров ответил за всех:
– Константин Дмитриевич, в качестве резюме я вам вот что скажу. Анатолий Александрович, несомненно, прав. Время действительно тревожное и подлое. На это закрывать глаза нельзя. Тревожное потому, что в умы вошла навязчивая, нелепая мысль о неизбежности каких-то событий. Это вроде заразы. А подлое потому, что оно действительно подлое, нездоровое, аморальное. Люди нравственно опустились, размельчали, сбросили с себя моральные шоры. Говорю главным образом о столице. Как в провинции – не знаю. Царит у нас вакханалия, содомский грех, погоня за развратом, за чувственными, животными наслаждениями и за деньгами. В судах – громкие процессы. Печать изощряется в поношении и в поругании режима. Не слышно почти голосов благородных, возвышенных, национально достойных. Государственная дума – это здание, где митингуют различные господа и говорят зажигательные речи; Милюков сказал, что Дума – это «как бы аккумулятор общественного недовольства и рупор общественных настроений»…
– Господа, прибыл Государь, – громко сказал стоявший все время у окна Нарышкин.
Синий императорский «роллс-ройс» остановился у царского павильона. Свита быстро выстроилась для встречи…
* * *
Государь вошел под руку с Императрицей. На нем была походная шинель светло-серого солдатского сукна с красными петлицами и с георгиевской розеткой по борту. На голове мягкая офицерская фуражка с кокардой. Сильно постаревшее, исхудалое лицо было в частых глубоких морщинах. Оно было землистого, серого цвета, с большими темными кругами под глазами, с синевато-пепельными, сухими губами. Лучистые синие глаза смотрели спокойно, но что-то неуловимое, затаенное, грустное было и в глазах, и в осунувшейся, постаревшей фигуре.
Не менее сильно изменилась также и Царица. Время, болезни и горе рукой беспощадной превратили когда-то молодую, свежую, стройную красавицу в отяжелевшую, полную женщину, на лице которой застыла маска печали, страданий и скорби. Уже давно она болела сердцем, отеком ног; нервы ее были издерганы до последней степени, но она крепилась и боролась. Государыня оставила дома больных детей, чтобы проводить супруга. Она лучше, чем кто-либо, понимала его душевное состояние. Она безошибочно научилась угадывать малейшее движение его чувств. Она знала, что его благородное, чистое, жертвенное сердце изранено, что самые заветные желания не осуществились, что светлые надежды разбиты, что он жестоко страдает, чувствуя кругом враждебную атмосферу. Она знала, что за счастье русского народа он боролся одиноко, скрывая от всех непосильный гнет креста. Всей силой души, ума и сердца она стремилась, как разумела, как могла, облегчить крестную ношу Государя. Она билась сама в тенетах клеветы, вражды и ненависти, не замечая, что ее борьба вызывает удесятеренную злобу и противодействие врагов. «Она губит Россию», «она ведет монархию к самоубийству», – кричали они. Царица стремилась поддержать нравственные силы мужа; она не могла молчать, не могла оставаться безучастной и спокойной, когда он страдал. Она помогала ему выправить руль корабля, идущего в бурю против тяжелых, мутных волн.
Прощаясь с ним в роковые часы, она говорила ему последние слова, как напутствие. Она убеждала его быть твердым; она уверяла его, что все переменится внутри, когда Россия одержит победу:
«– Замолкнут тогда все эти гадкие, мерзкие Родзянки, Гучковы и Милюковы. Россия пойдет гигантскими шагами к светлому будущему. Надо только напрячь все усилия для победы… Они ненавидят меня, потому что я стою за твое дело, за Беби, за Россию… Я более русская, чем они, попрекающие меня немкой. Я борюсь за разумный порядок, за труд, за полезную для государства инициативу; я восстаю против праздности, лени, роскоши, разврата и прожигание жизни. Они не отнимут у меня права быть русской. Мои дети воспитаны русскими, моя душа слилась с Россией неразрывно»…
Государыня не знала компромиссов ни со своей совестью, ни со своими убеждениями. Прямолинейно, настойчиво отстаивала она то, что, по ее мнению, было хорошо, полезно и нужно. Она принадлежала к разряду людей негнущихся, не умеющих лукавить, льстить, разводить дипломатию. Она жила обособленной, замкнутой жизнью; это отчуждало от нее приближенных и увеличивало количество недовольных. Она не умела и не хотела уметь нравиться. Государственные дела она понимала не хуже любого министра. Ее беспокоили война, снабжение, транспорт и продовольственные затруднения в столице. Она говорила мужу:
– Все делается не так, как нужно, – отстает, опаздывает. Ничто не делается быстро, умело и решительно. Почему Германия, окруженная со всех сторон врагами, стиснутая блокадой, до сих пор справляется с трудностями войны? Только потому, что там есть порядок, нравственная дисциплина, сознание долга, обязанностей и чувство ответственности. Там весь народ, от первого до последнего, стремится к единой цели – победе. Там не митингуют, там борются, там жизнь и смерть каждого поставлены на карту. А у нас – все пустые слова и ради пустых слов, мы в богатейшей стране кричим о голоде…
Государыня волновалась; лицо ее горело красными пятнами, в глазах были мольба, любовь и страдание. Она спешила все высказать, что наболело на душе, что она, вероятно, говорила уже много раз и к чему возвращалась постоянно:
– У нас все газеты захвачены евреями. Даже «Новое время» подкуплено Гучковым и Рубинштейном. Сзади, за занавесом, скрывается таинственный дирижер, управляющий силами революции. Под его палочку пляшет Государственная дума и ведется отвратительная подлая пропаганда против тебя, меня и правительства. Надо бороться с ними тем же оружием. Надо иметь свои газеты, которые бы обезвреживали зловредные влияния. Надо показать им силу, хлопнуть кулаком по столу, надо лишить людей, сеющих смуту, возможности продолжать злое, преступное, антигосударственное дело. К сожалению, у наших министров нет ни умения, ни дерзания, ни мужества.
Надо окружить тебя такими людьми, которые были бы бескорыстно верны тебе, которые бы честно и нелицемерно служили тебе и России, которые бы знали, что надо делать для пользы государства. Если люди на войне проливают свою кровь за Отечество и гибнут тысячами, то они вправе желать, требовать, чтобы люди в тылу помогали им в борьбе с внешним врагом. Там, на боевых полях, не митингуют, там герои, а здесь гниль и тля.
Одному Богу известно, сколько я перестрадала, когда заболевал Беби, когда все профессора и доктора были не в состоянии помочь ребенку. Только один Григорий действительным образом облегчал его болезнь. Они убили нашего друга. Они отняли у меня, матери, последний луч надежды. Они безжалостные, бессердечные люди. Всякий, кто возводил хулы на Григория и поносил его, – шел против тебя и России. Я часто говорю тебе об этом, но, Господи, как тяжко жить, как страшно на душе. Меня пугает его предсказание. Неужели впереди бездна… Просыпаясь, я вижу этот кошмар наяву. Я цепенею вся…
Прощаясь, она целовала его глаза, его руки, как мать, как жена, как друг. Она торопилась влить в его душу пламенную веру, в его сердце – спокойствие и силу. Но еще больше волновала его. Она почти шептала последние слова:
– До свиданья, мой драгоценный, мой ненаглядный, любимый мой, солнышко мое, муженек мой, мой собственный. Верь мне, я навсегда, до смерти, твоя жена и друг. О, как страстно я хотела бы видеть твое дорогое лицо не омраченным заботами, не уставшим от трудов и тревог, не обеспокоенным, но сияющим солнечной улыбкой твоих чудных глаз, как тогда, когда начиналась наша любовь.
Бог возложил на тебя тяжелое бремя, но Он подаст тебе мудрость и силу и вознаградит за кротость и терпение. Наступит, наконец, хорошее время, когда ты и наша страна будет вознаграждена за все сердечные муки, за всю пролитую кровь. Все, кто были взяты из жизни, горят, как свечи перед Престолом Всевышнего. И там, где бьются за правое дело, там будет окончательная победа…
Прощай, мой дорогой. Ты для меня все самое ценное и святое в жизни. Я так хотела бы быть тебе полезной, облегчить твою ношу, утешить тебя, когда ты страдаешь, отдать тебе все мои силы, всю мою любовь и всю мою кровь до последней капли. Но мы все врозь и врозь… Я одна, чужая всем, и ты там один…
Усилием нечеловеческой воли Царица удержала себя, чтобы не расплакаться. Перекрестила его, снова поцеловала в глаза, в губы и, придерживаясь руками за стены, медленно вышла из вагона. Это была трепещущая белая чайка, смертельно раненная, бьющаяся о полую, мутную воду подбитыми крыльями, стараясь преодолеть слабость, боль и последнее томление…
* * *
Веселые годы, счастливые дни —
Как вешние воды промчались они…
Поезд тронулся. Государь остался один. Через окно он увидел прощальную улыбку жены, а потом на глазах ее навернулись крупные слезы, заполнили орбиты. Царица что-то хотела сказать, но затряслись губы, и так она осталась стоять недвижная, одинокая.
Рано спустились зимние сумерки. Надвинулась темная звездная ночь. Долго, не замечая времени, ходил по кабинету взволнованный Император. Временами останавливался, отодвигал шелковую штору, смотрел на небо, мерцающее светом звезд, на тускло-лиловые, белые, унылые пространства, на запорошенные снегом леса, темные балки, черные одинокие строения и глухие, без огней, села. И все думал и думал о страшном положении, которое отняло у него покой, отравило ядом душу и сердце и из которого он тщетно искал выход. Неустанно в голове проносились мысли, возвращались назад, кружились, как черные птицы кружатся на закате дня в жестокую зимнюю пору. Утомленный Государь опустился в кресло, склонил голову на руку, и прошла перед ним трагическая история его царствования.
Вот в солнечном, золотисто-голубом тумане встала перед ним Ливадия: старый дворец, заросший плющом, роскошные осенние цветы, пальмы, кипарисы, сосны, синее небо и безбрежный простор моря, который так часто зачаровывал его взоры, волновал и завораживал душу.
В верхнем этаже, в спальне, умирал отец. Это была тяжелая, мучительная пора. Первый большой удар, который поразил его. Смерть отца в возрасте сорока восьми лет была нежданной. Царствование пришло внезапно. Слишком рано. Он не был к нему подготовлен: не было опыта для управления огромной империей, не было житейской практики, навыка, деловой твердости в обращении с людьми, умения ставить важные государственные вопросы в имперском масштабе. Надо было много и многому учиться, а это не могло прийти сразу.
Он был молод, едва только вышел из юношеского возраста, а приходилось говорить с людьми, убеленными сединами, с членами Государственного совета, с высшими государственными сановниками, наконец, с дядями, перед которыми он робел или смущался. Надо было выслушивать доклады, ставить резолюции, давать указания и принимать ответственные решения. Это его смущало, как смущало бы каждого честного и порядочного человека. Он внутренне сжимался, боялся показаться смешным, незнающим и непонимающим, глубже уходил в себя, поначалу должен был подчиняться влияниям дядей, старых советников отца, и часто действовать по чужой указке.
Все это не способствовало развитию в характере тех властных, твердых черт, какие были у отца. Душевно мягкий от природы, он не мог победить свою неуверенность, застенчивость и свою деликатность в отношении к людям. Эти свойства характера были для него источником длительных нравственных страданий.
Он не любил громких, пышных, торжественных фраз, публичных выступлений, помпезной обстановки, а жизнь поставила его перед необходимостью быть постоянно на виду, говорить речи, принимать делегации, участвовать в торжественных шествиях, подчиняться слепо установленному этикету.
В нем постоянно жило два человека. Один, который переживал огромное нравственное напряжение перед всякими публичными выступлениями, когда мозг его как бы цепенел, мысли разлетались и им овладевало непобедимое, подавляющее чувство застенчивости. И другой человек, который в домашней, частной обстановке личным обаянием, живостью ума, красотою и образностью речи очаровывал и обвораживал своих собеседников.
Враги и сплетники считали его «недалеким, безвольным, слабохарактерным, тряпичным и жалким»… Они не знали его, не понимали его и не стремились узнать и понять. Злорадствуя, насмехаясь и зубоскаля, они не видели или не хотели видеть его напряженной, неустанной, неизменной устремленности ко благу и счастью русского народа, к величию и процветанию России.
Да, он был мягкий, добрый, застенчивый и скромный Царь. Он не был грубым, кровожадным деспотом («Кровавый Николай»), каким его обычно выставляли революционеры. Он не был способен выводить крамолу верхов, как Иоанн Грозный, и не умел заставить богатых, знатных бездельников работать, как это делал Петр со своей дубинкой. Он был мельче их по натуре. Никто никогда не видел его в состоянии бешенства, запальчивости, гнева, как это часто бывало с Иваном Васильевичем и с Петром Алексеевичем. Его самообладание граничило иногда с наружным безразличием. Особая щепетильность говорила ему: «Помазанник Божий не может показывать своих чувств, как обыкновенный человек». Болезненная деликатность лишала его мужества высказывать свое неудовольствие прямо в глаза. Он расставался с не удовлетворившими его министрами очень ласково, не говоря им об этом. Часто после обворожительного приема злополучный сановник, возвратясь домой, находил рескрипт об отставке, написанный в самых теплых тонах. Это своеобразное поведение Царя давало повод огорченным министрам говорить о царском двуличии. И это все он знал.