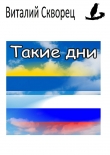Текст книги "Два автомата (Рассказы)"
Автор книги: Сергей Антонов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)

ЗНАКОМЫЙ
Военный пришел, видимо, издалека. И сапоги его и даже брови были густо покрыты пылью. «Неужели он узнает меня?» – подумала Тоня. Но военный спросил: «В какой избе живет Елена Васильевна?» и пошел дальше. «Не узнал ведь… – с облегчением подумала Тоня, глядя ему вслед. – Не узнал… Вот и хорошо».
Деревня еще спала. На вершинах высоких берез уже начиналось утро, но земля была по-ночному сырая и студеная, и на поле, в низинах покачивались длинные, словно расчесанные гребнем, ленты тумана.
Военный перешагнул через спящего на крыльце черного пса и скрылся в сенях.
– Ну и ладно, что не узнал! – вслух повторила Тоня, и ей снова вспомнилось то, что случилось более трех лет тому назад в деревне, оккупированной фашистами.
К фашистам она попала в начале войны, когда гостила у тетки в Минске. Вместе с другими жителями ее погнали в деревню Островки. Там, в сенном сарае, она и прятала этого военного, раненного в ногу. Когда она дотащила его до сарая, он уже не шевелился, и только часы тикали на его руке. Ей подумалось даже, что он умер. Она заботливо уложила его, укутала сеном и сама села возле изголовья.
Согревшись, он начал говорить. Сначала он сказал: «Вася, мундштук бренчит». Но это он бредил. По-настоящему он стал говорить, когда рассвело. Открыв глаза, он сказал: «Пить!» Она сразу подала ему чашку, и он стал глотать воду так, что в горле его защелкало.
Тоня принесла кислого молока. «Ого, простокваша!» – сказал он и съел целую кринку. Видно, он любил простоквашу.
Потом он сказал: «У тебя холодные пальцы», и велел положить руку ему на лоб.
Потом он спросил: «Как тебя звать?» – «А на что вам?» – ответила Тоня. – «Как на что? Хочу познакомиться». – «Это не обязательно», – сказала Тоня. – «Ишь ты, какая дикая!»
Она долго сидела, положив руку ему на лоб и прислушиваясь, не ходят ли за гумном враги. Вечером ему стало легче. Он сказал: «Извини, что я тебе доставил столько хлопот», и Тоня помнит, как слезы выступили у нее на глазах от этих слов. Ведь если разобраться, он для всех, кто теперь под фашистами, старается, для нее старается, жизнь свою не бережет, может быть, без ноги будет, а вот говорит: «Извини».
– Чего уж… – ответила Тоня и стала придумывать, что бы такое сказать ему получше, и придумала, но он уже заснул и ничего не слышал, когда она говорила.
Она наклонилась, тихонько коснулась губами его лба, на который налипли кусочки сена, и пошла в избу.
Утром ее выследил хозяин – староста, у которого она жила. Как только она вошла в горницу, он спросил мрачно: «Ты где блудишь?» Она начала говорить что-то несуразное, но он оборвал ее: «Нескладно врешь! Комендант спросит – поскладней что-нибудь придумай…» Он походил из угла в угол, пожевал бороду. «На-ка вот, – сказал он, наконец. – Снеси в сарай. Если понемногу пить – помогает…» – И подал ей бутылку коньяка.
На другой день у раненого снова разболелась нога – до того сильно, что он выдирал вокруг себя пучки сена и мял их в кулаке. Но все-таки он поел и уснул.
Было совсем тихо. Часы уже не тикали на его руке, остановились, и сиреневый ночной свет цедился через маленькое окошко, и на дворе с крыши мягко падали в снег капли.
Тоня поцеловала его в щетинистую щеку. Он подул, скривив губы, словно сгоняя муху. Она затаила дыхание. Но он спал. Тогда она снова украдкой, по-воровски, поцеловала его в лицо.
Она целовала пожилого незнакомого ей человека и говорила ему разные глупые слова, а длинный сиреневый луч колдовал на ее руке, и ветер наполнял сарай крепким мартовским лесным духом.
Вдруг раненый открыл глаза.
– Я все слышу, – сказал он. – И вчера слышал…
Она отскочила, сильно ударившись затылком о балку, но совсем не чувствуя боли. Ей стало так совестно, что даже теперь, когда она вспоминает это, жарко делается ее щекам.
На следующее утро к старосте пришли два фашиста – один низенький, другой высокий и красивый. Они осмотрели горницу, слазили на чердак, потом вышли во двор и отправились к сараю. Тоня, еще не одетая, выбежала на крыльцо, хотела броситься в сарай, но староста схватил ее за плечо.
– Обожди, – сказал он. – Еще не твой черед на перекладине болтаться.
Высокий немец отворил дверь сарая и стал стрелять в сено. Потом оба врага скрылись внутри. Они долго ходили там и, ничего не сказав, ушли.
Как только за ними захлопнулась калитка, Тоня бросилась в сарай.
Там никого не было.
Раненый ушел, уполз на одной ноге к своим…
Вспоминая все это, Тоня увидела, что военный вышел из избы и снова направился к ней.
– Вы не туда показали, – сказал он. – Там две какие-то женщины спят, и больше нет никого.
– Как не туда? Туда. Ступайте, я сведу.
Тоня сбежала с крыльца и торопливо пошла вдоль палисадника. Они вошли в избу.
– Тетя Дуня! – позвала Тоня.
– А я! – ответили из-за полога.
– К вам!
По ситцевому пологу пошли волны. Натянув платье, с кровати соскочила Женя, и хотя она не совсем еще очнулась от сна, – цыганские с искрой глаза ее уже искали случая над чем-нибудь посмеяться. За ней вышла ее мать, тетя Дуня, сухая и стройная.
– Елена Васильевна здесь живет? – спросил военный.
– Здесь, – ответила тетя Дуня.
– А где она?
– В город уехала. Хлебные карточки получать. Завтра вернется. А вы кто ей будете? Не муж ли?
– Муж. С Лялей уехала?
– С Лялей.
Военный подошел к перегородке. За перегородкой виднелась прибранная по-городскому кровать Елены Васильевны и зеркальце, около которого сидели две маленькие куколки.
«Вот ведь как, Елена Васильевна, значит, жена его, – радостно подумала Тоня, – приедет завтра, сразу скажу ей, как его тащила…»
Тоня дружила с эвакуированной из Ленинграда Еленой Васильевной, слушала рассказы о большом городе, приходила спрашивать, как решить трудную задачку, и часто пыталась отблагодарить эту грустную, задумчивую женщину за ее заботы, да все как-то не могла придумать, чем отблагодарить…
– Вот приедет, я и скажу ей, – повторила Тоня и вдруг спохватилась: – Хотя, нет! Я-то, дура, целовала его.
Он, конечно, не разберется, что это я делала от нежности к воину нашему… к человеку, который страдал за нас. Вот смеяться-то будет, если вспомнит меня… Скажет: «Влюбилась, дурочка». Нет, ничего нельзя говорить Елене Васильевне.
Она хотела уйти и не могла, а так и сидела в углу и следила за военным. Он взял в руки куколку, вздохнул.
– Почти пять лет не видел… – сказал он глухо, – и теперь не довелось повидаться. Завтра рано утром – ехать. Выросла, наверное, Ляля?
– Во второй класс перешла, – ответила тетя Дуня. – Шустрая такая. Вы мешок положите, Леонид… нс знаю, как по отчеству. Ни разу вас Лена по отчеству не называла.
– Семенович, – сказал военный.
В избе набралось много народа. Все прослышали о приезде военного и зашли расспросить, не видел ли он их родни на фронте.
– Вы не приставайте к нему сейчас, бабы, – строго сказала тетя Дуня, когда военный пошел умываться. – Тоскует он… Отдохнет, тогда спросите.
– А как же, спросим, спросим! – пробубнила глуховатая Степанида.
– Ты, бабка, сиди да помалкивай, – закричала тетя Дуня, и все наперебой начали растолковывать бабке, что надо сидеть и молчать и ни о чем с военным не разговаривать.
Когда Леонид вернулся, тетя Дуня позвала его завтракать.
Он сел к столу, начал есть горячую картошку без соли, без хлеба.
– Вот соль, Леонид… Опять забыла, как по батюшке… – сказала тетя Дуня.
Он ел, а гости тихо говорили между собой.
Грохнув дверью, вошел грузный Федот Иванович и громко сказал:
– Приятно кушать.
На него сердито посмотрели.
Оглядевшись, как бы чего не своротить, он плотно уселся на скамью и на всю избу высморкался.
– Шумлив ты больно, – недовольно сказала тетя Дуня: – Шел бы на свое дело.
– Мое дело на неделю вперед исполнено, – ответил Федот Иванович. – А вы чего застыли, ровно вас на карточку снимают?
Не обращая на Федота Ивановича внимания, Леонид сидел, склонившись над тарелкой.
«А может быть, это другой, похожий только?» – подумала Тоня и сказала Жене на ухо:
– Ты ему кислого молока подай. Если у вас нет, сбегай к нам, на окне стоит.
Внезапно на дворе посветлело. В комнату через окно ударил граненый луч, и блестящие мухи стали летать вдоль луча – греться.
Женя принесла кринку.
– Ого, простокваша! – сказал Леонид.
«Он!» – чуть не вскрикнула Тоня.
Она долго смотрела, как старший лейтенант морщит лоб, поднося к губам ложку, и даже сама приоткрывала рот перед каждым его глотком.
– Чего ты его передразниваешь? – спросила Женя.
– Вот еще… Выдумала… – Тоня смутилась. – Ты не оставляй, Женька, его одного. Скучать будет. Ты его, как на косьбу пойдем, позови с нами.
– Ишь ты! Тебе, я вижу, на него полный день глядеть надо, а я – зови! Сама позови!
– Нет. Я боюсь.
– Эх ты! Бука!
– Погоди, начальник, чего я сейчас покажу, – сказал Федот Иванович, подмигивая сам себе.
Завалившись на бок, он полез в брючный карман и вынул крест на грязной муаровой ленте.
– Гляди-ка, какая штука. Георгиевский кавалер. Император Николай второй пожаловали. Сейчас ее цеплять можно?
– Почему же нельзя? При царях тоже герои были, – сказал Леонид.
– Вот и я говорю…
– Ну, будет тебе, Федот! – прервала его тетя Дуня. – Солнышко-то вон где! Пошли, бабы!
Женщины стали подниматься одна за другой, зашумели. Тоня толкнула Женю локтем.
– Крепко ты о нем тревожишься! – Женя усмехнулась и, подойдя к Леониду, сказала:
– Товарищ старший лейтенант, пойдемте с нами. У нас там веселей на поле. Хотите, мы и подушку захватим.
– Зачем подушку? Пойдемте, – ответил Леонид, – поработаю.
– А вы и косить можете! Я думала, вы только стрелять умеете.
Вслед за женщинами они вышли из деревни.
Повсюду, куда хватал глаз, виднелись луга и пашни. Густые, как сметана, облака неподвижно висели ярусами над горизонтом. Пахло земляникой.
На пологом, уже надкошенном откосе ближнего холма бархатно синела кошевина. Женщины в белых, желтых, красных платках вразнобой размахивали косами и, наверное, оттого, что над ними висели огромные крутые облака, казались маленькими, как куколки на столике Елены Васильевны.
Поодаль, в дырявой тени кустарника, сидела бабка Степанида, окруженная узелками, корзинками и малыми ребятами. Там же на боку лежал черный пес Жучок.
Вытянув ноги с шишковатыми, исцарапанными, как камни, ступнями, бабка сгоняла комаров с ребенка в чепчике, сидящего у нее на коленях.
– А-а-а!.. – тянул маленький, подаваясь вперед.
– Да… Это солдатик, светлая душа, пришел нашим бабам пособить… А это Женька-насмешница…
Леонид с Женей, а за ними и Тоня подошли к кустарнику. Жучок поглядел на Леонида, потом на бабку, глазами спрашивая, надо ли лаять. Но бабка спокойно разговаривала с малышом, и Жучок всласть потянулся, зевнул, широко разинул пасть, и язык его завернулся крючком.
Леонид снял скользкие от росы сапоги с приставшими к голенищам лепестками куриной слепоты, скинул китель.
– Только, коли взялся косить, чтобы норму выполнить– тридцать пять соток, не менее, – сказала Женя, – а то на черную доску тебя вывесим. Смотри. Ославим на весь район.
– Не бойся, – ответил Леонид, – не менее твоего намахаю…
– Гляди, какой горячий! Хочешь на обгонки? Давай перекашиваться!
– Давай. Попробую, – безразлично сказал Леонид.
– Только, гляди, подрядья не оставлять! Давай побьемся… Я бусы поставлю, а ты… Ну, вот, хоть часы…
– Часы, так часы, – сказал Леонид.
Тоня слушала, поправляя косу и грустно улыбаясь. Вот как случается: вспоминала о нем чуть не каждый день, военным в лица заглядывала, а теперь, когда он рядом, приходится прятаться от него. И перед ним совестно, и перед Еленой Васильевной, которая Тоне, сироте, стала вроде матери, тоже совестно. А Женька сегодня утром в первый раз человека увидела и уже спорит и пересмеивается, да болтает с ним, как будто век знакомая.
Женя побежала на луг. Старший лейтенант, не привыкший ходить босиком, пошел за ней, поеживаясь, словно ступая в холодную воду. Тоня видела, как Женя начала ряд, а старший лейтенант смотрел на нее, примеривался. Женя косила ловко, чуть боком переступая перед каждым замахом, и, казалось, косовище само водит ее блестящие бронзовые руки.
Она прошла уже шагов десять, а старший лейтенант все еще стоял, наблюдая за ней. Она оглянулась, что-то крикнула и пошла дальше, и складка на ее блузке равномерно качалась то слева направо, то справа налево, и все новые и новые полукруглые полосы травы валились под ноги, былинка к былинке, словно уложенные руками.
– А ну, держись! – сказал старший лейтенант и, поплевав на ладони, начал свой ряд.
Женя взвизгнула и пошла быстрей.
Тоня тоже принялась косить, стараясь не обращать внимания на идущих впереди. Но это не удавалось: то и дело она посматривала на старшего лейтенанта.
«А не хромает нисколько, – словно гордясь перед кем-то, думала Тоня, – срослась нога…»
Она вспомнила, как нашла его в лесу, раненого, и несла ночью в деревню. Он был тяжелый, с противогазом и винтовкой, очень тяжелый. Она тащила его на спине по лесу, а он цеплялся перебитой ногой за кусты и стонал. Было страшно. Рядом могли быть враги. А снег в эту ночь скрипел оглушительно, как неразношенные сапоги. Когда до деревни оставалось меньше километра, он стал ругаться.
– Тише, тише, что ты! – шептала Тоня. – Молчи, а то брошу.
А он все ругался – громко, отрывисто, нескладно… Каким-то чудом никого не встретив, она дотащила его до сарая, а потом сидела, прикладывая к его лбу то одну, то другую руку…
Старший лейтенант почти догнал Женю и крикнул:
– Шевелись быстрей! По пяткам полосну!
«Позабылся», – радостно подумала Тоня, но, спохватившись, что люди могут заметить ее радость, решила вовсе не смотреть вперед и принялась косить.
Она шла, упрямо глядя на отрывисто свистящее лезвие, мокрое от травяного сока и белого молока одуванчиков, и только тогда подняла глаза, когда Женя с потным, красиво-усталым лицом, проходя мимо, крикнула:
– Гляди, Тонька, нам покосу оставь! Полдничать!
Со всего поля тянулись к кустарнику колхозницы.
Рядом с бабкой уже сидела тетя Дуня и резала круглый каравай, прижав его к животу. Жучок поумневшими глазами смотрел на хлеб.
– Женька! – позвала тетя Дуня.
Дочь ее сняла ломоть с каравая.
– Военный!
Леонид тоже снял с каравая толстый, в два пальца, мягкий, в дырочках ломоть.
Женщины одна за другой усаживались в тени. Увидев матерей, ребятишки закапризничали. Откуда-то налетели мухи. Стало шумно. Все наперебой стали предлагать Леониду еду. Тетя Дуня почти насильно сунула ему в руки кружку.
– На-ка вот, отведай-ка, – говорила она, торопливо снимая платок с кринки. – У меня оно сладенькое.
И боясь, что кто-нибудь раньше ее нальет Леониду молока, нагнула кринку, и в кружку потянулась широкая белая струя со складкой посередине.
Леонид лежал, опершись локтем о землю. Женя подстелила ему платок и села рядом, играя березовым прутом. Он ел, макая в молоко хлеб, а Тоня смотрела, как чуть заметно двигаются его уши.
– Гроза с самого, почитай, утра грозится, да все не идет, – сказала тетя Дуня, поглядев на небо. – Вишь ты, сушь какая стоит.
Вдруг она вскочила и, опрокинув кринку, закричала:
– Змея-я!
Прежде чем Тоня сообразила, что надо делать, Женя перекатилась на бок, хлестнула прутом и, вытянувшись, схватила что-то левой рукой.
– Пусти, уязвит! – кричала тетя Дуня. – Не трогай, тебе говорят!
– Пускать нельзя, – сказала старая Степанида, – кому она путь перейдет, тому беда будет…
Женя встала, сжимая пальцами шею гадюки. Хлестнув серым, похожим на кнутовище телом, змея в два круга обвила Женину руку и застыла, мелко шевеля остреньким хвостиком.
Любопытная Маша поднесла к змеиной морде травинку. Гадюка смотрела в упор злющими глазами и сквозь закрытый рот выбрасывала черный, рогатинкой, язык.
– Ой, ты, окаянная! Да души ты ее! – сердилась тетя Дуня.
– Убивай, убивай, матушка, – твердила бабка Степанида. – Кто гадюку убьет, тому сорок грехов простится.
– Да у меня и нет столько, – улыбалась Женя. – Ну, чьи грехи на свою душу принимать? Твои, Федот Иванович?
– Куда там мои… На мои грехи удава не хватит… Лучше у молодых грехи сыми.
– Тогда у Тоньки. Сколько, Тонька, грехов?
– У меня их и вовсе нет, – ответила Тоня.
– Ну да, нету. На чужих мужиков заглядываешься, – это тебе не грех?
– А на кого она заглядывается? – спросил кто-то.
– Мы знаем, на кого! – и Женя косой отхватила гадюке голову.
Тоня почувствовала, что краснеет, и отвернулась. Но на ее счастье разговор этот оставили.
– Молодчина ты! – сказал Леонид Жене.
– А чего молодчина, – они на жаре разомлевают, еле ползают. Хватай за шею и все…
– Она у нас на всю деревню сорви-голова, – сказал Федот Иванович. – Прошлым летом сама немца привела. Да еще парашют, слышь, заставила его тащить. Да на работе она два раза нас обойдет да наперед всех запятую поставит.
– Это я и сам вижу. Плачут мои часы.
– Ты себе подсобницу возьми, – задорила Женя. – Вон Тоську возьми. Я вас обоих перекошу.
– Вы согласны? – обернулся Леонид к Тоне.
Она вся похолодела под его взглядом и смогла только переспросить: «Я?»
– Не бери ее, начальник! – крикнул Федот Иванович. – Гляди, я покажу, как она до обеда косила.
Он вскочил, нарочно неловко махнул два раза косой, потом уперся в косовище и застыл, глядя вперед так же, как Тоня смотрела вслед старшему лейтенанту, и состроил такую печальную гримасу, что все захохотали. Постояв так с минуту, он снова сделал два неловких взмаха и опять остановился, прислонившись к косовищу, словно убитый тяжелым горем. Он не замечал, что из-за пояса его торчала исподняя рубашка, и от этого было еще смешней.
– Вот как она сегодня косит! – сказал Федот Иванович, довольный тем, что развеселил народ.
– Полно тебе насмехаться попусту, – заметила ему тетя Дуня, – не хуже других Тоня работает. Это сегодня она чего-то не в себе.
Тоня упала на траву лицом, и ее плечи стали дергаться.
– Ты что? – спросила тетя Дуня.
Федот Иванович подошел к ней и смущенно сказал:
– Слышь, девка, за шутку не серчай, в обиду не вдавайся.
– Не лезь ты к ней, – позвала его тетя Дуня. – Она сама лучше успокоится. Пошли, бабы!
Колхозники отправились на луг.
У кустарника, на травке, замусоренной яичной скорлупой и клочками бумажек, осталась бабка с ребятами, лежащая в отдалении Тоня да пес, вываливший сухой язык.
– Ты уйди оттуда, касатка, – сказала бабка, – там змей лежит, как бы не было чего. Иди, здесь доплакивай. Змей хоть и без головы, а пока солнышко не зайдет, – живой.
– Чего они смеются около меня, бабушка? – Тоня поднялась. – Никогда не смеялись, а как свежий человек появился, так и начали насмехаться. Чего они меня перед ним позорят?
– А ты поплачь, поплачь, касатка. Иди сюда да поплачь. Это хорошо… – говорила бабка тихонько и ласково, и Тоня знала, что ничего-то она не слышит и не понимает. Но ей так захотелось рассказать о старшем лейтенанте, что она стала вспоминать вслух все по порядку.
– Я, бабушка, попалась оккупантам в Островках, – говорила Тоня. – Раз в марте месяце пошла я под вечер в лесок собрать хворосту. Вот пошла я за хворостом, а наши, слышно, уже близко стреляют. Собираю я хворост – слышу: кусты шумят. Напугалась я тогда страшно. Легла в снег, не шелыхаюсь. Лежу, а слышу – за кустами кто-то таится. Полежала я, полежала, надо, думаю, домой ползти, подальше от беды. И вдруг кто-то на меня сверху – хлоп, рот рукой зажал. А от руки махоркой пахнет. Перевернул он меня, белую хламиду с головы снял, и вижу: каска зеленая: «Батюшки, думаю, свой, стриженый!» А была я тогда оборванная, грязная. Это не потому, что нечего было надеть, кое-что у меня схоронено было, да так мы, все девки, извозившись, ходили, чтобы фашисты меньше приставали.
Вот стоит наш солдатик, глаза выпучивши, после еще двое подходят, и один из двух – вот этот, старший лейтенант. Подошли, подняли его на смех: «Хорошего, говорят, „языка“ поймал».

А этот оправдывается: «Больно ловко, говорит, ползет». Они посмеялись еще, дали хлебушка русского, поспрошали, где тут немцы стоят и собрались идти.
Тень уже далеко уползла от того места, где сидела Тоня, а бабка держала на руках малыша и задумчиво глядела на поле, вспоминая, как и она, бывало, косила на этих холмах.
– Ну, так вот, – продолжала Тоня, – собрались они идти, а я за ними. «Ты куда?» – спрашивает этот старший лейтенант. – «С вами пойду». – «Как с нами?» – «А так. Нет, говорю, мочи больше терпеть». Тогда этот старший лейтенант подошел ко мне и начал объяснять, что с ними нельзя, что они – разведчики, что это по уставу не положено, что скоро Красная Армия всех нас освободит. Я все дослушала, а как они пошли, – опять за ними. Тут ихний самый длинный велит мне домой идти. А я уперлась, и все тут. Тогда наставляет он на меня автомат, пугает. Я сказала: «Убейте меня тут, а обратно я не пойду».
Ну, поговорили они между собой, видят, делать больше нечего, велели идти. Идем лесом. Надо дорогу переходить. Старший лейтенант меня подозвал. «Выйди, – говорит, – на дорогу, погляди, нет ли там фрица».
Я вышла. Вижу, вдали один стоит около столба, а другой, рыжий, сидит на мостике, ноги свесивши. А на откосе мотоциклет лежит с желтым номером. Немцы меня тоже увидели, велели подойти. Спросили, что я тут делаю. Я показала: хворост, мол, собираю. Они поговорили по-немецки, потом тот, который возле мотоциклетки стоял, показал пальцами по рукаву, дескать, скоро побегут русские. А я пальцами по своей руке показала – ваши, мол, побегут. Он замотал башкой, но ничего, пустил.
А второй сел на мотоциклетку и уехал. Я думала, что и этот, рыжий, уйдет, – нашим иначе через дорогу не пройти, – а он все сидит на мостике, ноги свесивши.
Я пошла к разведчикам, велела им пока схорониться. А старший лейтенант усмехнулся, и я только дивилась, как складно у них все выходило. Длинный подлез тихонько под мостик, двое по ту сторону дороги за сугробами легли. Длинный подлез под мостик, да как дернет рыжего за обе ноги. Тот и крикнуть не успел, только руками махнул да свалился. Увязали его под мостиком, как посылку, чтобы не убег, да и собрались дальше впятером идти. Только собрались идти – едет обратно мотоциклетка. А за мотоциклеткой машина, а в машине ихние солдаты. Остановил враг свою мотоциклетку у моста, оглядывается, рыжего ищет. Машина тоже остановилась. И получилось так: трое наших с рыжим по ту сторону насыпи, а я – по эту. Лежу, слежу: фашисты в животы автоматы уперли – ходят. Найдут, думаю, наших. И решилась я на себя навлечь врагов. Побежала в лес, зашумела. Кинулись они за мной. Стреляют. Догнали. Схватили меня, вывели на дорогу, а наши как начали стрелять, прямо беда. Я кричу им: «Уходите, милые, не бойтесь, ничего мне не будет!» А они не слушают. Забегали фашисты. Шофер в канаву забился. Меня бросили. Я – в лес. Сперва немцы с автоматов стреляли. Потом гранату кинули. Видать, дело у наших плохо. Потом вижу – идет рыжий, хромает, на одной ноге у него веревка болтается, идет, руками размахивает, объясняет что-то. Понесли своих убитых. Потом несут одного нашего, – видно, мертвый. Потом второго. Думаю: сейчас третьего понесут, а тут наша артиллерия стрелять начала. Сели в машину, да на полный ход! Дождалась я, когда все утихло, перебегла дорогу. В лесу светло – луна светит. Сладко порохом пахнет. Кровь снег проела. Ходила я, ходила – нет никого. Остановилась. Прислушалась. Слышно – стонет. Пошла на стон – вижу, лежит этот старший лейтенант и от ног у него пар идет. Вот, я, бабушка, его и понесла.
Бабка сидела, все так же покачиваясь, твердила что-то тихим, одной ей слышным, голосом, а ветер перебирал ее желтоватые редкие волосы. Младенец подавался вперед, пускал пузыри и тянул свое: «А-а-а!»
А Тоня рассказала, как прятала старшего лейтенанта, рассказала все без утайки.
– Я его сразу признала, бабушка, сразу, как он в деревню вошел. Слышишь, бабушка?
– Кто?
– Да он, старший лейтенант.
Над полем полосами пролетел ветер, пригибая траву и перекрашивая ее в пепельный цвет. Облака потемнели и толпой тронулись за холмы.
«Не поняла она, – думала Тоня, – а может быть, и поняла, да сказать ничего не хочет. А в деревне разболтает».
И, рассердившись, Тоня подсела совсем близко к бабке и с каким-то отчаянием стала кричать ей в ухо все снова, от начала до конца. Ей показалось, что бабка усмехается. Но бабка не усмехалась – просто морщилась оттого, что щекотно было ее уху.
– Ну, так и что же, касатка, – сказала бабка, дослушав и совсем не удивляясь, как будто такие истории рассказывали ей каждый день. – За чем дело стало? Поди, признайся. Порадуй его.
– Так я же целовала его, бабушка. А он женатый, невесть что может подумать!
– Ты его от смерти спасла. Сама не понимаешь своего геройства. А целовала от чистого сердца. Над сердешными людьми только дураки смеются. Ступай, не бойся!
Тоня взглянула на бабушку и сама удивилась тому, что боялась сказать старшему лейтенанту, кто она такая. Она собралась было побежать к нему сейчас же, но подумав, решила дождаться вечера, когда Женя уйдет доить корову, а тетя Дуня – в правление, и он останется в избе один.
Наточив косу, она пошла на свой ряд и спокойно работала до тех пор, пока не подошла тетя Дуня замерять.
Оказалось, что старший лейтенант и Женя накосили поровну. Замер, конечно, был неверный – Женя наработала раза в полтора больше. Но тетя Дуня, видно, нарочно кусок Жениной полосы записала старшему лейтенанту, чтобы часы при нем остались, и Женя не спорила.
Тоня сорвала ряску пахучего белого цвета купыря, утерла им шею и руки, чтобы отбить запах пота, и пошла домой.
Наскоро поужинав, она переоделась в праздничное платье и выбежала во двор. Было душно. Пахло акацией. Воздух стал темным, все изменило цвет – как бывает, когда смотришь сквозь темное стеклышко. Стали темными и песчаная дорога, рябая от копыт прошедшего стада, и лопухи с большими листьями, мягкими, как телячьи уши, и дальние березы.
В окнах крайней избы виднелся слабый свет, спокойный и ласковый. За закуткой молочные струи мерно пилили железо, и, кроме звона молока о ведро, ничего не было слышно.
Тоня ступила в сени. «Я скажу: „Вы возле Островков служили?“» – повторяла она заученные слова. Он скажет: «Служил». – «А меня признаете?» – «Не признаю». – «А кто вас из леса, раненого, тащил – позабыли?» – «Нет, – скажет, – не позабыл». – «Так вот, я она и есть». Что скажет на это старший лейтенант – Тоня не могла придумать. Она постучала.
– Войдите, – сказали из комнаты.
Она отворила дверь. Старший лейтенант сидел за столом и что-то писал.
– Кто это? – спросил он, отклоняя голову от лампы, и у Тони снова захватило дух.
– Я, – сказала она, пугаясь того, что разговор начался совсем не по-заученному.
– Кто это «я»? – спросил старший лейтенант.
– Соседка ваша.
Наступило молчание. И вдруг, неожиданно для себя, Тоня сказала:
– Вы кислого молока хотите?
Он ничего не ответил, упорно продолжая рассматривать ее.
«Как бы убежать отсюда, – совсем растерявшись, думала Тоня. – Нет, убежать плохо. Подумает, дурочка какая. Нет, надо говорить. Скажу, а там пускай, как хочет».
Она уже открыла рот, но снаружи зашуршало, видно, кто-то отыскивал скобу. Дверь отворилась, и в горницу вошел Федот Иванович.
– Это кто тут? – спросил он. – А, Тонька! – и, осмотревшись, как бы чего-нибудь не своротить, подошел к столу.
– Ты, слышь, не сердись на меня, начальник, что я тут полный день возле тебя зубы скалил, – начал он непривычно серьезным голосом. – Позабыл я, что тебе не до шуток. Выбило из памяти…
– Я не сержусь, Федот Иванович. Что ты…
– А не сердишься, так ладно. Я вот, слышь, баньку стопил. Может, сходишь, попаришься? Веники я на это дело припас свеженькие.
«Вот принесло его! – досадливо подумала Тоня. – Сейчас бы я сказала все».
– Баня? – переспросил старший лейтенант. – Вот спасибо, Федот Иванович. Сейчас же иду. Обязательно.
Он сбросил китель, достал из вещевого мешка мыло и полотенце, и они вышли.
– Видно не судьба мне с ним говорить, – вздохнула Тоня. – Ладно, завтра, когда Елена Васильевна приедет, обоим им сразу и скажу. Только, наверно, не поверит Елена Васильевна. Нет. Надо сперва ему сказать. Может быть, он уже позабыл про это, и меня не узнает.
Прикрутив лампу, она вышла на крыльцо. Дождь обманул, прошел стороной. Стало прохладней. С дальних озер подул ветер, принес запахи ряски и сырого песка. Тучки растрескались, и сквозь кривые трещины просвечивало лунное небо.
– А вот скажу! – упрямо твердила она про себя, глядя на две темные фигуры. – Дождусь, когда он вымоется, и скажу. Сяду возле бани и буду караулить…
И с таким же злым упрямством, какое овладело ею, когда она тащила раненого в сарай, она сняла туфли и быстро зашагала вслед. Идти надо было в другой конец деревни, к речке. По дороге Тоню встретила любопытная подруга и стала расспрашивать, куда она идет, зачем несет туфли. Тоня не могла отвязаться от нее минут пять. Наконец она вышла к берегу. Банька Федота Ивановича, окруженная кустами орешника и чернотала, стояла в отдалении, на крутом мыске между рекой и глубоким оврагом. Узкая ступенчатая тропинка вела от низкой, в две доски, двери к речке. Белый пар сочился по всей соломенной крыше.
Старший лейтенант, видимо, уже парился. Тоня издали услышала голос Федота Ивановича:
– Теперь, слышь, я на полок полезу, а ты подбрось ковшичек.
Раздалось громкое шипенье каменки, пар над крышей закручивался.
– О-ох… хорошо… – застонал Федот Иванович. – Еще-е…
Бревна треснули. Силой пара отворилась дверь, и стало слышно, как в бане круто бурлит кипяток.
– Прикрывай! – закричал Федот Иванович испуганно. – О-ой, смерть моя! А ну еще!..
Тоня села в кустах на корягу. Минут через пять Федот Иванович выбежал голый, дымящийся, в пятнах березовых листьев, сбежал по тропинке так быстро, как будто за ним гнались, с разгону влетел в реку и, сложив крестом на груди руки, присел три раза. Потом потихоньку вернулся, прикрыл за собой дверь.
«Теперь скоро», – подумала Тоня.
Загремели шайки.
– Что это у тебя, слышь, с ногой? Раненый? – донеслось до Тони.
Она замерла.
– С этой ногой целая история, – ответил старший лейтенант.
– Вон что. А я тоже, слышь, раненый был, в японскую. Вот тут видать?
– Нет, не видно ничего.
– А тут?
– И здесь не видно.
– Ну, тогда, значит, заросло, – с сожалением сказал Федот Иванович. – Позабыл, слышь, в какое место и ударило. На мне, как на сосне, дырки заплывают. А было это вот как: лежали мы в Маньчжурии, в окопах. Был у нас подполковник Стенбок. Зверь – царство ему небесное. И была у него сучка махонькая, карманная, ровно крыса, под названием «Дезик». А солдатики, слышь, ее окрестили «Беда», потому что, если она бежит, значит, подполковник недалеко, ну и, конечно, кому-нибудь будет неприятность или в морду. Берег ее подполковник пуще жены. Кто-то ему, слышь, нагадал, что если эта сучка подохнет, – не будет ему в жизни удачи. И нам было строго-настрого приказано сучку не обижать и беречь ее всячески. Ну, ладно. Лежу я в окопе. Вижу – бежит эта «Беда». Выскочила она из окопа и пошла, слышь, прямо к японцу. «Ну, думаю, придет сейчас подполковник, будет всем нам за милую душу». Осенился я крестным знамением и пополз за ней. Зову тихонько: «Беда, Беда!» Она остановилась, на меня глядит. Хитро глядит, стерва. Подполз я к ней совсем близко, рукой достать, а она опять на аршин отбегла. Я к ней, и так и сяк. Сухарь достал. Подманиваю. А она на сухарь глядит и смеется. Что ей сухарь, – к ней повар из Питера приставлен был…