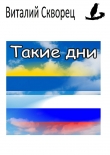Текст книги "Два автомата (Рассказы)"
Автор книги: Сергей Антонов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Машенька
Иногда Степан Иванович начинал рассказывать так, что невозможно было угадать, к чему он клонит и куда ведет. Да и сам он, наверное, не смог бы объяснить длинный ход своих мыслей: сказалось от души, а почему сказалось – кто его знает.
На этот раз Степан Иванович тоже начал издалека:
– Между прочим, принял враг на нашей земле такую моду: рубить молодой березнячок – толщиной с девичью руку – и делать из белых жердочек палисадники, беседки, скамейки, перила и разные фигурные ограды. Когда наши части пошли на запад, возле каждого ихнего штаба я видел ограды из белых жердочек. Измывались они над березками, как могли, и в дугу гнули, и на мелкие кусочки рубили.
Однажды поехал я в госпиталь. Вижу – на случайном месте, вдали от дороги, стоит белая беседка со скамейками, со шпилем – все честь честью. Вечер, кругом нет никого, а вдали пустая, никому ненужная беседка. Много на нее было загублено молодых березок. Помню, жалко мне стало эти березки до невозможности. Подошел, тронул гладкие, шелковые жердочки, а они тепленькие – словно еще живые. А на одной возле косого обруба сок застыл – как слеза. Будто плакала березка под вражеским тесаком.
Степан Иванович нахмурился, сердито кашлянул и стал сворачивать цыгарку. Потом закурил и продолжал:
– Вы крепче, ребята, держите карабины в своих руках, глядите, чтобы этого больше не было…
Ну, ладно. Приехал я в госпиталь. Рука, говорят, сильно перебита – надо ложиться. А госпиталь был сортировочный. Палатки в лесу – вот и весь госпиталь. В палатках земля была застлана брезентом, а под моей койкой росли ромашки. В общем – полевой госпиталь. В нем долго не держали – подлечат немного и переправляют в тыл, кого куда, согласно истории болезни. Вымыли там меня, выдали халат. Гляжу – маленькая сестра стелет на койку простыни. Смешная девчонка: носик маленький, курносый, губы толстые, лицо круглое и сама вся кругленькая со всех сторон. «Какой, спрашиваю, национальности – рязанская или тамбовская?» Она почему-то обиделась. «Сами вы, говорит, тамбовский. Я – из города Смоленска». Сильно она переживала из-за своей наружности. Косыночку завязывала по-особому – кокошником, брови подбривала, старалась сама себя держать солидно, но как-то не получалось это у нее.
Плюс к тому она неловкая была, суетливая. Не умела подладиться к тамошним порядкам. То пузырек с каплями разобьет, то температуру в положенное время позабудет замерить. Крепко ей доставалось от военврача второго ранга, строгого седого старика, которому она каждое утро завязывала тесемки на халате. Звали ее Мария Платоновна, а я стал называть Машенька. Хотя она и обижалась на это, но с моей легкой руки все стали ее называть Машенькой, и осталась она Машенькой, наверно, до самого конца войны. А раненые, народ капризный, как грудные ребята, – полные сутки держали ее в заботах и хлопотах. Бывало, к вечеру, выберет Машенька минутку, сядет у окошка и тихонько поет: «Ягодиночку-то учат пулемет заряживать, а меня, девчонку, учат раны перевязывать…» Бледная сидит, вовсе из сил выбилась, круги под глазами – а поет. Кто-нибудь стонет или бредит во сне, а она поет. Но мы на нее не обижались. Жалели. Знали, что никакого ягодиночки у нее нет, что родители ее остались где-то по ту сторону фронта и она в этом госпитале одинокая, как перст.
На другой день, как только заштопали мне руку, села она у меня в головах и сообщила всю свою автобиографию. Между прочим, сказала, что до меня на этой койке лежал Пехотный младший лейтенант, раненный разрывной пулей в ногу. Коля какой-то. Всю кость ему разворотило. «Совсем, говорит, молоденький, даже бриться путем не умел. На вид был худенький, говорит, слабенький, а задиристый, как петушок. Перед операцией усыпить себя не позволил. „Я, говорит, не девчонка, чтобы ваших ножичков пугаться“.» И ни разу не слыхали, чтобы он застонал или охнул. И на операции, и на перевязках – уцепится за что-нибудь руками и молчит. Боялись, что у него откроется газовая гангрена, но ничего, наш военврач отбил от него болезнь и отправил в тыл долечиваться. «Ой, какой сердитый! – ласково приговаривала Машенька, вспоминая про Колю, – ой, сердитый!» – и даже закрывала глаза. Лежу раз, вечером, обдумываю свою жизнь – слышу тихонько толкает она меня и сует под нос фотокарточку. «Кто это?» – спрашиваю. «Он», – отвечает Машенька. «Коля?» – «Да». Посмотрел, ничего особенного: обыкновенный паренек, белобрысый, стриженый, лобастый, как теленок. Но, конечно, похвалил фотокарточку. Развеселилась тут Машенька и зашептала: «Когда, говорит, он уехал, я эту карточку нашла под койкой. Наверное, отлепилась от документа, он ее и потерял». – «А может, говорю, он нарочно ее подбросил?» – «Зачем это?» – удивилась Машенька. «Чтобы оставить тебе воспоминание». – «Да что вы, – вздохнула Машенька, – на что я ему нужна, такая нескладуха».
Но все-таки она часто думала о нем. И когда военврач второго ранга получил от этого Коли длинное письмо, в конце которого младший лейтенант передавал благодарность всему медицинскому персоналу, – Машенька целый день ходила сама не своя от радости, и спрашивала: «Всему персоналу, это значит и мне, правильно, Степан Иванович?»
А на другой день кого-то из соседей угораздило брякнуть, что не вредно было бы этому Коле написать Машеньке письмо, поскольку она за ним ухаживала и по ночам не отходила от койки. Машенька сперва посмеялась на эти слова, а потом вдруг затосковала, стала задумываться и глядеть в окошко.
Надо вам сказать, что и на меня почему-то нападала тоска, когда приходила Машенька. Семья вспоминалась: жена, ребятишки. Так и тосковали мы с ней вдвоем. От тоски она и курить научилась. Бывало, скручу ей цыгарку – она сама залепит и пускает дым в окошко. Но только много ей тосковать не было времени. Дня через три после меня привезли в нашу палатку танкиста. Этот танкист был ранен в позвонки, и у него начисто отнялись ноги. Раздражительный был человек и во сне страшно скрипел зубами. Бывало, кричит Машеньке: «Что сидишь над душой! Уходи отсюда!» – она уходит, а он опять кричит: «Куда она ушла! Где она? Иди сюда! Сядь!» Боялась она его, как огня, но все-таки вела себя терпеливо – понимала, что в таком положении можно и не то крикнуть. Скоро ему стало легче, и он стал подолгу разговаривать с Машенькой и, когда разговаривал, – держал ее за руку, словно боялся, что она убежит. Однажды, когда он уснул, Машенька подошла ко мне и спросила: «Как вы думаете, Степан Иванович, правда, он немного похож на Колю?» «Немного, говорю, похож». Она подумала и спросила: «А не примет он за намек, если я ему на тумбочку букет поставлю? Как вы думаете, Степан Иванович?» Но букет поставить не успела – рано утром танкиста переправили в тыловой госпиталь. И когда его клали на носилки, Машенька стояла рядом и говорила военврачу второго ранга: «Куда же вы его… Он же больной совсем…» Но ее никто не слушал – санитары делали свое дело.
После того как увозили раненого, Машенька всегда расстраивалась и сердилась на военврача второго ранга: «Бесчувственный, – говорила она, и в глазах ее показывались слезы. – Еще совсем слабый человек, а он его отправляет в тыловой госпиталь. Небось с Героем Советского Союза возился целую неделю, а этому и трех дней не дал полежать. Разве так можно? Они все хорошие. Раз кровь на войне проливали – значит герои. Правда, Степан Иванович?» Я пробовал защищать военврача – он чудеса творил в госпитале, – но у меня ничего не получалось.
Особенно рассердилась Машенька, когда увозили от нас сержанта из какой-то артиллерийской части. Из этого сержанта вытащили девять осколков, и он ослабел до того, что не мог согнать с носа муху. Вдобавок ко всему он был контужен и оглох начисто. Из-за своей глухоты говорил медленно и тяжело – как будто шел по неверному льду и щупал ногами, куда легче ступить. И когда говорил, все время спрашивал: «Слышишь меня?» Совсем этот сержант растерялся и упал духом: «Лучше без ноги и без руки существовать, чем не слышать ничего, – говорил он Машеньке. – Кому я такой нужен? Слышишь меня? Ты скажи врачам, что я любую муку согласен вытерпеть, только бы мне слух воротили. Пусть придумают что-нибудь. Слышишь меня?» А Машенька кивала головой. Иногда она забывала про его глухоту и начинала утешать сержанта, и тогда они говорили вместе, как ненормальные.
Ночью мне что-то не спалось. Я лежал с открытыми глазами и обдумывал свою жизнь. Вижу – тихонько подходит Машенька к койке сержанта, садится на табуретку и начинает шептать ему разные слова. Он, видно, спит, а она шепчет: «Милый ты мой Коленька, ягодиночка ты мой, не тревожь ты себя, не расстраивайся. Если бы ты ампутант был или бы сепсис у тебя начался, тогда бы ладно… А ты вылечишься, и заживет все на тебе, и будешь ты, Коленька, такой, какой был и еще даже лучше…» Я глядел в окошко и слушал. Небо то светлело, то темнело от прожектора, и на душе моей, сам не знаю почему, становилось то ясно, то печально.
Утром подошла ко мне Машенька, а я и спрашиваю про сержанта: «Разве его Колей звать?» «Нет, Степаном. А что?» – и покраснела вся, как помидорка. А ночью, когда увозили сержанта в тыл, она снова стояла возле врача и упрашивала: «Ну куда вы его? Ведь он глухой совсем. Ну куда вы его?» Вышли мы с ней на дорогу его проводить. Ночь была темная. Машина скоро ушла. А прожекторный луч качался по небу то слева направо, то справа налево, и через него просвечивали звезды… А на другой день выписали меня обратно в нашу часть, поскольку товарищ Алексеенко договорился с военврачом второго ранга, и Машенька меня тоже провожала. И, кажется, плакала.
Где-то она сейчас, Машенька? Иногда я вспоминаю о ней, рожденной совсем не для войны, а для семейного покоя и счастья, а потом вспоминаю о таких же, как и она, девчатах, которые в тяжелые годы остались по ту сторону фронта. Многим из них так и не удалось дожить до победы, и как подумаю об этом – перед глазами встают порубанные тесаком молодые березки…
Степан Иванович нахмурился, свернул цыгарку и, стряхивая с брюк махорочные крошки, закончил:
– Так вот, ребята, крепче учитесь, крепче держите в руках оружие – чтобы этого больше не было.

У ШЛАГБАУМА
У печи, сделанной из железной бочки, клевал носом дневальный, изредка похлопывая себя по стеганым штанам, – не загорелись бы. Печь гудела и вздрагивала. От портянок, развешанных вдоль трубы, шел пар. На полу, головами к стенам, в шинелях и шапках спали босые солдаты. Один из них часто, с надрывом кашлял, и во время кашля рука его дергалась.
В будку вошел пожилой сержант. Из голенища у него торчали свернутые красный и желтый флажки.
– Чтой-то не летает сегодня, – сказал он, подсаживаясь на корточках к печке, тем тихим, уютным голосом, каким говорят, находясь рядом со спящими. – Видать, тоже застыл, зараза…
– Ну да, застыл, – то ли сонно, то ли печально ответил дневальный. – Ему сейчас на передовой дела хватает. Слышь, наши начали…
Издали доносился равномерный артиллерийский гул. На улице выл ветер. Дверь была завешена плащ-палаткой. Треснувшее стекло, величиной с планшетку, вставленное в прорезь забитого досками окна, тонко, по-комариному зудело. На подоконнике, над коптилкой, сделанной из консервной банки, мерцал бледный огонек.
– Да, видать, наши пошли, – сказал сержант. – С полчаса назад на двух беккерах раненых провезли… – И он замерзшими, одеревенелыми пальцами скрутил удивительно аккуратную цыгарку, потом неторопливо достал двумя пальцами рубиновый уголек, прикурил и бросил уголек обратно. Дым плотной струей потянулся в топку.
– А к передовой ни одна машина не идет, – продолжал он, – там, у шлагбаума, часа, почитай, два какой-то капитан попутную ждет. Ему во второй эшелон надо. Холодно, аж глаза мерзнут, а он в хромовских сапогах. До света теперь, кроме легковушек, я так мечтаю, ни одна не пойдет.
– Ну да, не пойдет, – сказал дневальный тем же не то сонным, не то грустным голосом, – автобату время воротиться.
Дверь отворилась.
Кто-то запутался между створкой и плащ-палаткой. Белые клубы пара покатились по полу. Спящие стали подбирать ноги. Коптилка погасла.
– Затворяй! – крикнул дневальный.
Наконец из-за плащ-палатки показался человек лет сорока, в белом полушубке и хромовых сапогах. Он выпрямился, стукнулся головой о потолок и опять ссутулился.
– Замерз основательно, – сказал он, снимая шапку, – можно погреться?
– Ну да, погреться! – протянул дневальный. – В дежурку без разрешения командира посторонним нельзя…
– Да какой же товарищ капитан посторонний? – отозвался сержант, – гляди-ка, своего не признал… Проходите, оттайте немножко.
– А где же ваш командир? – спросил капитан.
– С командиром-то с нашим – несчастье…
Осторожно ступая между босыми ногами, капитан прошел к печке и протянул руки с растопыренными пальцами. От него резко несло холодом, зимним ветром, и от этого, казалось, и сам он был резкий, холодный и, наверное, строгий.
– Значит, с Волховского, товарищ капитан? – видимо, продолжая давешний разговор, начал сержант.
– Да, к своим поближе.
– У нас, на Ленинградском, пожарче будет.
– Везде жарко! Там левую, здесь правую щеку отморозил, – улыбнулся капитан и показался совсем нестрогим, и пахло от него уже не морозом, а кисленьким запахом овчины. – А что с вашим командиром?
– Разбомбили. Шесть ден назад, когда машины с дороги разгоняли, осколок в аккурат в грудь угодил.
– А звать его как?
Сержант почему-то смутился.
– Звать-то его было Леля.
– Женщина, значит?
– Женщина, – сказал солдат и бросил окурок в печь.
– А фамилия как?
– Фамилия какая-то длинная. Цельный год у нас служила, а фамилию ее мне все одно, как Гарнизонный устав, никак не запомнить. То ли Малинкина, то ли Калинкина.
– Ну да, Калинкина! – вмешался дневальный. – И никакая она не Калинкина, а Калиновская. Старший сержант Калиновская… А то Калинкина, – презрительно добавил, пошуровав дрова. – Никакая она не Калинкина…
Капитан придвинул ногой порожний патронный ящик, поставил его на ребро и как-то грузно, по-стариковски, сел. Дневальный прикрыл топку, чтобы меньше припекало. Печь загудела громче, сквозь щель в дверце протянулся луч, и огненные блики закопошились в ногах спящих.
– Ну, а… хорошо она командовала? – спросил после некоторого молчания капитан. И голос его был хриплый.
– Хорошо. Такого командира нам, я так мечтаю, пожалуй, и не попадется. Сперва, как пришла она к нам, все мы обижались, конечно. И так часть нестроевая, вроде стрелочников флажками машем, а тут еще баба в головах. Пришла она к нам маленькая, рукава у шинели подвернуты.
Смотрим, – нет ли косиц? Нет, косиц, видим, нету. Жили мы тогда всем отделением в сарае, спали вповалку – все равно, как сейчас. Велела она себе топчан в углу сколотить. Ну, легли. А у нас парень такой был, сейчас он в четырнадцатую дивизию ушел, вторым номером, так вот он, как у нас водилось, начал на ночь сказку сказывать. Ну, сказки, сами знаете, какие, все больше про поповских дочек да работников, скоромные сказки.
Сержант опять полез было за табаком, но капитан торопливо достал пачку «Беломора».
– Вот мы слушаем да ждем, как нашему отделенному-то, с подвернутыми рукавами, интересно ли будет? Ну, досказал он, помню, до того места, как барыньки велели работнику в речку лезть… Встала она, на него глядит: «Ну, а дальше что?» Тогда у нас светло было – фонарь «летучая мышь» горел. Он язык-то заглотил. Молчит. А она: «Говори, говорит, дальше! Я тебе приказываю». Молчит. «Совести не хватает?» – «Не хватает говорит, совести, товарищ старший сержант…» – «Ну, то-то». – Да.
Дневальный надел первые попавшиеся валенки, взял топор и быстро вышел на улицу.
– Значит, с достоинством держалась? Не тушевалась? – снова как-то странно спросил капитан. – Начальство довольно было?
– Куда там! Крепше мужика была. Вот случилось раз с этим Симаковым… – сержант кивнул на дверь. – Недавно, в аккурат в день Красной Армии… Ну, известное дело, выпили, поплясали. Вдруг Симаков подходит к ней, взял руки по швам и докладывает: «Разрешите к командиру взвода обратиться?» – «По какому такому делу?» – «Хочу, говорит, на передовую проситься. Надоело, говорит, вслед машинам руками махать». Ну, сами понимаете, если бы наша воля, – все бы на передовую ушли. Стала она ему объяснять про то, какую мы пользу приносим, складно говорила, долго, а он заладил: «Пойду на передовую» – и баста. Видит она – не уговорить его, командует: «Кругом! Спать, шагом марш». Мы-то ее все слушались, ровно ребятишки малые. А Симаков не то что хулиган какой, а со своим понятием человек. Как сейчас вижу: кулаки сжал, стоит, не шелохнется. Она опять: «Кругом!» Он стоит.
И по кулакам видать – не повернется ни в жисть. Команда-то уж больно зазорная, да еще баба командует. К тому же выпивши человек. Тут она побелела вся, как бумага. «Трое суток, говорит, гауптвахты» и ушла. По телефону комбату звонила, а трое суток припаяла. Комбат разрешил. Ну, увели Симакова в баню. Стали мы на покой расходиться, только гляжу – командира нашего нет и нет. Пождал я, вышел во двор, постоял на приступочке. Слышу, – в темноте притулившись, сморкается, сердечко-то все-таки бабье. Потянуло меня, старика, ее утешить. Подошел потихоньку, встал, как полагается, и говорю: «Зря вы, товарищ старший сержант, из-за него расстраиваетесь». А она мне: «Вы что здесь?» – да со злобой такой, не дай господи. Я хотел уже назад, подальше от греха, а она хвать меня за рукав: «Слушай, говорит, Порфирий Фомич, о том, что я ревела, чтоб никому, понял?» Гордая была…
Капитан сидел, опустив голову, и непочатая папироса торчала между пальцами. Солдаты храпели, изредка бредили, и один, тот самый, который кашлял, лежал теперь на спине, полуоткрыв рот, и тяжело дышал. В груди его точно потрескивал и ломался валежник.
– Ну, Симакову-то я все же рассказал… С тех пор стал парень в лепешку расшибаться. А теперь тоскует по ей пуще всех нас.
Дневальный вернулся, вывалил возле печки охапку звонких, как стекло, досок и молча уселся на прежнее место.
Сержант с флажками хотел было достать табак, но раздумал, догадавшись, что капитан опять предложит свои плохие, слабые папиросы, от которых неловко будет отказываться. Лежащий на спине снова закашлялся, и рука его задергалась.
– Тоже из ее сынков, – кивнул сержант. – В санчасть не ложится. Возьмем, говорит, Городец, тогда пойду.
Хлопнула дверь. Вошел молодой регулировщик в заиндевевшей ушанке, с твердыми, как яблоки, красными щеками.
– Автобатовские подъехали, – сказал он, – кому тут до второго эшелона?
Ветер выл. По-комариному зудело треснутое стекло. Капитан сидел, не двигаясь, опустив голову и сжимая ладонями виски.

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
В старой даче стало пусто.
Почти все офицеры уехали: одни демобилизоваться, другие – в Москву, за новыми назначениями, и в большой комнате, где помещалась техническая часть дорожного отдела армии, остались только инженер-майор Юрцев – бывший начальник отдела – и старший сержант Нина Бокова, работавшая в отделе чертежницей.
Неделю тому назад бумаги были подготовлены к отправке, но вагонов для имущества штаба все не подавали, и комната была завалена ящиками и пакетами.
Инженер-майор Юрцев, оставшийся следить за отгрузкой, сидел у окна, поглядывая в сад.
День был серый, осенний. Клены равнодушно роняли желтые, заскорузлые листья. Шел мелкий, холодный дождь. Над деревьями тянулся серый дым. У калитки, поеживаясь ходил часовой.
– Можно мне на станцию сбегать, Александр Дмитриевич? – спросила Нина. – Может быть, вагоны подали. – Идите, – разрешил он.
Сквозь слезящиеся стекла было видно, как Нина зигзагами пробежала по мокрой аллее, прищемив пальцами ворот шинели под подбородком, и свежие следы медленно наполнялись мутной водой.
Инженер-майор затворил дверь, ведущую на террасу, достал лист бумаги и стал писать. «Милая Нина! – писал он, – хотел сказать все это словами, но на бумаге получится спокойней и обстоятельней. И, кроме того, прочитав это, вы сможете без поспешности и опрометчивости подумать и решить, как вам будет угодно».
Склонив голову набок, он перечел написанное. Ему не понравилось слово «милая» и он его вычеркнул. Не понравился и восклицательный знак после слова «Нина». Ему не двадцать лет!
«Во время войны я потерял жену и сына. Я совсем один».
Ему стало жаль себя и он зачеркнул эти строки, чтобы не вызывать у Нины такой же жалости. Ему не нужно от нее жалости.
Подумав немного, он написал:
«Мы с вами давно живем под одной крышей. Я привык к вам настолько, что мне страшно представить, как я теперь останусь без вас».
Инженер-майор долго колебался, прежде чем написать эти слова. В сущности он, занятый и днем и ночью, никогда не обращал на Нину внимания, и только теперь, когда начальник тыла уехал, связисты унесли телефон и приказы увязаны в папки, он словно впервые увидел ее и внезапно догадался, как незаметно и умело больше двух лет она облегчала его беспокойную фронтовую жизнь.
Во время войны у них были странные отношения.
Нина была хорошей чертежницей, но часто совершала мелкие провинности, раздражавшие инженер-майора.
Он вызывал ее к себе, предварительно напустив на свое добродушное, обрюзгшее лицо выражение официальной строгости.
– Как вы стоите, старший сержант? – обыкновенно начинал он.
– А как стою? – оглядывая свои большущие сапоги, спокойным, уютным голосом отвечала Нина. – По уставу стою, Александр Дмитриевич.
– Да вы в уставе, кроме обложки, ничего не читали… – продолжал инженер-майор, сердито глядя на чернильницу. Когда ему приходилось отчитывать Нину, он всегда почему-то смотрел на чернильницу. – Это вы из полотняной кальки носовые платки понаделали?
– Да, Александр Дмитриевич, – признавалась Нина.
– Не Александр Дмитриевич, а инженер-майор. А я вам что говорил? Говорил, чтобы без моего разрешения кальку не брать?
– Говорили.
– А вы взяли?
– Взяла.
Возникало молчание. Инженер-майор обдумывал, как ругаться дальше.
– Так я для вас платок сделала, Александр Дмитриевич. Вы все их растеряли, – вздыхала Нина.
– Да что у нас тут швейная мастерская?!
Инженер-майор в сердцах бросал карандаш на стол, раздражаясь от этого уютного голоса.
– Ну, извините меня, дорогая, – наконец говорил он, – но мне надоело вызывать вас каждый день… Все… Завтра же отправляйтесь в роту… Вы, верно, забыли, что на военной службе находитесь, милостивая государыня… Все… Завтра же…
Вечером она приходила снова.
– Ну, что вам надо? – хмуро встречал ее инженер-майор. – Вы в роту собирайтесь.
– Я уже собралась.
– Так что вам от меня еще нужно?
– А ничего не нужно, Александр Дмитриевич. Я вот на бумажке написала, где вещи ваши лежат. А то вы сами ничего не найдете. Кружка и помазок – в крашеном сундучке нивелирном, белье – в ящике, где винтовки, а «Мадам Бовари» под ножку чертежного стола подложена…
– Найду, найду, идите…
А ночью прибегал посыльный от начальника тыла с пакетом, надо было поднимать весь отдел, составлять срочные сведения, готовить схемы коммуникаций, и Нину снова приходилось оставлять в штабе.
«Странно, – подумал Александр Дмитриевич, – как часто мы замечаем в человеке плохое и как редко – хорошее».
Письмо он закончил так:
«И если вы и впредь согласитесь не покидать меня, согласитесь быть моей женой, я буду благодарен вам всю жизнь».
Он качнул пером, чтобы расписаться, но отдернул руку.
«Написать: „Инженер-майор Юрцев“» – не годится.
Это не приказ о выходе замуж. «Александр» – рано. Она еще не жена. «Саша» – слишком по-лейтенантски. «Александр Дмитриевич» – уж очень подчеркивает дистанцию в возрастах. Просто «Юрцев» – сухо.
Поломав голову, он решил не подписываться никак. Ему почему-то казалось, что Нина ждет от него этого письма.
Инженер-майор переписал письмо и положил на тумбочку, возле гребня, в котором застрял, свернувшись пружинкой, золотой волосок.
Как только конверт оказался на тумбочке, инженер-майор начал волноваться.
Он походил из угла в угол, посвистел.
Волнение возрастало. Он вышел на террасу.
Дождь кончился. На дорожках лежали овальные лужи, блестящие, как зеркала. В воде отражалось синее небо и серые тучки. Кошка брезгливо, на цыпочках, прошла вдоль забора, где свисали черные листья крапивы, мятые и грязные, как тряпки.
Хлопнула калитка. По аллее бежала Нина.
– Утром обещают вагоны! – крикнула она радостно. – Наконец-то!
Инженер-майор смотрел в сад через большие разноцветные окна террасы. Он посмотрел через синее стекло – в саду наступила ночь, посмотрел через красное – сад загорелся.
Он смотрел в сад, а видел, как Нина в комнате, подпрыгивая, сняла шинель, как подошла к тумбочке поправить прическу, как вынула из конверта письмо и, стоя, стала читать его.
– Александр Дмитриевич, сюда кто-нибудь приходил? – услышал он.
– А что?
– Так. Вася из автомобильного отдела не приходил?.
– Нет… Впрочем, не знаю. Меня не было в комнате минут пять.
– Александр Дмитриевич, можно мне в автомобильный отдел сбегать?.. Мне очень, очень нужно. Я скоро вернусь.
– Идите… – сказал инженер-майор и посмотрел через красное стеклышко – сад загорелся.
До сих пор он думал, что его сорок пять лет значат только то, что он сорок пять раз вместе с землей обернулся вокруг солнца. Оказывается, сорок пять лет значат гораздо большее…
Вот теперь Нина убежала к технику из автомобильного отдела, а он, инженер-майор Юрцев, остался один на этой террасе с разноцветными окнами, и, хотя кончился дождь, капли тукают вокруг по доскам, падая с дырявого навеса, и жестяные листья осины залетают на террасу, и над высокими деревьями галдят и табунятся грачи, собираясь в теплые края.
Нина вернулась грустная.
– Что с вами? – спросил ее инженер-майор, – что вы такая?
– Ничего, Александр Дмитриевич, ничего, – ответила Нина, быстро проходя в комнату, – мне сегодня очень даже весело.
– Неужели я так поглупел от старости, Ниночка, что ничего не вижу и не понимаю? Не стоит грустить, Ниночка, из-за того, что Вася не отвечает вам взаимностью. Подождите немного. Придет время, и какой-нибудь другой Вася, такой же молодой и красивый, сам придет к вам, возьмет вас за руки и скажет все, что надо сказать словами, простыми и ясными, которых не надо обдумывать и зачеркивать.
Инженер-майор хотел добавить еще что-то, но в горле у него словно застряла корка, и он поспешно отвернулся.
А Нина сидела в комнате, упершись в кулачки подбородком, смотрела на Александра Дмитриевича и думала:
«Славный дяденька. Когда-нибудь он догадается, что я не могла не узнать его почерка. Но он не будет сердиться…»