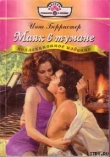Текст книги "Маяк в тумане"
Автор книги: Сергей Сергеев-Ценский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Но она ответила сурово:
– Куда это в больницу?.. Лежи уж! – и растерла ему поясницу скипидаром. Она помнила, что во время голода, когда у соседей валялась и била ногами лошадь, растерли ей крестец скипидаром, и она вскочила как встрепанная. Она думала, что так же вскочит и Пантелеймон, но он не поднялся.
На ночь она растирала его камфарным маслом, утром – горчичным спиртом; однако и это не помогло.
Как-то летом, когда здесь были приезжие, привлекаемые широким пляжем, и поселялись они не в одних только домах отдыха, Фрося носила молоко на одну небольшую дачку, и ребята из того времени запомнили такую сцену:
– Кому молоко раздала? – спросил отец.
– Денег не получала, бо такие, шо постоянно брать будут, – ответила мать.
– Значит, их записывать же надо или как?
– Вот и записуй: тому, что бородка рыжая, – этому две кружки, – бойко стала перечислять мать.
– Как это бородка?.. Какая бородка рыжая?.. Фамилие его как? – крикнул отец.
– Даже фамилии я не спросила!.. А тому еще, дверь у него тугая, он сам из себя бритый, худой, – так тот полторы кружки взял...
– Как же это я его должен записывать?.. Дверь тугая?.. – кричал отец.
– Ну, а что такого?.. Ну и "дверь тугая"!.. – кричала и мать. – Он рукастый такой, я его помню... А женщина еще одна взяла, – она стриженая под бобрик и так что юбка до колен... Этой кружку одну...
– Черт тебе пусть записывает!.. "Юбка до колен"!.. У всех теперь юбки до колен! – и отец разорвал бумажку и бросил на пол, туда же и карандаш швырнул, дверью хлопнул и на дворе потом долго еще ругался.
На другой день мать пришла уже довольная и сказала отцу:
– Ну вот, узнала, как ихние фамилии, а ты уже думал: они с нашим молоком куды-сь забежать должны!.. Этот, шо бородка рыжая, – он опять две кружки взял, и молоко ему понравилось, – так этого звать Зайчик...
– Зайчик? – переспросил отец.
– Зайчик... А тот, бритый, рукастый, так тот Мейчик...
– Как это Мейчик?
– Ну, а черт его знает!.. Мейчик... Так мне сказал и даже на записочку записал, – там, в бетоне, записка... Он по одной кружке брать будет, больше ему не нужно... А женщина, юбка короткая, та – фамилие Тонконог.
– Тонконогова?
– Сказала так, явственно: Тонко-ног!
– Почему же они такие подобрались?
– А я знаю? – ответила мать и пошла мыть бидон.
Они же, ребята, старшие трое, переглянулись, и Ванька густо сказал Егорке:
– Зайчик!
– Мейчик! – тут же отозвался Егорка.
– Тонконог! – подхватил бойкий Митька.
И через минуту они уже кружились по комнате, приплясывая, притопывая, подпевая:
– Зайчик, Мейчик, Тонконог!.. Зайчик, Мейчик, Тонконог!.. Зайчик, Мейчик, Тонконог!..
– За-мол-чать, гадюки! – крикнул на них отец. – Песня вам это, что ли?.. За-мол-чать, босявки!..
Но так просто взять и замолчать, когда такое подвернулось, не могли, конечно, ребята, и стоило только одному сказать: "Зайчик!" – как другой подхватывал: "Мейчик!" – и ими овладевал бес крайней веселости, и не добавить еще и "Тонконог!" было совершенно невозможно.
Тогда отец избил их.
Но вот теперь он лежал днем на кровати – широкой, желтой, деревянной, кровати – непривычно неподвижный, и глаза у него ввалились. И именно теперь, когда матери не было дома, маленькая спала в люльке, а Колька с Алешкой возились где-то на дворе, около коровьего сарая, когда только они, трое старших, расположась около плиты, азартно играли в перышки, Митька сказал вдруг радостно и звонко, точно его осенило что-то необычайное:
– Зайчик!
– Мейчик! – глухо подхватил Егорка.
– Тонконог! – припомнил Ванька.
Они перебросились этими подмывающими словами, как боевыми сигналами, несколько раз и вдруг закружились по комнате неудержимо.
– Зай-чи-и-ик, Мейчик, Зайчик-Мейчик-Тонконог!.. Зай-чи-ик, Зайчик, Зайчик-Мейчик-Тонконог! – в упоении визжали они по-поросячьи.
– За-мол-чать, вы! – крикнул было Дрок, подняв голову, всклокоченную и в пуху.
Они видели, что теперь отец не погонится за ними, не вскочит даже, что он будто связан веревками, а они – вот они, возьми их теперь за уши! – им хочется визжать, и они визжат, и топают, и пляшут, и кувыркаются... "Зай-чи-ик-Мейчик, Зайчик-Мейчик-Тонконог!"
Разбуженная, залилась звончайшим плачем маленькая в люльке. На пение и крик пришли Колька с Алешкой и, сразу поняв, что надо делать, тоже начали подвизгивать и подтопывать, и вот уж пятеро закружились около неподвижного Дрока, голося разноголосо:
– Зай-чи-ик-Мейчик, Зайчик-Мейчик-Тонконог!
Дроку стало, наконец, страшно.
– Я же вас породил, босявки, и вы же меня так, гадюки! – пытался он кричать, протягивая к ним руки с разжатыми пальцами.
Но они пятеро заглушали его, а маленькая шестая будто вторила им пронзительным плачем.
– Фро-ося!.. Да куды же тебя черти унесли! – старался перекричать их Дрок.
А старшие трое, точно входя в больший и больший задор, стали подскакивать к нему. Он размахивал руками, стараясь напугать их. Но они увертывались от рук, ноги же его были беззащитны, ногами он не мог двигать от боли.
Дрок начал шарить кругом себя глазами, чем бы в них бросить, но, кроме подушки, нечего было захватить руками. Бросил подушкой, стараясь попасть в наиболее верткого и горластого Митьку, но попал в Алешку и сбил его с ног. Алешка стал очень часто и деловито стукаться об пол затылком, чтобы зареветь в голос.
К маленькой, все продолжавшей брать самые высокие ноты в своей люльке, пристал Алешка, набивший, наконец, порядочную шишку на затылок.
Проходивший мимо старый печник Заворотько услышал визг и плач и завыванье и зашел в раскрытую дверь. Он думал, что в домишке Дрока покойник. Стаскивая картуз левой рукой, он уже приготовился креститься правой, и когда ребята замолчали и отодвинулись, увидел, подслеповатый, что лежит на кровати длинное тело.
– Вот тебе на! – сказал он оторопело и горестно и закрестился частыми крестиками.
– Держи их! – закричал вдруг ему вне себя Дрок.
Заворотько, как ни был слеп, разглядел перекосившееся яростное лицо Дрока, перестал креститься и спросил недоумело:
– А чего ж ты их сам не фатаешь?
Между тем ребята брызнули на двор, только Алешка остался сидеть на полу, но уже отхныкивал и глядел на высокого старика с любопытством.
– Я их воспитую, я их кормлю-пою, а они – вон как они! – жаловался Дрок Заворотько.
Заворотько пощупал плиту, нет ли где трещин, нашел табуретку, сел в головах у Дрока и слушал его долго и участливо. Даже встал и покачал люльку, чтобы заснула маленькая. Он любил заходить туда, где клал печи, потому что часто угощали его вином. Для поясницы посоветовал свиного сала пополам с керосином. О ребятах сказал:
– А какие теперь ребята?.. Так, абы что... Они теперь, чуть отец их за вухи, в милицию заявляют, – вот как!..
И, слушая жалобы Дрока и думая о вине, часто вставлял:
– Вот же пропала твоя хозяйка, ну и пропала ж!.. Чи не забегла до какого-сь суседа дальнего?.. Вот так про-па-ла!
А когда пришла, наконец, Фрося, запыхавшись и кинувшись от дверей к люльке, Дрок только приподнял голову ей навстречу, покачал головой и отвернулся к стене.
VIII
Ветеринар Обернихин, тощий, задумчивый человек в бурке, на которую садились ленивые пухлые снежинки, и в рыжей кубанке с белым верхом, стоял в дверях коровьего сарая Дрока и говорил медленно и важно:
– Да-а... Случай из рук вон замечательный...
Он появился в городе не так давно, – раньше был другой, очень речистый, толстый, хороший охотник на зайцев, но его перевели в Вятку, а об этом говорили, что он не то из Томска, не то из Омска, вставая по утрам, поет тягучие сибирские песни и едва ли даже ветеринар.
Пахом Безклубов, извозчик, – Дрок знал это, – привел к нему недавно свою серую кобылу, которая перестала есть, и обстоятельно объяснял:
– Зуб у нее, понимаете, сломался кутний, и тычет он ей, понимаете, в самую мякоть востряком... Разумеется, по причине такого востряка кушать она отказывается совсем... Желаете посмотреть? Сейчас я ей рот раззявлю...
– Нет, зачем это? – сказал ветеринар. – Не видал я зубов кобыльих?.. Зуб, он и есть зуб... Чем я могу ей помочь, ежели он сломался?
– А как же, товарищ? – удивлялся Пахом. – Тут дело сущий пустяк... Машинка такая есть зубная... Ее, машинку, к зубу приставить, посля того толконуть, – он и долой...
– Машинка такая есть... Угу... А хотя бы ж машинка была, – как же ей зубы разжать, твоей кобыле?.. Ты ей разожмешь, а она тебе палец оттяпает...
– Зачем же, товарищ, своими пальцами действовать? – удивлялся Пахом. Для этого ж растопырка такая есть, она и действует...
– Ага, растопырка... Растопырка – это другое дело... Это, конечно, можно представить...
– Так, стало быть, выбьете, товарищ?
– Что выбью?
– Да зуб этот...
– Ни-ка-кой рас-то-пыр-ки у нас тут не-ет!.. Ни-ка-кой ма-шин-ки не-ет!.. Понял?
– А как же быть теперь?
– А так же... Написать можно в центр, может, там имеются... растопырки эти всякие... Бумагу написать об этом...
– Так это же сколько времени ей, бедной, ждать придется? – испугался Пахом.
– Сколько?.. Может, неделю, а может, весь месяц...
– Так она же околеть через это должна, кобыла моя! – ударил горестно ее по крупу Пахом.
– Небось!.. Захочет жить – не околеет...
– Пойдем, Дунька, к кузнецу, когда такое дело!
И повел Пахом свою серую Дуньку в кузню, и кузнец Гаврила, запойный пьяница, с раздутым синим лицом, выбил ей зуб без растопырки и без машинки, действуя только молотком и пробоем.
Рыжую телочку выгнали из сарая, чтобы не мешала, и она жевала в стороне сухое, колючее перекати-поле, всячески изловчаясь забрать его в рот целиком, а Манька лежала, не подымая головы на Обернихина, как будто думая про себя, что он ей все равно не поможет. Дрок же так не думал, он боялся так думать, он надеялся тем более, что и сам он лежал пластом четыре дня, а вот встал же, встал, как только услышал от Фроси, что Манька отелила бычка такого же черного, как сама, только лоб белый. Это было рано утром, и он просто спустил ноги и пошел смотреть бычка: в ногах оставалась только слабость, но можно было держать при ходьбе тело так, что боль в пояснице отдавалась тупо и не при каждом шаге.
– Вот же я поднялся, – так говорил Обернихину Дрок, – человек один ну, может, вы его и знаете, – Заворотько печник совет дал, чем помазать... Ну, неуж-ли ж для коровы какого средства нет?
– Подоила ее я утром, полную доенку дала, ну, правду сказать, шумы много было, – объясняла Фрося торопясь, а ветеринар перебивал вдумчиво:
– Какой же это такой "шумы"?
– Ну, по-русскому называется "пена"...
– Ага!.. Та-ак...
– А потом еще в кастрюлю бутылок пять дала... И ничего, на пойло кинулась с жадностью... Я ей и то молозиво ее отдала всю доенку, бычку и в кастрюле довольно, – и молозиво она выдула.
– Зачем давала? – строго сказал Обернихин. – Не нужно было давать...
– Ну, у нас же все бабы так привыкли, – и ничего...
– Глупо!.. Очень глупо...
– И сено потом трескала... А в обед пришла доить, тут уж она только три бутылки дала, и смотрю – на носу у ней пот холодный... Потом к вечеру уж легла вот...
– Помещение у вас для коровы скверное, – важно сказал Обернихин. Хлева должны быть утепленные, отчего скотина прибавляет молока вдвое...
– У нас зима теплая и так, – и оглядел Дрок весь сарай, который он делал так старательно, одна на одну внаполз набивая доски.
– А это что такое: кровь у нее под хвостом? – вдруг спросил Обернихин, тыкая носком сапога в податливое вымя Маньки.
– Да ведь после стелу же! – удивилась Фрося и добавила с опасением: Мне то страшно, а вдруг это стельная горячка у нее?
Она просительно посмотрела на впалый мутный глаз ветеринара, глубоко ушедший под выпуклую надбровную дугу, и глаз этот прошелся безразлично по ней, смерив ее от головного старого линялого платка до щедро унавоженных калош на босу ногу, а потом тонкие, плоские, как блинцы, не моложе как сорокапятилетние губы чуть шевельнулись:
– Все может быть... Может, и горячка стельная...
– Так ведь если ж горячка родильная, прививку скорей нужно делать! весь так и подался к нему скрюченный в пояснице Дрок, который почувствовал, что от этих слов ветеринара опять "вступило".
– Выдумывают тоже! – отвернулся Обернихин. – Каки-е тут прививки?..
И в полутемном уже вечернем сарае около самой его двери, двигавшейся не на петлях, а на скрученной втрое жженой проволоке, скрестились четыре пары глаз: две пары острых, пронизанных и просветленных смертельным испугом, глаза Дрока и Фроси, и две пары тусклых и равнодушных, безучастных к тому, что было около, – глаза поднявшей голову Маньки и ветеринара Обернихина, который услышал слабое призывное мычанье рыжей телушки и, еще раз пнув Маньку в вымя, спросил:
– А это взревело там – тоже от нее приплод?
Потом он поправил кубанку, запахнул бурку и медленно двинулся от сарая.
– Средство же какое-нибудь пропишите, – старался поспеть за ним, держась левой рукой за поясницу, Дрок.
– Завтра будет видно, какое ей средство, завтра об это время, отозвался Обернихин и пошел неожиданно очень подбористо, делая широкие шаги, и бурка его развевалась при этом торжественно и неумолимо.
Дрок спросил Фросю:
– Что же он признал в ней?
Фрося ответила оторопело:
– Да ведь ты слыхал сам иль нет?.. Горячка стельная!..
И оба пошли снова в сарай, сели на корточках около Манькиной головы и поочередно щупали ей рога, насколько горячи, и ноздри, насколько они холодны и сухи.
– Мань!.. Мань, а Мань!.. – с расстановкой, искательно, с боязливой лаской в голосе сказала Фрося. – Или ж это тебе в голову вдарило, что я тебе, злодейка, доенку молозива дала?..
– Ма-анька! – закричал вдруг Дрок, схвативши ее за оба рога, как он это сделал раз, когда залезла она по брюхо в зеленую пшеницу. – Мань-ка, че-ерт!.. Ты что же это с нами делаешь?.. Вставай, стерва!.. Вставай, ну, вставай, черт!.. Вставай!..
И, сидя на корточках и не зная еще, сможет ли разогнуться и подняться сам, он тряс за рога корову, однако корова только вздохнула шумно и перебрала медленно лопушистыми ушами.
– А может, у нее тоже ревматизм? – попробовала утешиться Фрося, но Дрок, заметив подошедшего в это время Кольку, крикнул ему ожесточась:
– Гляди!.. Иди гляди, как корова наша подыхает!
Колька привычно поспешно спрятал в щелки глаза, открыл мелкозубый слюнявый рот и залился плачем.
К утру Манька действительно издохла. Войдя к ней часов в пять с фонарем (еще было темно), Дрок услышал, как выдохнула она с жужжащим глухим звуком, как из пустой бочки, последний воздух, уже вытянув ноги прямо и уложив голову покорно и покойно.
Рыжая телочка стояла, испуганно вдавившись боком в стенку сарая, и широкие глаза ее показались Дроку прозрачно-голубого цвета.
Проходивший часа через три в школу мимо хаты Дрока тщедушный, но неутомимый Веня крикнул Егорке и Ваньке, своим ученикам:
– Ребята, кирку и лопату бери!.. Вчера клыки мамонта нашли, пойдем откапывать!
Дрок спросил глухо и строго:
– Это какого такого мамонта?
– А это... вроде слона лохматого, – беспечно ответил Веня.
– Сло-на-а?.. Коровы бы дохли, а слоны бы водились?..
Дрок стоял скорченный, но, не вступись Фрося, он много мог бы наговорить ничего не понявшему Вене: глядеть на людей ему было трудно теперь: рябило в глазах.
IX
Дул норд-ост.
На пристань шли и шли шальным пьяным приступом кипящие трехметровые волны; двухтавровые балки раскачивались, пристань скрипела.
Около, через речку, которая заметна была только зимою, когда шли ливни в горах, перекидывали новый железобетонный мост, хотя вполне исправен был деревянный старый, стоявший рядом, шагах в двадцати от впадения речки в море. Кучи пустых цементных бочонков нагромоздились тут же, и ветер стремился вырвать из них серую бумагу. В косматом от туч сизом небе сверкали крыльями и визжали голодные чайки. Вразнобой стучали обухами топоров плотники, делая настил для бетонной массы.
На толстом, сыром, краснокором сосновом бревне сидел Дрок рядом с татарином Сеит Халилем. Халиль был дрогаль, старик с очень морщинистым лицом, но с дюжими еще плечами. Глаза слабо были заметны, и Дрок не мог разглядеть и теперь, как никогда раньше, карие они или серые, но загнутый нос его был огромен.
– Ишь, рвет, черт губастый! – говорил о ветре Дрок, со злостью следя, как нагибались напротив, во дворе грека Гелиади, средних лет кипарисы.
– Тепер да меньше стал!.. А вчерась – ай-ай-ай, что он делал!
Сеит Халиль совсем сморщился, остались только нос да шишка подбородка.
– Я об этом и говорю, что овчора ночью он сарай мне раскрыл! – блеснул глазами Дрок. – Пьять пудов табаку загубил! Понял?.. Как линул дожж, так и... туда к черту!
– Це-це-це!.. Гм... Пять пуд!.. Табаксоюз тепер что давать будешь?
Шапка Халиля была дырявая; от зеленоватой, вытертой добела, лопнувшей подмышками теплой куртки пахло топленым бараньим салом. Он стал вдруг очень таинственным, когда подвинул свою голову к голове Дрока и сказал тихо:
– У меня лошадь купи, а?.. Тыридцать урублей дашь, айда, бери! Сто десят сам платил, правду тебе говорим...
– На черта мне лошадь зимой? – отвернулся от него Дрок.
– Как это, на черт, на черт?.. Тебе карова здох, сена остался!
– Ну?.. А твоя лошадь чтоб мое сено сожрала?
– Када купишь, не мой лошадь будет, твой лошадь будет: он мерин...
Мерин этот, белый, шершавый, с подстриженной гривой и куцым хвостом, запряженный в старые дроги, стоял тут же и оглядывался на Халиля, точно подозревал его в какой-то гнусности, а между тем Халиль его расхваливал, как умел:
– На гора куды хочешь, – айда!.. Он такой, кнут ему не надо, сам да идет!
– Что, другого одра приглядел, – купить хочешь? – спросил Дрок, зная, что лошади у Халиля долго не держались.
– Верна! – радостно ударил его Халиль по колену, и тут он поднял редковолосые брови, весь просияв, и в первый раз заметил Дрок, что глаза у него серые, даже совсем белесые, что редко встречается у татар.
– Не купишь ты, другой человек не купит, никто не купит, айда гоню его на яйла, нехай там пасется...
И Халиль сунул грязную старую руку Дроку, сел на дроги, крикнул, подобрав вожжи, и вот белый шершавый мерин, точно желая показать Дроку, что он совсем не такой одер, как тот думал, с места пустился скакать, как оглашенный.
Лошадей все продавали за бесценок, это знал уже Дрок; он думал раньше, не купить ли лошадь, теперь он видел, что не стоит, но почему не стоит, было не совсем ясно.
Два брата, плотники Денис и Никита Подскребовы, тоже стучали тут топорами, а техник, со значком на фуражке, считал толстые вершковые доски, в стороне лежавшие штабелем. Дрок прошел по старому мосту, серчая на этот крепкий новый лес, и думал о своем сарае, раскрытом бурей.
– Что лодыря гоняешь? – крикнул ему Денис.
Боль в пояснице прошла у Дрока, но осталась какая-то недоверчивость к ногам, и неуверенно поворачивалось тело, поэтому Дрок только повернул голову к Денису и перебрал нижней челюстью раза два, но ничего не ответил, прошел.
Он вышел узнать, нельзя ли получить страховые за корову. От ветра надвинул он старый суконный картуз на самые уши, а руки держал спереди, засунув их в рукава, как в муфту.
На своем месте, как всегда, сидела Степочкина Аксинья, пирожница. Раньше у нее была палатка на берегу, как раз около автомобильной конторы, и все, кто ехал дальше на Южный берег, покупали у нее яблоки, орехи, булки, копченую кефаль и мало ли что еще. Но палатку закрыли; теперь ее переделали, покрасили охрой, поместили в ней отделение кооператива, а Степочкина неизменно каждый день приходила сюда, садилась рядом на складном стульчике и устанавливала перед собой железный ящик, в котором горел примус: пирожки всегда были горячие.
Закутанная в теплый коричневый платок, с обычным обветренным багровым тяжелым лицом, она смотрела на всех с вызовом и упорством. Как будто все виноваты были в том, что прикрыли ее палатку, и надменные глаза ее говорили всем: "Хоть потоп, хоть издохну, а торговать буду!.."
Толстый отправитель автомобилей, стоя около конторы, покупал у охотника, цыгана Велиша, ободранного, ярко-красного, со страшными глазами зайца. Но два рубля за зайца ему казалось очень дорого; он повторял задумчиво:
– Гм, Велиша, Велиша!.. Чи ты сдурел?
– На вот, птица бери, полтинник дашь! – говорил Велиша. – Это, Исак, птица, ах! Чего-нибудь стоит!.. Называется баложник...
И он вытянул из своей сетки вальдшнепа за самый кончик носа, чтобы дичь казалась длиннее, больше... Пока проходил Дрок, они все никак не могли сойтись в цене, оба очень черные, только цыган выше и тоньше.
Два крепких хозяина, греки-виноградари, встретились Дроку дальше Канаки и Кумурджи; глаза их были горячие.
– Тебе восемьдесят рублей нет позычить? – загородил ему дорогу Канаки, но Кумурджи насунулся на него сбоку и сказал тише, но внушительней:
– Я тебе, слушай, процент больше дам! Мне дай восемьдесят рублей!
Оказалось, оба получили повестки на уплату немедленно по восемьдесят пять рублей на землеустройство и вот ходят-ищут, у кого бы занять...
Направо от почты, на пустыре, где разобрали в двадцать первом году на дрова большой деревянный дом Пушкарева, увидел Дрок человек пять пожилых татар, а между ними письмоносца Желоманова. Желоманов, костлявый парень, низенький и с бельмом на одном глазу, но звонкоголосый, выкрикивал отчетливо:
– И еще надо вам то знать, товарищи, что уж не копать тогда вы будете под табак, которое, известно, работа вполне адская, а пришлют нам трактор сюда, и он враз все ваши земли перепашет на сто процентов!
А Мустафа Умеров (борода уже с большой проседью) подтянул широкие, красноватого толстого сукна шаровары и перебил его запальчиво:
– Постой!.. Товарищ, немножко постой, пожалуйста!.. Трахтор-махтор что такое? Афф-тамабиль?.. Где у нас афтамабиль ходит, скажи?.. На соше ходит, другом месте не ходит!.. На соше что пахать будешь? Ка-минь?.. Другом месте – тама балка, тама го-ора, как ходить будет, скажи?
– Правильно! – буркнул Дрок, проходя мимо. – Морским цветом тут люди живут, а земля – она тут проклятая! Ее никакой трактор не возьмет...
Когда шел Дрок обратно, он встретил на пустой набережной знакомого белого мерина; рядом шел, держа вожжи, Халиль. На дрогах, прикрученный веревкой, покачивался и подскакивал простой некрашеный гроб. За гробом тяжело ступала, утирая слезы платком, Настасья Трофимовна.
Дрок понял: умер старик Недопёкин, везут его на кладбище закапывать в землю... Никто не будет больше кричать над его, Дроковым, полем: "Настя-a!.." Едва ли и сама старуха будет жить теперь так далеко, на отшибе, в пустом домишке: должно быть, переберется в город.
Дрок не говорил с нею с того самого дня, как Ванька разбил стекла, но смерть примиряет: он издали снял картуз и стоял так на тротуаре, пока проезжали дроги.
Халиль очень оживился, увидя его. Он крикнул:
– Смотри ты!.. Смотри хорошо!
И, подняв левую руку, распялил на ней пальцы и четыре раза наклонил ее так к нему, хитро кивая в то же время подранной шапкой на уныло шагавшего мерина.
Дрок понял, что он продает уже теперь лошадь за двадцать рублей, но покачал головой отрицательно.
Толстый нос Халиля сразу стал сердитый. Зло ударили по мериновой спине вожжи. Потом гроб завернул в переулок, белея только что выструганным тесом.
Тяжелые ноги старухи, мешая одна другой, проволоклись за задними грязными колесами, из которых одно, заметил Дрок, было даже и не круглое, а какое-то пятиугольное.
Ветер с Кавказа, холодный, упорный и очень плотный, не дул, а толкал в спину с яростью.
Топоры на мосту стучали глухо.
X
Норд-ост протащил дождь дальше, а здесь сеялось что-то мелкое из охвостьев туч. И как-то среди дня, как будто тоже высеялся вместе с дождем, стал около домика Дрока с толстой дубовой палкой в руке и с вещевым мешком военного образца через плечо высокий, плечистый, круглочернобородый, совсем незнакомый Фросе и по обличью даже нездешний и спросил ее пытливо:
– А чи не здесь живе Пантилимон Прокохьич?.. Казалы мiнi, мабудь здесь, а там вже, як хозяюва скажуть...
Взгляд у него был хотя и усталый, все-таки немного почему-то лукавый, и Фрося медлила ответом, соображая, зачем мог бы прийти к ее мужу этот чернобородый. Она подумала, не сено ли привез он на базар из деревни Ивановки, и ответила, отвернувшись:
– Так коровы уже нема: пропала!
– Як так?.. Пропала? – живо подхватил чернобородый и снял даже шапку от крайнего изумления, – пожалуй, огорчения даже.
Оказалось при этом, что спереди он начисто лысый и лоб крутой и широкий.
Тогда вышел из комнаты Дрок, который ходил сердитый все эти дни, и закричал срыву:
– То не у твоего тестя старого я сено купил месяц тому назад тюковое?.. Шесть тюков, хай ему кишки так попреют, как оно нашлось прелое в середке!..
И с размаху стал как раз лицом к лицу с чернобородым, блистая злыми запавшими глазами, а чернобородый отозвался ему вопросительно и не в полный голос:
– Пантик?
– Как это "Пантик"? – откинул голову Дрок.
– Ну, може, я обознався, тоди звиняйте! – пожал плечами чернобородый. А только я, може, знаете, Никанор Прокохьич, а фамилию имею – Дрок.
Это был тот самый брат из Подолии, к которому во время землетрясения хотел ехать Пантелеймон. Теперь его вытряхнуло оттуда сюда. Они не видались двадцать один год и смотрели друг на друга больше с недоумением, чем с радостью.
Потом они сидели за чаем рядом, и Фрося только и делала, что наливала стаканы: чай пьется без счета, когда так долго не видались братья.
– Ты же писал, шо ты обеднял совсем, ну, а как же потом ты? – спрашивал Пантелеймон, блестя потом.
– А пiсля того, – не спеша отвечал Никанор, – жинку з двомя дiтями до шуряка отправив в Винницу, – там же все ж таки город, а сам до тебе...
– А чого ж ты до мене?
– А я же плотник!.. И по столярству я скрозь можу... Думаю себе: зимою ж там постройки або рэмонты... це ж Кры-ым!
– "Ду-маю"!.. Ты бы спытал сначала, а посля того думал!.. Ни одной постройки тут нет... Может, где в другом месте: Крым великий...
– Вот и я же к тому... А не найдется плотницкой работы, може кузнечну знайду...
Пантелеймон не удивлялся тому, что Никанор оказался еще и кузнец; он сказал только:
– Как у нашего здесь кузнеца Гаврилы запой бывает, он загодя шукает себе тоди помощника, потому запой этот у него не меньше как на три недели, а то на месяц...
– А давно не было?.. Може, как раз на мое горькое счастье, чтоб я тебя квартирой здря не стеснял, он и запьет, а?..
Нашлась все-таки плотницкая работа для Никанора, – делал он в этот день рамы из реек, и стружки из-под его отдохнувшего шершебка вились, как змеи, а Митька подхватывал их и вскрикивал то и дело:
– Эх, ты-ы!.. Вот линная! (Второпях "д" пропускал.)
И глаза у него первобытно блестели.
Но и Егорка с Ваняткой сидели на корточках около (не нужно уж было пасти корову): они тоже собирали стружки в пучки, иногда говоря басом:
– А вот еще линнее!..
Однако никуда не уходили и Колька с Алешкой. Колька лежал навзничь; Алешка засыпал его азартно мелкими стружками; Колька плакал.
Маленькую в комнате около окна укачивала Фрося, равномерно толкая зыбку, а самого Пантелеймона не было: в Тара-Бугазе, в греческой колонии, в трех верстах от города, он в это время присматривал поросенка.
Ласточки уже отсидели сколько им полагалось на проволоках телеграфа и улетели в Египет. Ворона, – видно, уж очень старая, – с кривого разлета шлепнулась на крышу, огляделась и очень старательно прокричала раза четыре: "Илла-а!.. Илла-а!.." При этом она ерошила перья, вытягивала книзу шею, раскачивалась, пожимала крыльями, – вообще кричала свое с соблюдением многих вороньих церемоний, пока Егорка не бросил в нее камнем.
С тополя, стоявшего около колодца, медленно капали вниз золотые листья, а тень от него ушла на ближайший соседский двор; вечерело, солнца осталось минуты на три.
Сказал Никанор Фросе:
– Будто карасин вечером хотели выдавать...
– Так масло же постное, а не керосин вечером! – отозвалась Фрося.
– То ты слыхала, будто масло, а я утром слыхал: карасин...
– Ну, должно, две очереди... Ребят надо послать...
Однако немного погодя, укачав девочку, она разыскала бутылку для масла, жестянку для керосина, и пошли они вдвоем с Никанором, который на крышу сарая уложил готовые планки и, озираясь на ребят, в сенную труху в коровнике спрятал мешок с инструментами.
Уходя, он закурил, а пустую коробку от спичек бросил.
Быстроглазый Митька подобрал коробку и нашел в ней незаметную сначала, притаившуюся спичку.
Он ее не вынул, он только крепко зажал коробку в руке и беспечно сказал пытливо на него глядящему Ванятке:
– Сербиньянская собака брешет...
Действительно, в это время раза три ударил в свой густой колокол сенбернар на ближайшем от них дворе, собака очень пожилая и ленивая, но говорить об этом незачем было, и Ванятка понял, что в коробке была спичка.
Когда пасли они корову, неизбывна была их скука. Тогда они крали дома спички и раскладывали под кустами карагача костры. В этих ребятах было что-то такое же древнее, как и в огне костров, и огонь, лизавший красными языками зеленые листья карагачей, приносил им жгучую радость. Они кричали самозабвенно, они подпрыгивали около костра, визжа...
Но спички, украденные тайком у матери, были все-таки запретные спички. Эта, найденная Митькой и зажатая в его руке, – своя, разрешенная, как будто чей-то подарок. А каждая спичка, попавшая к ним, представлялась им не иначе, как будущий костер... И Митька, оглядев своих четырех братьев несколько пренебрежительно, набрал охапку стружек, отошел с нею за дом шагов на десять, в буерак, деловито там ее уложил и поджег.
Ого, как весело загорелись стружки! Куда ярче, чем влажный сушняк под карагачом... И с пучками и с охапками стружек к этому костру, самому веселому в их жизни, бежали остальные ребята, даже Колька перестал плакать, – он стоял ближе всех к огню, весь блаженный, розовый с головы до ног, а маленький Алешка трубил, как в большую медную трубу: "Гу! Гу! Гу!" – и бил в ладоши.
– Картошку печь! – сказал Ванятка.
– Картошку! – подхватил розовый Колька так радостно, как будто ел ее только один раз, давно когда-то, в самый большой праздник.
А Митька, живой, верткий, неожиданный во всем, что делал, выхватил из костра самую длинную стружку, светло пылавшую, и бросился с нею к дому, как с факелом.
Он принес картошки в подоле рубахи; он не заметил только, как упала перегоревшая стружка у самых дверей, недавно покрашенных охрой.
Две вороны, усевшись на коньке крыши, одна перед другой, точно кланяясь друг дружке, вытягивали церемонно: "Илла-а... Илла-а!.." Но уже некогда было кидать в них камнями: пеклась картошка.
И сумерки надвинулись, – осенью они скоры... И туман потянул с моря, осенью это бывало часто... И около самых дверей, окрашенных в желтое, из раздавленных на ходу стружек подымались змеиные головки рождавшихся огоньков...