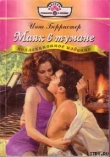Текст книги "Маяк в тумане"
Автор книги: Сергей Сергеев-Ценский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
– На-астя!.. На-стя-а!.. – кричал старик. – Насть-насть-насть-насть! Нас-тя-а!..
Сильва тоже, хотя и в стороне, смотрела на пестрый город внизу, и, заметив ее, старик подзывал собачку, подсвистывая:
– Сильва-сильва-сильва-силь-ва-а!
Сильва виляла хвостиком, но не шла, и, подымая в ее сторону палку с половинками, с остатками многочисленных монограмм, старик жаловался ей плаксиво:
– Вот... с этой палочкой... я гулял там... там!..
Указывал набалдашником на город и плакал.
Когда он увидел Дрока в праздничной белой рубахе, подпоясанной ремешком, как он пробирался в кустах ниже и левее его, он закричал было ему радостно:
– А-а!.. Гражда-нину Дроку!.. – и даже сделал в его сторону два-три ковыляющих шага.
Но Дрок согнулся, чтобы не так заметно было его в кустах, и ярко замелькал своей праздничной рубахой по направлению к домику, где жил и – он знал – теперь был дома Веня.
Дроку также хотелось теперь кому-то рассказать о своем новом, и некому было здесь, кроме Вени. Он рассказал бы и старику, если бы тот способен был что-нибудь понимать.
Веня занят был тем, что, усевшись на табурете посреди двора, ставил аккуратные заплаты на свои летние брюки.
– Ага!.. Здравствуйте вам!.. С праздником! – протянул ему желтую, как репа, ладонь Дрок. – Или у вас нет праздника, тогда извиняйте... А у меня же прямо в кругу!.. Такой я сейчас довольный, во! (Чиркнул себя по литой медной шее пальцем.)
Посмотрел на него Веня удивленно: лучился Дрок. Он даже как будто моложе стал; он был без фуражки – волосы низко острижены, густые, черные, только на висках проседь; четырехугольный лоб без морщин; нижняя челюсть мощная; зубы все на месте и белые и завидно сверкают сплошь, когда кричит он:
– Такой я довольный, как все одно дождь на мою пшеничку линул, а на соседову – нехай когда-сь после!.. Я же работаю, как скаженный, – вам известно!.. И так что бывает, встану ночью, сижу на кровати, а сам себя ругаю: и ноги у меня больные, и руки болят, и спину мою ломит, и цапать идти надо, и до того даже, что я уже с вечера ищу-хожу, как бы мне с женой поругаться!.. Она же, баба, вы знаете, работница, она же называется друг мой!.. Я же с ней должен, как другие, в обнимку! (Тут Дрок обхватил тонкую шею Вени и губами – широкими, влажными – потянулся к его губам, чтобы показать, как именно должен бы он был обнимать ночью свою жену.) А я ей с вечера что?.. "Хворобы на тебя, на суку, нету!.." И дальше подобное... Это чтобы она заплакала, а я чтобы ведро с водой шваркнул или что еще и вещь эту изуродовал всю... Ну, вот... В три часа ночи я встал сегодня цапать и уж детей не будил, как жена говорит, что я их работой замучил, – может, и вправду замучил, – а день сегодня воскресный... Им же нужно корову пасти, ну, а я: "Ничего, говорю, нехай уж я сам попасу и корову ту и телку... Я себе поцапаю, а они там в низочку хай походят, попасутся, ничего..." И вот я их выгнал, и черна моя корова, – ей абы б возле нее шо-сь краснело, а то скучать будет... Была ж у меня и красна корова, – ну, ту я продал... В резню продал и дешево продал, – ну, так я ж никого не обманувал, не сказал, шо така корова, така корова, – три ведра надоишь!.. И она, как погода плохая, так она валяется и не встает... Ревматизмы или что у ней, быть может, что она и день валяется, и два, и даже три, бывало... И жрать не жрет... Какое от нее молоко?.. И мяса того ежели мясник наскребет с нее десять пудов, его счастье!.. Ну, привязал я туго телку за веревку до кустика, – а там трава такая, что вырывал я ее, вырывал и никак вырвать не мог. Ну, пусть же, думаю, скотиной своей попасу... Корова, та умная, та понимает, что на табак ей идти нельзя, та пасется, а эта, стерва, маленькая, а хи-итрость в ней: оглянется на меня, видит – цапаю, а сама надуется загривком, веревку чтоб от кустика оторвать... Я вижу это, а сам думаю: "Куда уж тебе! Ты же паршивая!.." И что же она все-таки? Оторвала ветку и так это швидко-швидко, как у нас говорится, идет-идет, и куда же? Прямо в табак!.. Я ей кричу: "Ты-ы!.. Куда?" А она оглянется, видит, что я далеко, думает: "Ни-че-го! Ты меня не догонишь!.." А сама дальше!.. А там же шпорыш промежду табаку, а он же сладкий!.. Ну, ты же, стерва, табак мой топчешь ногами, хоть ты его и не ешь, а это же чистый вред называется!.. Я грудку взял, в нее бросаю: "Куда, стерва?" А она себе дальше... Я цапкой в нее кидаю, ну, конечно, далеко, не докинул, а ей вроде бы игра: посмотрит, а сама дальше! И веревка та, ведь она за нею же волочится, а табак еще маленький, она же его, веревка та, душит... Не иначе – бежать мне туда к ней... Бегу, а она еще дальше... И хвост задрала, бегает по табаку... Игра тебе, стерва? Тебе игра?.. Вот же я распалился!.. До того я распалился, думаю: "Ну, догоню, убью!.." Я ведь ночей не спал, руки-ноги мне ломят, и пальцы все у меня потрескавши, болят... Из-за чего же все это? Из-за табаку. А она, стерва, по этому табаку, хвост задравши!.. Бегу я к ней, а сердце у меня: бух! бух!.. Как все равно кузня там... и в глазах у меня пот красный... И уж даже телку ту насилу разобрать могу от того поту... Бегу, – конец ей; убью!.. А она (хи-итрость в ней!) крик мой поняла и домой норовит через овраг... А веревка, конечно, за ней... А тут куст один колючий, – боярышник у нас зовут, не знаю, как по-вашему... Она мимо того куста, а веревка же само собой узел на конце имеет, и в том кусту застряла... Телка моя с размаху, как бежала, хлоп!.. (Тут Дрок проворно присел на землю показать, как именно хлопнулась телка.) Так что передние ноги под нее, а задние в обе стороны (это он тоже показал). Называется по-нашему "расшагнулась"... Если б старая корова так, ту бы означало резать, та бы уж встать не должна... Ну, а у телки кости еще мягкие, хрящик... Лежит она, бедная, а я к ней добегаю: "Ага, сволочь!.. Ты от меня бегать?!" Да грудкой ее в спину!.. Да еще грудкой!.. А веревка же ей глотку затянула, язык она вывалила, и глаза у нее даже закоченели. Я же внимания на то не обращаю, я знай ее колочу. "Ну, думаю, сейчас ей живой уж не быть!" А сам думаю: "Вот так и людей убивают..." И жалости у меня к ней ни вот такой капли (Дрок показал кулак)... Не жалость, а стремление одно, как ее половчей ударить... Ногой я ее поддел, она кувырк с бугорка... Ну, думаю, подыхает... И откровенно сознаюсь вам, ничуть мне мою телку не жалко, а только у меня одна радость: "Не ушла же ты от меня, стерва!" А она, вижу, дернулась и стала, под бугор она уж упор своим коленям имела, веревка ей отпустила... Стала и на меня глядит и дышит... А я... тут колючий куст такой, будяк по-нашему, – он цветами красными цветет и много от себя веток пускает... Сорвал я его, бью ее будяком по морде: "Ты будешь? Ты будешь? Будешь по табаку скакать?" И такая у меня радость, поверите, что не по ее вышло, а я ее настигнул... А корова моя, как я думал, она умная, посмотрела – меня близко нет, – дай, думает, и я пшенички попробую... Залезла так, где погуще (Дрок чиркнул себя по животу), тут спешит, рвет... Я ей: "Манька! Манька, черт!" Безо внимания!.. Я телку бросил, как она уж все равно уйти не могла, бежу к ней... А та, все же она умнее телки, повернула на прежнее, щипет, а сама на меня смотрит... Добежал я до ней, как хватил вот так, извиняюсь, за роги (тут Дрок очень крепко схватил Веню за обе руки и выкатил страшно глаза): "Ты-ы что это, а?.." Ведь это уж целая животная, а не то что телка... Роги у ней вострые, а я к ним животом пришелся, к рогам... Держу ее, а у самого думка: "Двинет меня сейчас, ведь это животная, я и полечу!.." Думка есть, а руки знять я уж не могу, а только давлю крепче... (Тут Дрок сдавил руки Вени, как клешнями, и нижняя челюсть у него задрожала.) И так я минуты три стоял, и корова стояла... "Почему же она стоит?" – так я себе думаю. Потому не иначе, что вошла она в понятие, и мне она стала покорная... Ведь я же работаю, разве она не видит? Ведь я же всю эту землю расковырял на ее почти глазах, а она корова уж немолодая..." – "Ты ж понимаешь, тварь ты?!." Вот так ее за роги трясу (он показал и это на руках Вени). Она стоит вкопанно... И до того мне была тогда радость... Вот, думаю, стою, и Петр Великий также... сына родного убил!.. За что же он его убил? "Я город на болотной местности строю, а ты моей смерти только ждешь, чтобы всю мою работу к свиньям!.." Я извиняюсь. "Так я ж тебя уддушу, сволочь ты этакая!.. Потому что ты мой кровный сын, и должен ты меня пуще всех чужих слушать: я тебе отец, а не что!.. А ты против свово отца идешь, ты его смерти ждешь, так вот же тебе смерть за это!.." Правильно!.. И я бы так само сделал... И вот тут думка моя на вас... (Он отпустил, наконец, руки Вени.) Говорил же, думаю, мне человек этот как-то: "Подчиняться надо, а что из того выйдет, потом уж смотреть!.." А я осерчал тогда на вас, извиняйте... Вот корова моя мне подчинилась, и большой шкоды она мне не сделала, и она послушная в моих руках... Може, думаю, она поняла своего хозяина, что нельзя ему вред приносить... "Тебе сейчас есть что кушать, а зимой из этой пшеницы отруби тебе будут, а год плохой будет, и солому пожрешь, все ж таки ты жива будешь, а вот пущу я тебя зимой на снег, ты и сдохнешь..." И так я, за роги взявши, минут, должно, не три, а десять стоял... Я об своем думаю, она, животная, об своем, и только ноздрями дышит... А только вижу я так, стали мы оба с нею согласные... "Ну, говорю, теперь иди, и бить тебя не стану..." Она два шага прошла, головой поболтала и опять себе траву щипать, а я за цапку... А довольный я от этого утра вот до чего! (Он опять чиркнул по шее.) Ну, с тем до свиданья!..
И Дрок снова протянул Вене желтую ладонь.
V
Ванька пас корову и насмотрел в канаве среди давнего мусора что-то позеленевшее, медное.
Ковырнул ногой, – оказалась небольшая граната.
В апреле восемнадцатого года штук двадцать таких гранат было послано с советского истребителя в город, занятый тогда отрядом контрреволюционных повстанцев – татар, и этого было достаточно, чтобы отряд кинулся в беспорядке в горы.
Граната, найденная Ванькой, должно быть, была кем-то потеряна, и никто не заметил ее целых десять лет. Таинственная, прильнула она теперь к рукам Ваньки, и он зажал ее крепко, по-воровски оглядевшись кругом.
Тут же в канаве он обтер с нее приставшую землю, потом куском кирпича старательно очищал с нее зелень, пока не заблестела, как новенькая. Теперь она стала похожа на большой ружейный патрон, и только теперь догадался Ванька, что именно он нашел.
Когда подошли к нему двое других пастушат, ребятишки счетовода Штукаренки, он сказал им важно, показав гранату:
– Это, вы думаете, что, а?.. Это, брат, такое, что стреляет!
И Ванька поднял гранату, как револьвер, и прищурил глаз. Штукарята отбежали с визгом. И так пугал их Ванька несколько раз, пока не надоело. Потом положил гранату на землю и стал швырять в нее камнями.
– Сейчас выстрелит! – предупреждал он Штукарят торжественно.
Нацеливался, иногда попадал и даже сбрасывал ее с места камнями, и она откатывалась, поблескивая начищенными пятнами, но не стреляла.
Даже и Штукарята осмелели. Одного из них звали Олег, другого Игорь, оба они страдали полипами и держали рты, как голодные галчата. Старший, Олег, счел даже своим долгом осмелеть гораздо больше, чем брат.
Он подошел к самой гранате, подбросил ее ногой, отбежал и засмеялся игриво:
– Вот это так стрельнула!
Ванька в досаде на это крикнул запальчиво:
– Не трожь!.. По морде получишь!
Однако граната стрелять не хотела, – это была обидная правда. И разыскав в той же канаве среди мусора толстый гвоздь и зажав в руке камень-голыш, Ванька взялся за свою находку насупленный и сердитый.
У Штукарят тоже была корова и телка, как и у Ваньки, и теперь четверо четвероногих, дружелюбно обнюхавшись и закинув на спину хвосты, разноцветно мелькая между кустами, бодро уходили от своих пастухов, склонившихся над своенравным медным цилиндром.
Очень много было солнца, и застоялся около воздух до большой густоты. В стороне от ребят домик с двумя старыми кипарисами явно спал, разомлев; синие тени от кипарисов на белой стене тоже спали; смолою пахло удушливо...
Ванька сидел, вытянув ноги и между ног положив гранату, по которой то здесь, то там с размаху рассерженно бил камнем. Надорванный козырек его кепки болтался отчаянно, так что Олег, сидевший на корточках около, следил за этим козырьком, разинув рот, а Игорь стоял на коленях и очень внимательно смотрел на медную штуку, дыша с прищелками и сипом.
Камень, которым орудовал Ванька, был тонкий, и разбился, наконец, надвое, а медная штука только непобедимо поблескивала.
Игорь решил презрительно:
– Она не будет стрелять! – и поднялся с колен.
Но Ванька тут же скомандовал ему:
– Поди камень-дикарь найди, какой побольше!.. Ступай, тебе говорят!..
И ворчал ему вслед:
– Тоже знает один такой: "Не бу-дет"!..
А когда Олег хотел взять в руки гранату, Ванька ревниво толкнул его в бок:
– Не трожь! – и глаза сделались разбойничьи.
Тоненький девятилетний Олег только наполовину закрыл рот, но обида Ваньки была ему понятна, а Игорь уже тащил преданно порядочный кусок серого гранита.
– Ага!.. Есть такое дело! – важно сказал Ванька, принимая камень. – Вот теперь она у нас стрельнет!
Он поковырял гвоздем в одном замеченном им месте, – оказалась забитая сухой землей впадина. Сюда вставил он кончик гвоздя, подмигнул обоим Штукарятам, плюнул на камень, точно колдовал, плотно установил в земле снаряд "на попа", еще раз примерил гвоздь, еще раз подмигнул весело и ударил по гвоздю изо всей силы.
Десять лет дожидавшийся такого именно случая маленький снаряд оглушительно разорвался.
Игорь был убит наповал: осколок попал ему в любопытно раскрытый рот и развалил череп. Олегу раздробило ногу. Ванька же отделался дешевле: ему только оторвало прочь левое ухо и сорвало небольшой клок кожи с головы.
Первой обратила на это внимание пестрая корова Штукаренки. Она присмотрелась издали к лежащим ребятам и замычала протяжно. Потом из того сонного домика с двумя кипарисами неторопливо вышел старичок, сделал из обеих рук козырек над глазами и долго глядел, почему так странно лежат и как будто стонут даже после какого-то грома трое ребятишек?
В больнице койки их были рядом: Ваньки с забинтованной головой и Олега, которому в лубок заделали ногу. Жена счетовода Штукаренки тоже лежала в женской палате, самому же счетоводу было не до больницы: предстояла ревизия отчетности в Горпо.
Босоногий Дрок сидел на табурете около койки своего старшего и глядел на его обмотанную голову остолбенело.
Сжимая на обеих ногах одни только далеко от других отставленные большие пальцы (он мог это делать), Дрок говорил придушенным голосом:
– Ты оказался всему этому делу зачинщик, и вот бог тебя перед неповинными спас... Они же молодше тебя и должны быть тебя глупее, а наказаны они дужче... И даже так (и тут он совсем понизил голос), что одного и на свете уж нет больше... Ты об этом что-нибудь думаешь дурацкой своей башкой? Думаешь или же нет?
Ванька отозвался угрюмо:
– А чего мне думать?
– Как это чего думать? Как чего?.. Ты, выходит, для неповинных убийца и враг, – вот ты кто!
Глаз Ваньки сквозь бинты глядел дремуче и невозмутимо.
Дрок снова понижал голос до шепота:
– Этот мальчик – он безногий калека теперь будет, и разве же он тебе простит?.. Никто свое уродство прощать не должон!.. Вот!.. И он так же само...
– А мне что? – спросил Ванька.
– Как это что? (Дрок разжал пальцы ног и сжал кулак.) Ты зачинщик этому делу, и бог тебя помиловал перед другими... Должон ты каждый день все молитвы читать утром и вечером...
Ванька молчал и глядел таинственно.
– Понял? – наклонился к Ваньке отец.
– Нет, – твердо ответил Ванька.
– Как это так "нет"? – отшатнулся Дрок, подняв брови.
– Зачем? – очень серьезно спросил Ванька.
– Молиться, что от смерти спас, зачем? – испугался Дрок.
– Кому это? – чуть насмешливо спросил Ванька.
– Богу, вот кому! – сказал Дрок громко на всю палату.
– А бога и вовсе никакого нет! – серьезнейше отозвался из-под бинтов Ванька.
Несколько длинных моментов Дрок сидел отшатнувшись и глядел только на белую, в тряпье, пухлую голову десятилетнего сына, потом он исподлобья оглянулся туда-сюда, не слышал ли кто ответа Ваньки, когда же убедился, что Олег Штукаренко спал (а соседняя койка в другую сторону от Ваньки была пустая), он просипел хрипло:
– Ты-ы... как это... смеешь так, подлец!
Ванька немного подождал с ответом, потом сказал просто:
– Так и смею.
– Кто же тебя наказал... и меня в том числе?
– Никто, – ответил Ванька.
– Ну, после этого издыхай! – бурно поднялся Дрок. – Издыхай, когда такая ты стерва!
И вышел из палаты торопливо и испуганно, ни на кого не оглянувшись кругом.
От ворот больницы Дрок, сам не зная зачем, но очень убористо шагая, пошел на квартиру к Штукаренке. Он не знал даже, о чем будет говорить с ним, только непременно хотелось ему узнать, есть ли в квартире его иконы.
Дрок был так растревожен, что даже не замечал, как он бормочет, глядя вниз на мелькающие свои пыльные босые ноги: "Кто больше наказан, тот больше и виноват!.. А Штукаренко же – он ведь член союза безбожников!.."
Наполовину ему казалось ясным это смутное дело, но если сам Штукаренко служил счетоводом и ему, может быть, иначе было нельзя, как сказаться безбожником, то жена его ведь просто была домашняя хозяйка, и на ее попечении росли дети.
Штукаренко от больницы жил далеко – в том же конце города, где и Дрок. Квартира его оказалась запертой, однако насчет икон Дрок справился у соседей. Икон не было.
– Та-ак! – понимающе качнул головою Дрок. Для него теперь совершенно ясной стала вся эта история с гранатой.
Чтобы попасть к себе, он должен был взять подъем и выйти как раз на свой участок. Подъем он сделал, не заметив его, – так он был поглощен загадкой, которую задала ему жизнь. Когда же он стал на перевале, то увидел в недоумении: по земле его ходил Дудич, длинный, жилистый рыжеусый человек, поселившийся с женою в той самой комнате, которая ему, Дроку, показалась так несчастно мала. Дрок нарочно присел за куст и видел, как Дудич растирает на ладони колосья его пшеницы, как рассматривает он початки кукурузы, как ковыряет землю в тех местах, где у него бураки, и морковь, и пастернак.
– Эгей!.. Товарищ Дудич! – заорал, вставая и стервенея, Дрок. – Вы что там у меня хозяйнуете?
И прыжками, не предвещавшими для Дудича спокойного разговора, он ринулся вниз. Дудич посмотрел на него, пожал плечами и, так как стоял он около ограды, то, спустив колючую проволоку с кола, перешагнул, высоко занося длинные ноги.
Даже и еще шага на четыре отступил от ограды Дудич: очень зло полыхали черные глаза Дрока, когда подбегал он к ограде, крича:
– Вам это чего у меня... надо было?
Дудич покачал головою:
– Вот же человек вздорный, ай-яй-яй!.. Ну что же, я у вас украл что или как?.. Не украл же, нет, глядите! – и показал руки не менее дюжие, чем у Дрока.
– То я хорошо и сам видал, что не украл, а чего бы я ходил-топтал по чужому участку, раз он есть чужой? – кричал Дрок.
Дудич расправил рыжие усы, покивал головою, громко плюнул вбок, не спеша повернулся и пошел, чуть согнув широкую спину, из тех спин, которые любят землю и которые любит земля.
VI
Не совсем безразлично относился Дрок к Недопёкину: пожалуй, он его даже побаивался немного.
Было однажды с ним такое, что, вполне доверчивый к своей земле, он выкопал из нее фалангу, которой никогда не случалось ему видеть раньше. Ядовитое паукообразное поднялось на задние ноги и кинулось на лопату Дрока. Ему даже показалось, что оно пискнуло при этом, и он отступил в недоумении шага на два и потом целый день был в раздумье.
– Ну, уж ежели пауки стали пищать и на людей кидаться, так это что же? – говорил он Фросе, и в этот день все ему казалось подозрительно преображенным.
Так же пугающе на его глазах – правда, не в один день – преобразился Недопёкин, и если он не мог бояться старика, совершенно бессильного, конечно, то зато он начал бояться старости, которая всесильна, и когда-нибудь с ним, Дроком, сделает то же, что с Недопёкиным. Теперь и старость Дрок представлял именно такою: она белая, она колченогая, она глупая, она сама не знает, зачем бременит землю, она просит, чтобы ее отравили, только потому, что отлично знает – никто не будет ее отравлять, так что и в глупости ее есть какая-то хитрость, а зачем эта хитрость? Между тем несколько лет назад Пантелеймон любил говорить с Недопёкиным, потому что тот, тогда еще не разбитый параличом, говорил очень складно: Дрок даже почтительно его слушал, как ученик учителя.
Когда простые, кряжистые землеробы, родились ли они в Звенячке или другом селе, подходили к сорока годам, они начинали прислушиваться к белобородым.
Сорокалетние сами подходили к завалинкам, искали мудрости шестидесятилетних: так строилась неторопливая прежняя жизнь во всех Звенячках, и Дрок подходил к Недопёкину, будто повинуясь инстинкту.
Они оба были крикливы, но здесь, на пустынной горе, они иногда понижали голос, как заговорщики, и часто оглядывались в стороны и назад.
Но было одно, о чем они говорили громко, – это о боге. Дрок верил в то, что одна белобородая старость только и может знать об этом как следует, и видел, что Недопёкин знал. И, поговоривши с ним так час и более, Дрок начинал сверкать глазами, краснеть от шеи к ушам, и, вытянув пальцы к самым глазам старика, он кричал, сгибаясь в поясе:
– Там за другое что нехай они говорят, что им завгодно!.. Но уж что касается за бо-ога, то уж за это любо-ому я выдеру очи!
Однако оглупел Недопёкин на его глазах: стал косноязычен богопознавший, неподвижен, неопрятен, даже и страшен чем-то нелюдским; и еще заметил Дрок, как другие исконные хранители мудрости старики или глохли, или слепли, или совсем обрушивала их жизнь, как хлам, как ветошь; прежде их было куда больше, прежде они были гораздо заметнее.
По воскресеньям Дрок неизменно ходил в церковь. Он делал это торжественно. Он брал за руку кого-нибудь из своих мальчуганов и медленно шел по набережной к церкви. На голове его важно чернела фетровая шляпа. Она чернела так не только зимою или осенью, даже и летом; просто шляпа эта была то самое, в чем он, Дрок, должен был идти к обедне. Очень угловатое лицо Дрока под этой шляпой казалось каменно-величавым.
Когда его выбрали председателем церковного совета, он не только не удивился этому, но сказал серьезно и с достоинством:
– А кому же еще больше и быть председателем? А вже ж больше и некому, как мне!
И если прежде он был в церкви только очень показательно богомолен, то теперь, входя в церковь, он становился даже, пожалуй, высокомерен, как всякий, облеченный властью.
Землетрясение сильно повредило церковное здание, и это было первое, что поразило Дрока. Можно сказать, что трещины, засквозившие под куполом, в нем самом засквозили. Он и бежать хотел из Крыма больше поэтому: стало ясно вдруг, что действительно должен провалиться Крым, если даже церковь лопнула вкруг всего купола и накренилась колокольня. Он подходил теперь к церкви, не надевая шляпы, а подходить нужно было часто: в церкви запретили службы, даже хотели закрыть ее совсем как опасную для населения. Когда толчки прекратились и перебрались люди из легких фанерочных палаток в свои дома, заметались по прихожанам поп, древний уже, в линючей лиловой рясе, и дьякон – помоложе, похитрее, в рясе из темно-синего репса. Поп выписывал даже "Вестник знания" и пытался вчитываться в статьи о морской капусте, о путешествиях угрей, об электронах и протонах, всячески пытаясь для самого себя согласить старую религию с новой наукой, но дьякон давно уже махнул на все рукою и шил на продажу мишек из бежевого кретона; он делал бы их из плюша, но где же было взять плюш?
По склонности к некоторому озорству и по насмешливости своей натуры он придавал мишкам из кретона весьма плутоватый вид, а так как ценой на них не дорожился, то шли они довольно бойко, и не только местные гречата, даже и гораздо более косные татарчата увлекались мишками дьяконовского изделия. Беда была только в том, что трудно было доставать подходящий кретон, поэтому на всех торгах можно было увидеть дьякона: жадно следил, не появится ли какая-нибудь старая, но пригодная рухлядь.
Кроме того, он очень искусно делал чучела из птиц, но это уменье приносило ему гораздо меньше пользы: на чучела меньше находилось охотников.
Так как Дрок ни одному из своих ребят никогда не покупал никаких игрушек, считая это баловством, то не уважал он и дьякона, но попа он спросил шепотом, кивая на треснувший купол:
– Как понимать это, батюшка?
Древний поп, кутаясь в лиловую ряску, сидел около окна и читал в это время в "Вестнике знания" статью под ошеломляющим заглавием: "Действительно ли шаровидна земля, или она – многогранник?" – и, с оторопью сквозь круглые очки глядя на Дрока, он ответил ему также шепотом:
– Испытание!
Этот ответ был как раз тот самый, которого желал Дрок, поэтому рабочим-строителям он всячески силился внушить, что ремонт церкви они должны сделать бесплатно.
Деньги на ремонт собрали, церковь поправили, опять зазвонила колокольня, но беспечный церковный совет не застраховал рабочих. Он не страховал их и раньше, когда приходилось делать покраску крыши, побелку стен. Наросла большая пеня.
Между тем зажиточные раньше и богомольные греки, бывшие лавочники и табаководы, теперь обеднели. Зашушукались русские старушки и начали было ходить по дворам, кланяясь низко и жалобно выводя:
– Пожертвуйте, что в силах ваших, на церковь божию!..
Но очерствели людские сердца.
Собрали так мало, а срок уплаты по суду в страхкассу был уже так близок, что дьякон забрал все, что было собрано, сказал совершенно убитому и растерявшемуся попу, что поедет жаловаться куда-то в центр и на суд и на страхкассу, и действительно уехал, и прошла неделя, две, шла третья, а он не возвращался.
Для Дрока настали дни настоящего испытания: теперь он должен был спасать церковь, он один. Последнее, что прочитал ветхий поп в "Вестнике знания", было: "Фотографирование желудка". Это новое изобретение какого-то американца было для него каплей, переполнившей чашу всяческих бед: он слег, укрылся лиловой ряской, и, когда к нему приходили старушки справиться, как же быть с деньгами, он тянул жалобно:
– Что же я-я?.. Отхожу уж я!.. Идите к председателю совета... Он это должен...
И отворачивался лицом к стенке.
Дрок взялся было за дело яростно, как за всякое дело. Так как шел уже октябрь, то земля отдыхала от него, он от земли, и в маленьком городке на узеньких улочках он метался в волнении чрезвычайном. Он обходил прихожан уже не вымаливая, как старушки, а требуя. Он кричал и ругался. Из двух квартир его выгнали. Одна скромная женщина на всю улицу кричала ему вслед:
– Вымогатель!.. В милицию сейчас пойду!.. Вымогатель!..
К концу третьего дня метанья по городу Дрок чувствовал себя куда более усталым, чем это было при его обычной работе: как будто бы церковь падала, а он вздумал ее поддерживать, упершись ногами и подставив плечи – ноги у него начали дрожать, спина ныла. Даже и Фрося решилась сказать ему:
– И будто бы церковь, что же она, – ребят, что ли, наших будет кормить?
Сказала между делом и пошла доить корову, но Дрок ничего не нашел, чтобы ей ответить: подходил уже срок взноса денег, и грозили описать его имущество.
– Как это вы говорите: описать? – яростно спрашивал Дрок.
Ему ответили:
– Очень просто: описать имущество и продать с торгов.
– То есть, это значит и мою хату тоже?
– Раз вы председатель, то значит с вас первого и начнем.
В страхкассе сидели серьезные люди, Дрок это видел. Ему начало казаться, что делатель детских мишек и птичьих чучел просто ограбил церковь, весь приход, ограбил и его, Дрока, тоже, потому и бежал.
Однажды он встал в три часа ночи, зажег лампочку и на клочке линованной бумаги дрожащими неуклюжими буквами написал объявление в газету:
"Я, Пантелеймон Дрок, совершенно от леригии отказуюсь!"
Ему казалось, что написать надо было гораздо больше и объяснить все, но сведущие люди, с которыми он толковал в этот день, сказали ему, что чем объявление длиннее, тем дороже.
Утром он послал это объявление, положив в конверт рублевую бумажку.
Объявление напечатано не было; рублевая бумажка пропала так же, как пропал без вести и дьякон, но Дрок больше уже не хлопотал о церкви.
Кстати, ветхий поп отошел, и церковь отдали под клуб пионеров.
VII
Давно мешал Дроку большой камень на его земле – кусок серого гранита, и когда вырыл он ниже камня копанку для дождевой воды, явилась дельная мысль спустить камень в копанку: пусть там и лежит.
Но, заложив лом под камень и понатужась поднять его, почувствовал Дрок, что хряснуло у него в пояснице, и руки сразу стали бессильны, и обмякли ноги. Лом он оставил под камнем, а сам, звериным инстинктом почуяв, что надо скорее домой, смурыгая ногами, согнувшись, опираясь на держак цапки, кое-как добрался к себе и лег на кровать в сапогах, как был, а когда хотел подняться и снять сапоги, не мог уже этого сделать.
Фрося, придя с базару, спросила крикливо:
– Ты что же это – с грязными чоботами на одеяло?
Дрок поглядел на нее кротко и ответил вполголоса:
– Вступило.
Он слышал, рассказывали старики, что иногда что-то такое "вступает" в поясницу, и уж не сомневался в том, что это оно самое и есть. В небольших лесовых глазках его была теперь не только кротость, еще и недоумение, и даже испуг, и тоска, пожалуй.
Когда Фрося принялась стаскивать с него сапоги, он вскрикивал и стонал от боли.
– Что же это такое обозначает? – робко спрашивал он жену.
– А по-чем же я зна-аю?.. – кричала Фрося, и зеленоватые ее глаза с золотыми искорками выражали не сожаление к нему, а в них была – он это видел – явная злость.
Только теперь, лежа бездельно на спине весь день, он замечал, как нет у нее ни минуты времени для жалости к нему. То она готовит у плиты, то рубит дрова, то идет кормить и доить корову, то бежит отбивать курицу у ястреба, и визжит при этом пронзительно, чтобы его напугать, то укачивает маленькую, то оттаскивает от дверей Алешку, обдуманно набивающего себе шишку на лоб, то утешает плакучего Кольку, то чинит рубаху Митьке, то разнимает Ваньку с Егоркой, которые вцепились друг другу в волосы, сосредоточенно колотят друг друга ногами и сопят... А вечером, при лампе, он знал, ей надо еще сидеть допоздна, за папушами.
– Может, ты бы в больницу меня? – робко сказал ей Дрок на другой день утром, увидя, что ему не лучше.