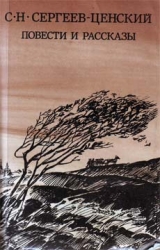
Текст книги "В поезде с юга"
Автор книги: Сергей Сергеев-Ценский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Сергей Николаевич Сергеев-Ценский
В поезде с юга
Рассказ
1
В плацкартном жестком вагоне, идущем с юга в Москву, осенью, было очень накурено, а в том купе, в котором ехал инженер-строитель Мареуточкин, играли в домино, и к двум сидевшим внизу пассажирам пристали еще двое из соседнего купе. Получилось и тесно и шумно.
Мареуточкин, поглядев на них сверху, сказал недовольно:
– Пустая игра! Вот уж никогда не любил я этого домино.
Потом он слегка похлопал себя по груди, взял полотенце, мыло и пошел умываться.
Грудь у него была широкая, плечи тоже. На вид – по четвертому десятку, приземист, но молодцеват, белокур; несколько близко к носу посаженные глаза хотелось бы при первом взгляде на него раздвинуть. (Бывает так, что в том или ином только что встреченном лице хочется произвести маленькую переделку; наверное, гримировщикам очень знакомо подобное чувство). Но своими сближенными глазами Мареуточкин всматривался во всех внимательно и особенно пристально, изучающе разглядывал он неторопливую по своим движениям, хотя и нетяжелую женщину, занявшую верхнее же, против него, место, освободившееся рано утром в Александровске. Терпеливо вынося клубящийся около нее дым, женщина лежала и читала какую-то новую, в цветной обложке, толстую книгу. Когда он, спавший в вагонах вообще чрезвычайно крепко, проснулся, то даже не понял спросонья, в том ли он едет вагоне, в каком ехал, так как с вечера, в Севастополе, устроился наверху кто-то мрачный, сразу повернувшийся к нему спиной. И вот теперь эта женщина, с белыми крупными руками, круглым подбородком, прямым носом, высоким лбом, с простою прической назад, с простеньким рисунком ситцевого платья и серым теплым платком, каким она покрылась вся: как она лежала, слегка колышась от тряской езды, показалась Мареуточкину до такой степени знакомой, как будто он ехал с нею уже долго, недели две, откуда-нибудь из Владивостока, что ли. Такая почудилась ему в ней домовитость, такой уют, что это именно ради нее слегка похлопал он себя по широкой груди и, глядя на нее, сказал о домино: «Пустая игра!» – и именно затем, чтобы она видела, так проворно и ловко соскочил вниз, чтобы умыться.
А когда минут через десять вернулся он, посвежевший от холодной воды и тщательно причесавший редкие волосы, то очень редкостным каким-то приемом, чуть коснувшись пальцами полок, вскочил он на свое верхнее место и к читавшей по-прежнему женщине обратился с улыбкой, по-детски наивной и вызывающей ответно такую же улыбку, если не у всех, то у многих:
– Очень странно было мне, знаете, вставши видеть: тут, на вашем месте, как камень прямо, спал один какой-то, – портфель в головах. Так скоро он захрапел, что не успел я и спросить даже, далеко ли он. Думал, впрочем, что до Харькова. А вы?
– Что я? Далеко ли еду? До Москвы, – просто сказала женщина, повернув к нему карие чистые глаза.
– Вот как! В Москву? Я тоже. Вы туда к родным? – очень оживился Мареуточкин.
– Нет, у родных я была в Запорожьи. Теперь опять на службу.
– Ах, вот как! И служите даже у нас в Москве? Это замечательно.
И Мареуточкин так обрадованно потер рука об руку и так светло на нее поглядел, что она спросила, улыбнувшись:
– Что же именно тут замечательного?
Голос у нее оказался грудной. Очень именно такие голоса нравились строителю.
Внизу под ними звякали яростно костяшки домино. Там приспособили для игры вместо стола чей-то длинный рыжий чемодан, прикрыв его газетой, а на вагонном столике важно стояла бутылка, хотя и зеленая, толстого стекла, но едва ли с фруктовой водой; рядом же с нею грудой лежали крупные куски колбасы и яркие половинки яиц вкрутую.
Внизу было шумно. Там кто-то рассказывал длинный анекдот и никак не мог его закончить, пытливо хватаясь то за одну, то за другую из своих костяшек; там густо курили и кашляли, вскрикивали от неудач, а иногда дотягивались до столика и пили стаканом едва ли фруктовую воду.
Проводник вагона – маленькая, курносенькая, пучеглазенькая, в черном шлыке и спецовке, проходя мимо играющих, замечала возмущенно:
– Сколько же это разов говорить вам, товарищи, чтоб вы на пол окурков, бумажков не бросали?! На бумажки, на окурки мусорный ящик вон есть. Также и для шкорлупок яишных.
На это один из игравших однообразно отзывался:
– Ну, и сердитая она, страсть! Конфетку ей, что ли, дать, утихомирить?
Мимо то и дело ходили умываться, укутав полотенцами шеи. В окнах мелькали хаты колхозов, желтая стерня, журавли колодцев, золотые скирды пшеницы и суровые черные молотилки посреди скирдов.
Вопрос женщины с чистыми карими глазами и с ласковой округлостью не успевших в Запорожьи за короткий отпуск загореть щек заставил Мареуточкина шевельнуть малозаметными бровями, погладить выпяченную грудь и сказать многозначительно:
– Очень неудобно говорить мне тут с вами, а надо бы поговорить покрупнее… Непременно надо.
И он замолчал, покусывая губы, а она, внимательно или нет, продолжала читать книгу, разрезывая листы ее шпилькой.
Вдруг он спросил ее, подвинув к ней голову:
– Вы где же все-таки служите в Москве, если это, конечно, не ваш секрет?
– Вот тебе на! Какой же секрет? – улыбнулась она. – В детском очаге служу. Заведующей.
– Ка-ак? С детьми, стало быть, имеете все время дело? – очень изумился Мареуточкин.
– Что же тут страшного, если с детьми?
– С детьми все время, и… и лицо у вас не дергается, и вообще… удивляюсь! Предстоит у нас с вами большой разговор в таком случае. Предстоит.
Мареуточкин сделал знак рукой вниз, поморщился, но при новом взгляде на женщину плотное лицо его стало вдохновенным, как это бывает иногда с человеческими лицами, когда они до последней складки на переносьи переполняются вдруг вспыхнувшей мыслью, идущей из самого их естества, а не откуда-то извне.
В это время рассыльный из буфета, насмешливый малый в белом халате, проходил по вагону и выкрикивал без увлечения:
– Граждане, кому что желается? Есть яблоки, есть пряники, есть бутерброды. Простокваша есть по рублю двадцать бутылка, нарзан есть две бутылки. Еще есть вареные раки, восемь штук.
– Раки? Что? Раки? – так и подскочил на месте Мареуточкин. – Восемь штук? Большие? Черт! Так давно не ел раков, что аж…
И он легко, как обычно, соскочил вниз, потом, торжественно держа за клешни восьмерку красных раков, как букет георгин, подкачнул головой соседке:
– Вот они… Наши…
А взобравшись к себе, заговорил радостно:
– Раки, а? Сюрприз! Давайте-ка будем есть с вами раков. Вы завтракали? Нет? Как же так? Ну вот и отлично, будем кушать раков! Ужасно неудобно, что на верхних местах нет столиков. Тут, возле окна, могли бы устроить такой откидной кверху столик, и было бы ши-кар-но. А? Вы не находите?
Женщина, ведавшая там, в Москве, детским очагом, смотрела на него так же привычно спокойно, как смотрела она, должно быть, на всякие выходки ребятишек. Раков же она есть не хотела: раки были ей всегда и вообще противны.
Он сначала удивился этому, но потом, деятельно вылущивая рачьи шейки и самоотверженно высасывая что-то там такое из внутренностей, он припомнил найденно:
– Правда… Бывает это иногда у женщин. Одна моя знакомая говорила даже так, будто раки утопленниками питаются. Явная все-таки чушь! Много ли бывает утопленников, а сколько же раков? Наконец, начнем с того, что утопленников ведь всегда вытаскивают из воды… разумеется, я о мирном времени говорю. Нет, это чепуха! А в море если… Я, признаться вам, около моря вот прожил целый месяц, а раков что-то там не видал. Едва ли они в море и водятся.
Полулежа на своем месте, он съел всех раков с нескрываемым удовольствием. Обломки рачьих панцирей завернул аккуратно в газету и оставил пока около себя, так как окно было закрыто, а соседке сказал:
– Ну, вот: хоть и не очень сыт, все-таки закусил. Нет, вы об раках плохо не говорите. Вот молоко тут рядом с нами старичок один пьет, с утра уже четвертую бутылку, это, конечно, рекорд! И что уж с ним будет дальше – неизвестно, потому что молоко у баб на станциях всякое бывает, – это раз, а потом, скажите, куда же, к черту, так много? Вот я проходил умываться, над ним все смеются, а он дует себе из горлышка – и ни мур-мур! Вот этого уж я не понимаю, а раки что же? Конечно, мясом не назовешь и рыбой тоже, а все-таки своя питательность в них должна же быть. Если съесть полсотню, например, больших, а? Я думаю, все-таки сытым можно быть, а? Как вы находите?
Она пригляделась к нему, по-прежнему улыбаясь, и ответила, растягивая слова:
– Да-а… Вот же ведь есть эти консервы… в круглых таких красных коробках… как их называют? Омары? Да, омары. Те же ведь раки.
– Ну вот, а как же? – торжествовал он. – Омары! Это вы хорошо вспомнили. Мне их случалось есть. Но-о… одной коробки для человека, конечно, мало. И они скоро киснут. Они с Дальнего Востока, знаю. А наши раки, – эти уж, конечно, вполне свежие, о них ничего плохого не скажешь.
Курносенькая проводница кричала внизу рассерженно:
– Двадцать разов я вам предупреждала, товарищи, чтобы бумажек никаких не бросать. Вот пойдет контроль, – как я должна глазами моргать? И когда же это вы в стенгазету нашу напишете? А то уж мы к Павлограду подъезжаем, а от вас ничего нет. Вот в первом вагоне чемодан ночью сперли, а у меня, небось, никакой пропажи никто не заявил: я без билета, небось, никого в вагон не впущу.
Кто-то отозвался ей:
– Ты у нас молодчина!
– Вот и пишите в газету. А то – «молодчина», а никто не пишет.
– Небось, напишем.
Мареуточкин сказал соседке:
– Слыхали? К Павлограду подъезжаем. А там же ведь кипяток… Хотя пишут его тут «окрт», все-таки понять можно, ежели знаешь, что это за «окрт». Чайника вот только у меня нету. У вас нет ли? Давайте, схожу.
– Чайника? Нет, не захватила.
Искренне удивился Мареуточкин:
– Как же это вы так? Наш брат, разумеется, как собирается? Тяп-ляп, – лишь бы портфель взять, – и готово. Женщина же;– она все обдумать должна, также и чайник.
– Да у меня просто не водится такого дорожного. Да я и не люблю в дороге чаевничать.
– Гм!.. Что же, вам и пить никогда не хочется?
– А когда пить хочется, я воду пью, – улыбнулась женщина, и Мареуточкин тоже улыбнулся ответно.
– В хозяйстве это, конечно, прямая выгода.
А так как подъезжали к Павлограду, он добавил, глядя в окно:
– Здесь шпалопропиточный завод: пропускают шпалы через этакий состав смолистый, чтобы не так скоро гнили. Я эти места хорошо знаю: стояли мы здесь во время гражданской войны. Тут недалеко есть село Вербки, там махновский батько Балабан двести тачанок держал, а тысяча человек конницы в этом вот самом Павлограде у него находилась. Он потом к нашим красным войскам перешел, потому что видел, конечно: сопротивление бесполезно, – раз, а что касается идеологии, то на чьей же она стороне? Разумеется, на нашей, а на ихней один только самогон. Послали мы к ним двоих верхами с бумагой: так и так, братцы, канитель вашу советуем вам прекратить. Они тут же ночью собрание свое. Орали, орали, а наутро выступили к нам в полном порядке: тысяча конницы, двести тачанок.
– А вы разве были в Красной Армии? – пригляделась к нему внимательней женщина.
– Ну, ясно! – погладил он себя по груди. – Я ведь еще мальчишкой, восемнадцати лет, на рижский фронт попал, в царскую армию. Как же! Латышки там, помню, вот уж, действительно, хозяйки! Она так вот, чтобы солдата с похода в избу к себе пустила, ни за что не пустит. Нет, ты поди сначала березку сруби, да дров приготовь, да баню истопи, да в бане вымойся, – вот только тогда латышка тебя в избу пустит. Очень это солдатам всем нравилось. Он и помоется, и попарится, а за стол потом к латышке сядет, – конечно, он чистый. И ей ни одной вши не принесет, и от нее, он уж в этом уверен, не получит. А потом уж, конечно, во время гражданской, как мы на Украине в этих местах вот были, то уж тут, разумеется, ни березок, ни бань, и своих вшей в каждой хате было вполне достаточно. Я об этом с вами, конечно, не хотел бы и говорить, да так пришлось к разговору. А кстати, в детском очаге вашем с ребятами ведь занимаются же чем-нибудь?
Женщина улыбнулась:
– И занимаемся, и играем, и песни поем, и мало ли что еще.
– В Москву приедем, как-нибудь к вам зайду посмотреть на этот самый очаг, а? Можно? Вы меня не прогоните? – очень искательно поглядел на нее Мареуточкин.
И она отшутилась:
– Куда уж нам таких вояк выгонять! Мы там все женщины мирные… И даже в женских батальонах никто из нас не был.
Перед Павлоградом Мареуточкин все-таки достал у кого-то в вагоне чайник и потом со станции торжественно принес кипятку.
2
Часам к двенадцати по вагонам стала ходить девица из буфета с пышно завитыми волосами и со значком на отвороте своей форменной блузы – записывать желающих обедать в первую очередь.
– Что? Обедать? Я непременно! – поспешил отозваться ей Мареуточкин. – Я – и вот моя соседка тоже.
– Как? Я-я? – удивилась соседка.
– Да, вы! А что же? Вещи ваши ведь не украдут, – вот и пообедаем. Прекрасные обеды, я знаю, и полнейшая дешевка. Может быть, у вас в деточаге и лучше кормят, и дешевле, этого я не знаю, но-о… непременно, непременно запишитесь.
– «Два обеда… Первая очередь», – записала в свою книжечку кудрявая и пошла дальше.
И в вагоне-ресторане потом, часа в два, они обедали вдвоем – инженер-строитель Мареуточкин и заведующая деточагом Груздева. Это уютнейшее и сытнейшее место в поезде и было то самое место, в котором он наперед решил поговорить как следует с женщиной, имеющей такое спокойное лицо и такие добрые карие глаза.
Исправно пережевывая все крепкими зубами, даже спинные хребты мелкой кефали, он говорил:
– Я – сверхметкий стрелок, и даже не просто снайпер, а сверхснайпер. Из двадцати пяти выстрелов – двадцать пять попаданий. Подбросьте мне яйцо, и я его разобью пулей. Я без промаху бил по такому яйцу, которое… как бы тут сказать… в фонтане прыгало. Знаете: вода все время бурлит, яйцо все время делает так – зигзаги такие, – никому не удавалось попасть, только я попадал. Хотя фамилия моя и Мареуточкин, только я из Польши, из самой Варшавы, и мать у меня – чистокровная полька, и работали мы с отцом на заводе Штукенберга, а как же! В начале войны и завод эвакуировали в Москву, и нас с отцом. Тогда мы попали уж на другой завод. Я был тогда широкий в плечах, а тут, в поясе, узкий, и все женщины на заводе были в меня влюблены. Я на турниках мог так вертеться, даже на одной руке, представьте, – ах, что я вытворял! А также молотом двадцатифунтовым я так мог бить, что все любовались. Ж-жах! Ж-жах! – только искры кругом. Эх! И когда я войну гражданскую кончал, – уже мир с Польшей был тогда заключен, – оставался один только Врангель, – мне так тогда захотелось потомство свое видеть, что я тут же женился и все жену свою спрашивал: «Ну, что? Как? Нету еще?» И вы понимаете, какая мне была радость, когда узнал от нее: беременна. Я тогда ее всячески берег, я тогда всячески, чтобы от меня хороший был ребенок, понимаете, эх!.. Теперь ему уже двенадцать лет, и он так же умеет на турниках, – настоящий акробат, и со своим дядей, – есть у меня младший брат, Петя, – тот станет, и так руки вверх, а мой сын, Витя, он ему руки в руки и ноги кверху, и так представляет! И учится хорошо, очень способный! Я и сам способный. Вы думаете, это шутка была мне – математикой и физикой заниматься, чтобы экзамены в институт, бывший гражданских инженеров, сдать? Ого!
Это была не шутка. Я, когда раздался такой клич: «Пролетарии на коня!» – я сел на коня, как я прирожденный пролетарий, хотя я беспартийный был, и сейчас беспартийный. В Москве у Моссовета говорили тогда нам речи, и я сам тоже прокричал свою речь и шашкой по воздуху показал, как мы рубить будем. А ведь тогда так было: тогда даже из взводных командиров были такие, что ленчик привязывали к потнику задом наперед. А в деле, когда уж рубить надо на совесть, он шашкой в плечо раз! Тот: «Ой!» – да бежать. Он догоняет, – р-раз в голову! Ца-ра-пи-ну сделал только, а тот бежит. Шесть раз этот взводный догонял того человека на лошади своей и все его рубил, а тот все – «ой!» и дальше. Шашкой рубить – это же силу надо иметь и, конечно, умение. А то зачем нас и учили хворостинки срубать? На всем скаку руби и промаху не дай, и сруби чисто. Так вот, значит, такое дело! Наперли на Врангеля и Перекоп взяли, но я уж в то время в тыловой канцелярии был, потому: что два ранения я получил, а, кроме того, два тифа перенес, – сыпной и возвратный. А тут получился из Москвы приказ: освободить студентов для учебы. Я хотя студентом тогда еще не был, все-таки, как я и раньше заявлял, что хочу учиться, то я на подобном учете состоял, – меня и отправили в Москву. Правду вам сказать, я все-таки по математике готовился, а вот по русскому языку – экзамен. Оказалось, профессор по русскому языку экзаменует. Я же, знаете ли, на свои ответы, конечно, не надеюсь, а только выставляю ему рукав с нашивками, чтобы он видел, сколько у меня отличий всяких. Тогда на рукавах это все нашивалось. И вот мой профессор – человек он оказался очень хороший – смотрит, смотрит на этот рукав и спрашивает: «Что же это такое обозначает – нашивки и прочее?» – «Как же, – говорю, – товарищ профессор: это для нас все – весь формуляр и послужной список». – «А какой же, – говорит, – у вас чин?» – «Чинов, – говорю, – у нас теперь нет, а по должности я – командир полка». – «А вы, – говорит, – почему не в Военную академию, а в наш институт?» – «Хочу, – говорю, – поработать над построением социализма в нашей стране». – «А Гоголя вы, – говорит, – читали? Пушкина читали?» Я говорю: «А как же!» Сам же стою, думаю, когда же я их читал? Между тем что-то такое помню. И что же? Я все-таки вспомнил: «Ревизора» один раз на сцене видел и «Евгения Онегина» в опере, в Москве. Я ему и ответил. «А написать вы что-нибудь можете? Например, почему именно вы хотите быть инженером-строителем?» Я, конечно, написал, только вот знаки препинания… Я, признаться, и сейчас не понимаю, как это люди пишут и сразу же знаки все ставят. Я сначала напишу, а потом уж думаю, куда какой знак поставить. А уж тогда-то я, конечно, совсем ни одного знака. Профессор мой прочитал, говорит: «Что же это такое?» – «Вы насчет знаков? – говорю. – Это уж я, товарищ профессор, вполне предоставляю вам сделать, как вы лучше меня знаете, где их ставить». Как расхохочется он! Ну, ничего, – человек был добрый: поставил мне «удовлетворительно», а потом таки звал меня «полковником». Так я потом служил в Красной Армии и политический институт посещал, вот какая нагрузка была! Наконец, в двадцать шестом окончил по архитектурному отделению. А к этому времени у меня уж трое детей было: сын, дочь и еще сын. И я вам сразу должен сказать: для иных людей, вы и сами, я думаю, встречали подобных, дети – это все равно что казнь, а что касается меня, то я так думаю, – сразу вам скажу… Для чего мы вели гражданскую войну? Для того, чтобы враждебный нам класс уничтожить и подчинить. А кто же должен утвердиться на одной шестой части света? Мы должны утвердиться. Как это мы можем сделать? Через наших детей. Вот когда вы мне сказали, что детским очагом заведуете, я и расцвел, а то у меня, знаете ли, есть над чем подумать в настоящее время. Правда, ведь кормят здесь неплохо? Вы как находите? И, знаете ли, откровенно говоря, ведь не так и дорого, а?
Груздева согласилась, что и неплохо, и не так дорого, и Мареуточкин продолжал, воодушевляясь:
– Конечно, вы, может, думаете: «Говорит мне человек, а зачем, – неизвестно». Я же исключительно потому, что деточаг. С другою я так говорить бы не стал. Кончил я свой институт, дают мне работу – в Брянск на заводское строительство. И вот тут такое дело. За месяц завода не построишь, а надо было мне там целых полгода провесть, а перед глазами каждый день машинистка шестнадцати лет, – еще и губ не красит, потому что ей зачем же! Ну, одним словом, как бы это там ни случилось, – случилось у меня с ней. И ведь если бы она настоящая женщина была, она бы могла промолчать, а то, понимаете ль, девчонка ведь! Я у нее был первый, кроме того, я – инженер, – конечно, ей лестно: не техник какой-нибудь, а целый инженер, пятьсот в месяц получает! Конечно, я ей то туфли, то ботиночки, а другие видят – и зависть, – мещанство ведь. Я ее «Бомбочкой» звал, потому что маленькая, круглая вся, и щеки горят. Разумеется, она на мне так и виснет, и часто ведь посторонний зайдет, увидит… Да и она всем трещала: «Живу с инженером». Девчонка ведь, что же с нее возьмешь. А кругом видят люди. Вот кто-то из женщин жене и написал в Москву: мещанство ведь. Гляжу, приезжает жена вдруг, и с девочкой. Никогда раньше не приезжала. «Ты что здесь такое завел?» – «Ничего, – говорю, конечно. – Брось! Какая-то, – говорю, – клевета гнусная». Она видит, у меня в квартире никого нет, успокоилась. Идем с нею по бульвару, и что же вы думаете? «Бомбочка» из другой аллейки наперерез ко мне, и меня под руку: «Андрюша, – говорит, – пойдем дальше вдвоем». А? Ну, что у нее в голове было? Вы можете, конечно, понять, насколько оказалась умна. Жена моя, разумеется, к ней: «Как это так – „Андрюша“? Как вы смеете так с мужем моим обращаться?» А «Бомбочка» ей, жене: «Мой он муж, а вовсе не твой». Вот ведь до какой наглости дошла, а ей тогда и семнадцати еще не было. Ну, одним словом, публичный скандал вышел. Я девочку свою на руки, жену свою под руку, иду домой, а «Бомбочка» моя не отстает, кричит, понимаете ль, на всю публику. Так до самой квартиры нас провожала. Не иначе, что ее кто-нибудь научил такой спектакль разыграть: сама бы не догадалась. Пришли мы с женой в квартиру, – конечно, с нею истерика. Воды на нее сколько холодной вылил. «Провокаторша это, – говорю, – была. Известная здесь сумасшедшая на подобной почве. Можешь кого угодно спросить». Ну, одним словом, лишь бы как успокоить. На другой день она в Москву уехала. Прощаюсь с ней на вокзале, на меня не глядит, а лицо все пятнами пошло. Так и уехала, даже за платок не взялась помахать из окна. Ну, ясно, думаю, «Бомбочке» поверила, а мне, конечно, нет. «Бомбочку» же я от себя после этого совсем прогнал, и что же вы думаете? Каждый день она мне письма длинные пишет. Ну, вы сами подумайте, зачем после этого случая длинные письма? Откуда могут даже и оказаться-то длинные письма, когда и так уже все сказано? Однако писала, а находились такие люди, что кое-какие письма ее не мне передавали, а пакетом в Москву, жене, – ведь мещанство! Жене же я со своей стороны пишу, потому что, вы понимаете, тут уж писать надо, конечно. Жду от нее ответа, – ни сло-ва не получаю. Что такое? – думаю. Может быть, заболела? Беру на три дня отпуск, являюсь в Москву, – на квартире меня брат встречает (а жены как раз дома нет), говорит: «Вот какое дело: захожу как-то недели три назад сюда, – а он в другом месте жил, – захожу и что же вижу? Молодой человек какой-то с твоей женой рядом, сидят в обнимку и оба хохочут. Ну, она меня как увидела, сейчас же в кухню, а он за ней, лапает ее и в шею целует». А брат у меня высокий, здоровый малый. Схватил того за шиворот и выкинул из квартиры, как щенка. Та, жена моя, смолчала ему на вопрос, он и ушел. Рассказал он мне это, а у меня в глазах потемнело, и едва я на ногах устоял. Вот только когда я узнал, что такое ревность! Ну, буквально я тогда взбесился. Приходит жена, говорю ей, как же она так? «Ты, – говорит, – там у себя пошалил, я здесь у себя пошалила. Это я чтобы тебе в отместку». Говорит, а сама смеется. «Ты же это, что, шутишь, что ли?» – кричу. «Нисколько не шучу!» – «И у тебя, что же, все с ним было?» – «Все, – говорит, – решительно». – «До последней точки?» – «До последней точки». – «Не жена ты мне, – кричу, – в таком случае!» – «Ну вот, – говорит, – не жена! Как же так, не жена, когда детей трое?» Я все-таки кричу свое: «Разведемся!» – «Ну, что же, – говорит, – и разведемся, бумажку получим. Ты там, в Брянске, будешь иметь свою, я в Москве своего, а раз трое детей, жизнь у нас все-таки будет общая». И смеется, понимаете ль, вот что главное! Так что никак не могу я понять ее. «Пойдем, – говорю, – в загс». Пошли. Развелись. Я к себе в Брянск уехал. Деньги ей, – четыреста рублей, – как посылал, так и посылаю, а ее хахаль всего полтораста получал, на заводе работал, в том же доме жил, где и я, только двумя этажами выше. И я его потом уж видел. Ну, мальчишка, понимаете, лет на пять моложе ее, и собой невзрачный. На что польстилась жена моя, не понимаю. Может, просто, чтобы мне отплатить? А ведь мы с ней одиннадцать лет прожили вместе, трое детей общих. Как это получилось, если б я мог это понять тогда, а то я прямо как все равно взбесился. «Бомбочку» уж я от себя в Брянске не гнал, а она на одной ножке вертится да поет: выходит, что она победила, меня от моей жены отвоевала. Ну, ветер у нее, конечно, в голове, а ум какой же? И вот жена мне пишет, что она от своего беременна. Как же теперь нам быть дальше? Действительно: подумать только: трое детей от меня, еще один будет от него! И я, конечно, понимаю, что не столько теперь у матери будет заботы о больших, как об этом маленьком, четвертом, а он не мой совсем. Мои же, стало быть, дети не тот уж будут уход получать, а зачем же я буду на это дело четыреста рублей тратить в месяц? Все это надо было обдумать как следует, и вот я опять на три дня в Москву в отпуск. Может быть, думаю, разыгрывает меня от скуки? Нет, вот уж какая ходит. «Хотела, – говорит, – аборт сделать, да запустила, и так что доктора уж не берутся, говорят: „Будет вам смерть тогда, а с нас спросят“». А ведь она уж пять абортов делала, когда от меня детей не хотела больше, чем трое. Сколько у нас с нею из-за этого дела скандалов было! Я говорю: «Непременно доноси и рожай». Она знай свое: «Аборт!» А ведь если мы, пролетарии, аборты будем каждый раз делать, то как же мы можем на земле своей отвоеванной утвердиться? Аборты! Вот вы – женщина, и я вас первый раз всего вижу, однако я вам говорю все это без стеснения, потому что вы – очаг, вы понимаете, должны понимать, что это такое, если аборт, и вот твоего ребенка одного на свете уж нет, потом другого нет, третьего, пятого. Это что же такое? Я биографию химика Менделеева читал: вы знаете, какой он был ребенок у отца с матерью? Семнадцатый!
– Неужели семнадцатый? – удивилась Груздева.
– Семнадцатый. Факт! А если бы мамаша Менделеева заартачилась вот так же, как моя жена, да сказала бы мужу: «Не хочу больше детей иметь. Родила тебе шестнадцать, – и хватит. Буду аборт делать». Пошла бы и сделала. Что же бы тогда вышло? Вот бы и не было химика Менделеева, а он ведь в химии – царь и бог, не только у нас, а также и за границей. Менделеев! Ого! А сделай мамаша аборт, вот и… Двадцать раз говорил я это жене, – и слушать не хотела. «Почему же ты думаешь, – говорю, – что от меня второй Менделеев не выйдет?» – «Рассказывай, – говорит, – кому другой». Ну, конечно, домашняя хозяйка, и классового сознания не было, вот и делала аборты. А от него, от своего хахаля, – ну, правда, они уж тогда записались, – от него, небось, ребенка захотела иметь. Это почему же? Я это понимал, разумеется: хотела привязать его к себе ребенком. «Ну, что же, – говорю ей, – дело твое, а детей наших давай-ка поделим. Я себе двух старших возьму, а младший сынишка, ему всего пять лет, и он, конечно, все „мама“ да „мама“, – этот пускай уж с тобой остается. И посылать тебе буду уж не четыреста, а только двести рублей на него». Ну, она, конечно, соглашается, – условия неплохие. А семья, стало быть, разбивается пополам. Взял я у нее своих двух, – мальчика с девочкой, – приезжаю в Брянск, тоска мне. И работа уж там кончается. Говорю начальству своему по строительному тресту: «Переведите меня отсюда куда-нибудь: я из-за этого Брянска семью свою разбил». – «Берите Смоленск, – говорят, – там Дом печати строится». Подумал – согласился. Приехал в Смоленск, нанял там домработницу, здоровую такую бабу: «Вот тебе двое детей моих, смотри за ними». Ну, она, конечно, как же смотрит? Вы понимаете сами. И что с нее можно спросить? А детям ведь учиться ходить, и все… Нет, думаю, не выйдет дело. Прошусь в Москву. Переводят меня в Москву, дают там работу на одном заводе – запасное здание одно строить, столовую, еще там разное. Тут уж четыре тысячи человек рабочих, да еще три смены. Со всеми поговори, всем укажи. И с инженерами каждой смены так же. Одни сменяются, другие заступают, – расставь всех, как надо. А домой приезжаю зачем? Только спать. Больше мне дома некогда бывать. В квартире же я в своей прежней поселился. Пришлось мне жену выселять к ее мужу новому. Ну, она забрала все вещи, всю мебель, пианино, какое я ей купил, – все решительно, – я ни звука: бери, только сама иди. Завел я кое-какую мебель новую, нанял девку-домработницу, а детишки мои от нее к своей матери на верхний этаж бегают, младший же мой ко мне, когда я дома, спускается, так у нас и идет конвейер. А «Бомбочка» моя мне все письма пишет. «Приеду». Подумал: «Может быть, в самом деле детям вместо матери будет, как у нас с нею ребенка отчего-то не получилось?» Написал, чтобы приезжала. Явилась немедленно. И вот, скажите, объясните мне, почему же у них с женой моей опять началась война гражданская, как в этом самом Брянске, на бульваре? Дня буквально не проходило, чтобы не сцепились они ругаться. Конечно, свою жену я понимаю отчасти: ей уж завидно становится. Она-то ведь поотрепалась, ботиночки на ней посбивались, а на «Бомбочке» все новенькое, и она же молодая – семнадцать лет, щеки у ней, как кирпичики, а та уж тридцать лет, и щеки впали. Наконец, началась между ними целая драка на улице. Я прислал «Бомбочке» машину свою, чтоб она детей в детский театр взяла, а жена, как увидела «Бомбочку»-разлучницу около машины, в какой она сама сколько раз ездила, а теперь только поглядеть на нее может, а ездить уж не угодно ли на трамвае, – увидела и загорелась. Придралась она к тому, что девочка моя не так одета, и пошла у них с «Бомбочкой» драка, и на девочке весь костюм изодрали, потому что одна ее к себе тянет, другая – к себе. Шофёр видит – такое дело, театр отставил, повернул на завод и все мне рассказал. Еду я домой. Гляжу – «Бомбочка» моя в слезах, девочка моя в слезах, ну, одним словом, без калош по комнатам не ходи, – потоп. А «Бомбочка» говорит: «Отдай детей в детский дом, – не могу я с ними». – «А-а, – говорю, – ты так? Ты не можешь? В детский дом? Ну, тогда уж лучше ты иди в детский дом сама, потому что ты и сама еще ребенок, и мордочка твоя – детская, и поговорить с тобой не о чем, у тебя на уме только песенки петь да на одной ножке вертеться!» Приказываю ей убираться. «Я, – говорит, – и сама хочу в Бежецк проехать, свою мамашу повидать». Уехала. И, знаете, больше я уж ее не видал. Путается, мне писали, теперь уж с другими, а мне, когда я узнал, ну, совершенно ничего: путайся на здоровье! Вот что значит не жена, с какою мы все-таки одиннадцать лет прожили. Жену свою я и сейчас люблю и нахожу, что лучшей женщины у меня не было, а у меня еще две было… Вам, может, неинтересно слушать, так я прекращу, а?





