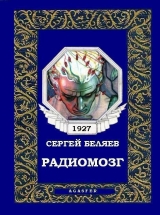
Текст книги "Радиомозг"
Автор книги: Сергей Беляев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
III. НОВАЯ ДАЧА
Это был еще июль, жаркий и душный, когда к только что отремонтированной даче, стоявшей на краю загородного поселка, подъехал извозчичий экипаж, привезший два чемодана и молодую, скромно одетую девушку. В лучах вечернего солнца ее красивое лицо отсвечивало фарфором, а выбившиеся из-под шляпы непослушные черные волосы казались синими. Из двери на балкон выглянула пожилая женщина, всплеснула руками, радостно вскрикнула:
– Илона!.. Илона приехала!..
Через секунду женщина в кухонном фартуке уже спешила с террасы к стоявшей у калитки девушке.
– Илона, мы ждали тебя не раньше среды, а ты приехала сегодня… Какая ты выросла большая…
– Тетка Глафира? А ты все такая же! Вечно варишь варенье и по ночам подаешь отцу крепкий чай? Давай поцелуемся… Чемоданы не тяжелые… Я их донесу… Я сильная… В Штутгарте по легкой атлетике у меня второй приз… Недурно?
Илона расплатилась с извозчиком и легко приподняла чемоданы.
– Ну, Глафа, показывай, куда мне идти… Мне отдельная комната? Ура!.. А там пишут, что здесь каждому для жилья дается по маленькому квадратику… Ах, это раньше? А теперь другое?
Илона бросила чемоданы на пол террасы.
– А где отец? Сидит, запершись, и даже не выходит встретить свою единственную дочку?
Глафира распахнула дверь в комнаты.
– Профессор сейчас в городе… Он прибудет сюда поздно вечером… Может быть, и утром… Он очень занят.
Илона капризно надула яркие красные губы.
– Он обещал меня встретить, а сам в городе?
– Профессор ждал твоей телеграммы, Илона.
– Я не хотела тащиться из Кенигсберга поездом и разорилась на аэро, – рассмеялась Илона и сняла шляпу. – Если отец вернется ночью, то ты, Глафа, передай… Что я хочу, чтобы он пришел ко мне, если я буду спать… Я соскучилась…
Глафира покачала головой.
– Еще бы не соскучиться… Сколько лет без родных. Ученая стала, говорил мне профессор. А у него тут дела, Илона. Постоянно в городе, только ночевать иной раз сюда приезжает… А ты иди, отдохни с дороги. У меня скоро и обед поспеет. А то погуляй. У нас тут хорошо… Воздух какой… И спокойно, тихо… В городе-то духота… Профессор решил тут обосноваться, в поселке… Скоро сюда автобусы будут ходить, прямо к даче.
Илона осмотрелась. Невысокая загородка окружала дачу и садик. Прямо шла дорога к роще, в которой скрывался дачный поселок. Вправо тянулась бесконечная луговина, перерезанная небольшими овражками. Вдали смутным силуэтом вставал город.
Дачка, очевидно, была приспособлена для зимнего жилья.
Солидная изразцовая печь обещала греть в зимние морозы. Высокий камин, два кресла, шкаф с посудой, две знакомые картины на стенах напомнили Илоне детство и отца, всегда с трубкой во рту, голубоватый дым которой заволакивал печальный взгляд серых затаенных глаз.
Да, отец оплакивал свою молодую жену, которая умерла, подарив ему дочь Илону… Илона помнит рукописные книги, старинные раскрытые грузные фолианты, рабочий стол с микроскопом, а за ним отец… Оторвет глаз от окуляра, посмотрит на дочь, погладит по голове эту маленькую синеволосую девочку, вздохнет, скажет:
– Илона… Иди к тетке Глафире… Спать тебе пора… Я приду к тебе, поцелую… А мне пусть тетка чаю крепкого подаст…
Илона подошла к книжному шкафу. Да, те же знакомые названия на корешках толстых переплетов. Она прошлась по даче и заглянула в одну комнату: узенькая походная кровать, тумбочка с лампой, раскрытый томик английского романа, шкура волка на полу и пара ночных мягких туфель. В другой комнате с большим венецианским окном – письменный стол с обычными, небрежно расставленными предметами и валяющимися книгами… На полке глобус и начатая работа по выпиливанию. Лобзик висит рядом на гвоздике. В углу – большой зеркальный шкаф, плотно стоящий на полу, словно вросший в него.
– Это кабинет профессора, – тихо сказала Глафира за спиной Илоны. Илона слегка вздрогнула.
– Ты испугала меня… Где моя комната?
– Наверху… Светелочка – чистая игрушка. И постелька новая… Голубое одеяльце… Вся комната голубая… Любимый твой цвет. Пойди, полюбуйся…
После осмотра Илона прошлась по роще. Седоволосый юноша в светлой куртке сидел на пенечке и играл на самодельной свирели. Тонкие руки высвистывали что-то похожее на птичье пение. Илона остановилась и прислушалась. Юноша опустил свирель и поднял на Илону синие глаза.
– Вам нравится?
Илона качнула головой вниз.
– Это какая-то птица… Не знаю… Иволга?.. Щегол? Но очень похоже.
Юноша довольно улыбнулся.
– Похоже? И даже очень? Это и требовалось доказать… Благодарю вас.
В роще звонкий девичий голос раскатисто аукнул:
– A-y.. Эй-эй!..
Юноша легко вспрыгнул на пенек, вытянулся всем телом и взмахнул свирелочкой.
– Иду!.. Эй-эй!
Крепко отталкиваясь тугими носками, он убежал и скрылся за стволами деревьев. Илона медленно пошла домой.
От луговины поднимался блеклый туман. Новый месяц осторожно показал из-за деревьев свои тонкие серебряные рога.
В светелке наверху Илона быстро разделась и легла. Хотелось спать. Она закрыла глаза и забылась. Уже совсем засыпая, она вспомнила белые волосы и синие глаза юноши, игравшего на смешной свистульке, и улыбнулась. Роща… Золотые стволы берез… Звонкое ауканье… Из рощи выходит человек в серой шинели… Ближе к Илоне… Отец? Он кладет ей руку на голову, но не ласкает, как прежде, а давит, больно, сильно…
– Отец!
Илона проснулась и, дрожа, осмотрелась вокруг. Тусклый свет проходил через балконную дверь и бросал два холодных пятна на голубую стену. Цепкая тишина окутывала Илону. Захотелось крикнуть. Молодая девушка спрыгнула с постели и подошла к окну. Над бугристым краем луговины далеким смутным миражом трепетали огоньки города. Деревья в палисаднике спали.
Илона прильнула горячим лбом к холодящему стеклу и посмотрела на крупную зеленоватую звезду, висевшую в пустом небе. На нее она любила смотреть и раньше, когда не спалось. Названия звезды Илона не знала, но вид этого далекого мира всегда успокаивал ее. В светелке показалось душно. Под потолком в темноте жалобно скулил одинокий комар. Илона захотела открыть дверь и выйти на балкон. Она нащупала ключ и повернула его.
В это время чужие холодные руки легли на ее плечи.
Илона слабо вскрикнула.
IV. НА ТОРЖЕСТВЕ
Глаголев кончил доклад и теперь смотрел на толпу, которая забила весь клубный зал и возбужденно аплодировала. Глаголев был доволен своим докладом.
В нем заговорила старая кровь рабочего и массовика. Он сказал именно то, что нужно было сказать, лишний раз подчеркнуть необходимость сплоченности и единства, цементирующего рабочий класс в мощный гранит. Он сказал так, и эти бурные аплодисменты, оживленные лица, клики и трепетания красных платков – вот сейчас перед ним, значит, показывают, что он нашел верные нотки, нащупал пульс, который бьется в жилах развертывающейся новой полнокровной жизни.
Глаголев сошел с эстрады, сел рядом с директором завода и любопытным взглядом посмотрел, как беловолосый юноша, стройный и ловкий, стал на возвышении перед оркестром заводских домрачей и поднял уверенную дирижерскую руку.
– Подмастерье Михаил Зубов, – наклонился к уху Глаголева директор, чуть кивнул на юношу и протянул Глаголеву узкий листок программы. Глаголева неприятно покоробило слово «подмастерье». Он подранил директора.
– Помощник мастера, вы хотите сказать?
– Да, помощник… В отделении точной механики… Новое наше начинание… Физические приборы и части к ним… Зубов – талантливый юноша… Но фантазер…
Глаголев хотел возразить директору, но не стал. Сказал тихо:
– После концерта… Я хочу говорить с товарищем Зубовым…
Сзади на Глаголева зашикали комсомолки.
– Шшшш!.. Не мешайте слушать!
Глаголев подумал: «Они правы… Не следует разговаривать во время музыки…» – и сделал знак директору, который хотел продолжить беседу. Директор дернулся и обиженно замолчал.
Концерт кончился. В зале шумно раздвигали по сторонам стулья и скамейки. Молодежь готовилась танцевать. На эстраду взбирался красноармейский оркестр с блестящими тяжелыми трубами. Директор пригласил Глаголева:
– Ко мне в кабинет… Чаю откушать… Прошу…
Глаголев склонил голову вбок. Это у него за последние годы образовалась такая привычка, наклонять голову. На всех руководящих постах, куда его ставила революция, он всегда сам принимал посетителей, которые обращались к нему. Он считал личный пример очень важным делом. И никогда не передоверял этого секретарю Николаше. Слушал посетителей наклоном головы вбок, на правую сторону. Может быть, это давала себя знать старая контузия в левую сторону головы во время комиссарства на фронте гражданской войны. А потом и здоровье поправилось, а Глаголев вообще, когда слушает кого, то всегда наклоняет голову особым своим наклоном, внимательным и чутким.
– Спасибо, товарищ, – мягко поблагодарил Глаголев. Только раньше вы мне Мишутку представьте…
Глаголев сказал именно «Мишутку». Ему вспомнилось недавнее знакомство с Лукой и то, как тот ласково зовет сына. Глаголев чуть улыбнулся самому себе и повторил раскрывшему глаза директору:
– Да, Мишутку… Зубова. Он такой молодой.
Огляделся.
– А где же у вас рабочие пируют? Самое ихнее веселье?
Глаголева и начальство обступила толпа заводских.
– К нам сперва, товарищ Глаголев… к нам.
– Бери его… Айда в буфет.
Заводские оттерли директора и повели Глаголева. Работницы весело захлопали в ладоши.
– Милости просим.
Старые рабочие солидно покрикивали на ребят помоложе:
– Сторонись!
Один, в чистом пиджаке, шел рядом с Глаголевым и говорил ему:
– Откушай с нами. Хоть присядь да пригубь… У нас в буфете столы понаставлены, складчинка махонькая… Мы тебя звать думали, а товарищ директор опередил нас, с чаем-то своим… Хорошо, что уважишь.
Глаголев почувствовал, что действительно хорошо, если он уважит рабочую складчину. Вдоль буфетной комнаты были поставлены длинные столы, на которых лежали нехитрые яства: колбаса, сыр, жареная баранина, огурцы, картофельные салаты и корзиночки с хлебом. Бутылки с пивом и дешевым вином придавали столам праздничный вид. Глаголев подошел к краю среднего стола. Ему подвинули стул.
– Спасибо, товарищи, – просто сказал Глаголев. – Сядем, поговорим.
Опять гром аплодисментов и довольный смех присутствующих взметнулся под ярким светом висячих ламп. Поднялась возня, которая бывает, когда много народу сразу усаживается за столы. Глаголев смотрел на приготовленное угощение и на рабочих, которые уселись, но не дотрагивались до еды. Сзади сидящих сплошной стеной стояли те, кому не хватало места.
– Да ты откушай, – подтолкнул под локоть Глаголева пожилой рабочий, тот, в чистом пиджаке, который шел сюда с ним рядом. – С рюмочкой поздравь… Они с тебя начало полагают.
– Знаю, товарищ, – опять просто ответил Глаголев и поднял руку.
Стоя и опираясь о край стола, он заговорил, не докладчиком, а беседовал с такими же рабочими, каким был сам и каким не переставал себя чувствовать. А когда окончил и поднес к губам рюмку, то уже все кругом кричали так радостно и так хорошо. Старый рабочий крепко обнял Глаголева за плечи, и они троекратно расцеловались. Хохотали и весело гомонили. Кто-то шутил:
– Чего он со стариками-то? У нас и помоложе есть…
На середину в просвет между столов вытолкнули молоденькую работницу.
– Дуня!.. Товарищ Рогова!.. Ну-ка!
Опять захлопали в ладоши.
– Не стесняйся… Запевай… А мы подтянем…
Работница посмотрела на Глаголева, словно разрешения попросила, и запела в притихшей комнате:
– Травушка-муравушка, лазоревый цветок…
Громадным хором присоединились зычные заводские голоса, и хороводная песня поплыла по всему клубу. Потом веселая, сразу наперерез хороводной:
– Эх, тень-петень выше города плетень…
Пели с присвистом, ухарски, но стройно и красиво. Беловолосый дирижер стоял с группой молодежи и жадно смотрел на певунью-работницу. Глаголев понял выражение его влюбленных синих глаз. Потихоньку поманил его к себе, когда все с пением и криками пошли танцевать в зал.
– Товарищ Зубов? – спросил беловолосого Глаголев.
Синие глаза сверкнули смехом и задором:
– Да… Только меня здесь все Мишуткой зовут… К вашим услугам, товарищ начальник.
– Я познакомился с вашим… с твоим отцом, Мишутка. Слышал по радио оркестр… Это твоя гармонизация «Дубинушки»?
Мишутка неожиданно скромно опустил глаза.
– Это ерунда… У меня лучше есть… Пролетарскую симфонию для дома сочинил… Сколько ребята разобрать не могут. Говорят, что очень густо ноты пишу и диезов много… А переписать некому.
– Ты учишься музыке?
– В техникуме вашего имени, товарищ, начальник.
Глаголеву стало немножко совестно, что он ни разу не додумался навестить музыкальный техникум, носящий его имя.
– На каком курсе?
– У нас нет курсов, товарищ начальник… А я только во вторую группу с этого сентября перешел… Дел много. С утра на завод, потом в группу, да еще в радиокружке… Прямо разорваться… Суток мало.
– Я рад познакомиться с тобой, товарищ Мишутка. Глаголев пожал молодую твердую ладонь Мишутки. – Иди в залу веселиться… Там тебя дожидаются. – Он шутливо подмигнул Мишутке, который покраснел и поклонился.
Директор вырос перед Глаголевым.
– Автомобиль ваш, товарищ Глаголев, сейчас исправлен и доставлен к нам, стоит в гараже… Шофер отогревается.
– Хорошо, – улыбнулся Глаголев, потому что живо представил себе, как «отогревается» Никеев.
Директор не переставал расшаркиваться и делал рукой пригласительные жесты, все время говоря. Глаголев понял несколько слов:
– А теперь к нам… Администрация вверенного мне завода просит вас не отказать.
Из залы неслись оглушающие звуки трубящего оркестра и топот танцующих. Глаголев поднимался по широкой лестнице и слушал директора.
– Вот сюда… Прошу… В этот кабинет.
Через распахнутую дверь лился раздражающий яркий свет люстр. Нарядная толпа гостей и администрации теснилась, чтобы пропустить Глаголева к белоснежному праздничному столу. Опять раздались аплодисменты. Глаголев облегченно вздохнул, когда они кончились.
Он хотел спросить о чем-то директора, но директор в это время озабоченно слушал торопливый доклад молодого инженера, который, видимо, прямо с дежурства только что пришел с работы и чувствовал себя неловко среди блестящего общества.
– Что это такое? – посмотрел Глаголев на инженера в фланелевой рабочей куртке. Бритое лицо инженера было возбуждено и озабочено.
На минуту все притихло. Но директор оторвался от инженера. Инженер поспешно вышел. Директор хлопнул в ладоши.
– Товарищи!.. Граждане!.. Будьте как дома… Вы у нас в гостях… Прошу!
Заиграла музыка салонного оркестрика, спрятанного где-то в углу. Наверху топали танцующие в зале. Директор подвинул севшему Глаголеву стакан с чаем и незаметно прошевелил губами:
– Инженер Гэз сейчас донес мне, что…
V. НЕОЖИДАННОСТЬ
Tax стоял около распределительного щита в рентгеновском кабинете городской больницы и горячо говорил главному врачу:
– Непостижимая штука… Чертовщина… Две недели назад у меня отсюда крадут два миллиамперметра… Останавливается вся работа рентгена… Угрозыск ищет без результата… Превосходно? А вчера вечером я вхожу сюда и вижу: пропавшие два миллиамперметра, извольте, довольно аккуратно ввернуты в соответственные места. Не верю глазам… Включаю ток, чтобы рассмотреть их при свете… Трах! Реостаты перегорают, предохранители тоже, все к черту… И самое главное… Амперметры – не те… Это черт знает какие… Одним словом, не мои, не наши… Рентген испорчен… Чьи это симпатичные шуточки, хотел бы я знать!
– Я тоже хотел бы, – отозвался главный врач и погладил свою пушистую бороду. – Все это очень неприятно. В здравотделе косо смотрят на эту историю… Говорят: слаб надзор…
– Черт с надзором! Не можем же мы по часовому ставить у каждого казенного больничного предмета. Если это свой вор, то от него не убережешься… Впрочем, я не думаю, что это свой…
– Не ручайтесь, Tax, ни за кого… Лучше скажите… Наладить рентген можно?
Tax перестал волноваться и вслух подумал:
– Сразу этого не скажешь… Я только что сдал дежурство… Устал, как собака… Всю ночь не давали спать… Везли и везли больных. Один заворот кишок оперировали в три утра с Николаем Ивановичем, спасибо, он рядом в клинике дежурил… Старика принесли, скоропостижно умершего… Ожоги… Два перелома конечностей… Опять песком тротуары не посыпают… Калечится народ.
Главный врач собрался уходить.
– Все-таки сметку мне нельзя ли поскорей? Я пошлю бумажку, успокою здравотдeльцев… А то там запорют горячку.
Главный врач ушел. Tax походил по кабинету и вскрикнул:
– Неужели? – Остановился на секунду, потер руки и опять вскрикнул: – Неужели?.. Не может быть… А вдруг? – Он топнул ногой. – Но это же чудовищно… Невероятно. Если так, то, значит, я… Ах, черт возьми… В дверь просунулась из вестибюля голова ассистентки.
– Доктор Tax, вы на вскрытие пойдете?
Tax непонимающими глазами смотрел на ассистентку.
– Что? Кто?.. Это вы, Людмила Федоровна?
– Ну, я… На вскрытие, спрашиваю, пойдете?
– На какое вскрытие? – спохватился Tax.
– Да вчерашнего старика… Борис Глебыч прислал сказать, что начнет через полчаса… Если интересуетесь, он подождет вас.
Tax озабоченно провел рукой по вспотевшему лбу.
– Вскрытие старика? Вчерашнего? Да… Мне интересно… Я пойду на вскрытие.
Ассистентка захлопнула дверь. Tax остался один. Подумал и прыгнул к двери. Заперся. Постоял посередине комнаты, потом медленно подошел к мраморному распределительному щиту. Дрожащею рукой вывинтил из патрона миллиамперметр и долго смотрел на него. Понюхал, всматриваясь каждую деталь.
– Те-те-те, постой-ка, – прошептал Tax и воззрился в миллиамперметр. Фабричный номер на нем был стерт, как будто нарочно. Tax вывинтил другой аппаратик, на нем тоже номер был стерт напильником.
Tax положил оба аппаратика на стол и выругался.
– Хорошенькое дельце… Опять тянуть уголовного инспектора? Придется. Но их дело своим чередом, а ты, доктор Tax, прими свои меры… Иначе… – Он помотал головой, как бы стряхивая с себя неприятные мысли, и надел поверх белого халата теплое пальто.
Через черный ход Tax вышел из больничного здания, наискось пересек двор и распахнул дверь анатомички. Кислый покойницкий воздух не произвел на Таха никакого впечатления. В прозекторской передней комнате стоял прозектор, доктор Борис Глебыч, в теплом френче, воздев руки кверху. Служитель Федор надевал на Бориса Глебыча анатомический желтый кожаный фартук и завязывал тесемочки на его шее и пояснице.
– Здравствуйте, Борис Глебыч… Не начинали?
– Никак нет, коллега Tax… Здравствуйте… Со спецодеждой вот возимся… – Борис Глебыч покрутил головой. – Федор!.. Ты мне бантиком завяжи… Не затягивай… А то, знаете, он мне раз мертвой петлей спьяну затянул, снять было невозможно. Трагедия… Хоть домой в этом наряде поезжай.
Усатый Федор отступил на шаг и осмотрел Бориса Глебыча.
– Не извольте беспокоиться… Все в порядке… Бантиком.
Борис Глебыч опустил руки.
– То-то… Открывай дверь.
– Пожалуйте-с…
Федор открыл дверь, ведущую в комнату, где производились вскрытия. Трупы лежали на высоких столах и были закрыты старыми цинковыми ящиками.
– Ну, где же ваш вчерашний старичок? – спросил Федора Борис Глебыч и взглянул в окно. – Из милиции должен человечек подойти. Следует протокольчик вскрытия нацарапать, так как доставлен был старичок в больницу в мертвом виде. Можно на смертоубийство нарваться.
Федор подошел к крайнему столу и взялся за цинковый гвоздик.
– Тут… Аккуратный старичок… Жилистый.
Tax достал из портсигара тоненькую папироску и предложил Борису Глебычу. Федор гремел ящиком. Борис Глебыч зажег спичку и протянул ее Таху закуривать.
– Что это такое у вас с рентгеном? Говорят, будто чудеса в решете? А?
Tax затянулся.
– Сказать вам откровенно…
Но не докончил фразы. Его перебил испуганный крик Федора:
– Убег… Убег…
Tax обернулся. Федор держал тяжелый ящик и недоумевающе хлопал глазами. Борис Глебыч сморщил нос и обратился к Федору:
– Какая это тебя муха укусила, братец? Кто убег?
Федор только кивнул головой на стол.
На столе трупа не было.
VI. ЗА РУБЕЖОМ
В штамповальном отделении французской фабрики консервных жестянок «Поль Шарпи и Кє» ровно в пять часов вечера резко просвистел сигнальный свисток. Рабочие выключили моторы у двадцати четырех давильных станков. Шум и стук в отделении сменился говором мужских голосов. Семьдесят два человека, спеша и толкаясь, как школьники после уроков, двинулись в раздевальню. Там надевали пиджаки и кепки, которые в отделение брать строжайше запрещалось администрацией.
– Идем, Мишель.
Черноволосый курчавый рабочий обернулся на зов, запутался ногами в обрезках блестящей жести и выругался.
– А, Франсуа? Черт знает… Тут ноги переломаешь.
Коротенький крупноносый француз оскалил желтые зубы.
– Ругаться будешь после. А пока надо спешить. Раз ты проиграл мне стаканчик водки, то я имею намерение поскорее перелить ее в мой желудок. Не так ли, дружище?
Мишель тряхнул черными волосами, словно смахнул с них фабричную жестяную пыль.
– Можешь не беспокоиться, мальчик. Проигранную порцию считай собственностью твоей утробы. Что твое, так то твое…
Перед выходом они повесили на черную доску свои контрольные номерки и встали в черед на обыск.
Администрация следила за тем, чтобы с фабрики не уносились составы для пайки, составлявшей гордость производства. Живая вереница рабочих продвигалась к выходу N 9. Здесь Мишель поднял руки вверх. Улыбающийся гасконец быстро обшарил тело Мишеля на груди, боках и животе, крикнул:
– Хорошо.
Грузный привратник нажал рукоятку, – выходная калитка образовала широкую щель. Мишель выскользнул на улицу. Через несколько мгновений калитка опять приоткрылась, и Франсуа очутился рядом с Мишелем.
Сутулый рабочий стоял на краю тротуара, набивал табаком черную крючковатую трубку и смотрел на калитку.
Франсуа прищелкнул языком и крикнул сутулому рабочему:
– Тра-ля-ля… Ты сегодня ошибаешься, Пьер… Если хочешь подкараулить свою Мари, то иди к калитке N 2, а здесь только мужской выход.
Пьер спрятал порт-табак в карман рваных штанов и передвинул трубку в левый угол рта.
– Парижане – болтливый народ, – сказал Пьер. – И ты, Франсуа, не представляешь исключения из этого общего правила…
Франсуа не остался в долгу.
– А бретонцы жуют вечную жвачку и думают, что это – философия. Рассматривание заводской калитки N 9 в то время, когда надо идти к тетушке Генриетте насыщаться, я считаю идиотизмом… Не так ли, старина? Идем, а то нам останутся одни объедки.
Пьер шагал рядом с Мишелем и бросал угрюмые слова, которые вырывались из угла его рта вместе с клубами табачного дыма.
– Ты вглядись как-нибудь в фасад нашего фабричного здания. Колоссальный корпус с этими решетчатыми тюремными окнами… О-о… Да это же морда, красная окровавленная морда Дьявола-Капитала… Многоглазый страшный Дьявол… Две фабричные трубы – это рога его. А двенадцать занумерованных выходов – это пасти дьявольские… Каждый день смотрю я на фабрику, и у меня в груди озлобление и ужас… Сейчас смотрел… Из калитки, как из пасти своей, изрыгает Дьявол-Капитал нас… тебя, меня… Отжимает там, у себя, в своем брюхе. Капитал отжимает от нас все, все, чем мы живы, чем дышим… А взамен – бумажные франки, которые будут падать до бесконечности.
– Ты наслушался анархистов, бедняжка, – отозвался Франсуа, который шел за Пьером и слышал его слова. – Все это очень хорошо, но надо же кушать, мой друг. Пойми: надо кушать.
– Ты не столько кушаешь, сколько пьешь, Франсуа, – чуть обернулся Пьер и переложил трубку в другой угол рта. – Но и обильное питье, я думаю, не настолько залило твои мозги, чтобы ты перестал понимать, что парочка хороших бомб…
Франсуа толкнул Пьера в спину.
– Не так громко, милый друг. Сзади идет Альберт, и это мне не нравится… У него скверная манера подслушивать… А слышит он чуть ли не за километр любой разговор, о чем шепчутся такие бунтари, как Пьер… У Альберта в каждом ухе по радиоусилителю, честное слово. И, кроме того, он в приятельских отношениях с синими мундирами. Поэтому – тише…
Мишель не слушал завязавшегося между Франсуа и Пьером спора. Он шагал по сбитым плитам тротуара, мимо заборов и больших грязных домов, в которых, он знал, гнездились нищета и беспомощность. Полуголые ребятишки визжали и баловались в канавах, которыми отделялся тротуар от вымощенной дороги. Старухи, покрытые черными косынками, сидели на табуретах у входов в жилища, вязали бесконечные вязанья и грелись скупым теплом закатного солнца. Проститутки стояли вдоль тротуара, как часовые, перекидывались замечаниями одна с другой, подмигивали возвращавшимся с работы мужчинам:
– Пойдем?!
Сбоку из шести переулков на большую улицу выливались потоки кончивших свой трудовой день рабочих. Пыль из-под тысяч ног золотой паутиной дрожала под солнцем. Автомобили мчались посередине улицы, и там пыль стояла как монументальная стена, нарочно вылепленная из клубастых пышных облаков. Харчевни и кухмистерские зевали широко распахнутыми дверями, чадили, щекотали ноздри прохожих, звали насыщаться. Пахло жирной пылью и горелым салом. На предместье надвигался будничный вечер.
В полутемной низкой харчевне, носившей громкое название «Золотой павлин», зажгли газ. Трепетное пламя четырьмя язычками тускло моргало в прокуренном жарком воздухе и освещало восемь столиков, за которыми ели и пили пришедшие рабочие. В углу спорили и ругались две пьяные уличные девицы. Хозяйка харчевни, тетушка Генриетта, величественным сверхдредноутом плавала между столами, огибая их, как подводные скалы. Из сводчатой арки, ведущей в кухню, несло смрадом жарящегося мяса. Помощница тетушки Генриетты, тяжело стуча своими деревянными башмаками по каменному полу, собирала грязную посуду со столов, быстро исчезала с посудой в кухню и так же быстро опять появлялась в харчевне.
Мишель быстро вошел с улицы и столкнулся лицом к лицу с тетушкой Генриеттой. Ее когда-то черные глаза вонзились в него.
– Сегодня ты аккуратен, Мишель.
– Я спешил помочь тебе, Рьетта, – простым тоном ответил Мишель и пожал жирную руку тетушки Генриетты повыше локтя, здороваясь этим движением с ней, как всегда.
Она ответила ему улыбкой, которая когда-то сводила с ума всех мужчин предместья.
– Глупыш!.. Ну, иди, надень фартук.
В углу взвизгнули, потом захохотали. Хохот неожиданно перешел в ругань. Тетушка Генриетта проплыла в угол к ругающимся девицам. Франсуа и Пьер прошли за ней.
У тетушки Генриетты своя манера разговаривать с посетительницами, которые переходят все границы приличия. В «Золотом Павлине» свои законы и обычаи. Тетушка Генриетта здесь высшая законодательница, и ей – беспрекословное повиновение.
– Вечер сегодня чудесный, милые мои пташки, – ласково сказала тетушка Генриетта двум девицам. – Прогуляйтесь по чистому воздуху. Пора подумать, где вы встретите завтрашнее утро.
Девицы поднялись из-за столика и ушли. Франсуа успел ущипнуть на ходу одну из них. Та не обратила на щипок никакого внимания.
А Мишель в это время умывался в кухне над раковиной. Холодная струя освежала его. Он подставил голову под край и слушал, как тугая струя глухо бьет его по черепу. Он встряхнул курчавыми волосами и провел по ним полотенцем, потом посмотрел на него, словно хотел убедиться, не стер ли он со своих волос жесткую жестяную пыль, которая носится в воздухе там, на фабрике. Мишелю всегда кажется, что эта твердая фабричная пыль садится к нему на голову, запутывается в его черные кудри и мешает думать.
Оловянные тарелки с грохотом посыпались на кухонный стол. Помощница тетушки Генриетты наливала ковшом дымящийся кипяток в засаленную лохань и смотрела на Мишеля.
– Добрый вечер, мсье Мишель.
– Добрый вечер, мадемуазель Жанна.
В кухонную арку просунулся колыхающийся бюст тетушки Генриетты, широкий, как палуба морского корабля.
– Два рагу и зелень.
Кухарка, мадам Риво, зачерпнула, как машина, длинным половником из котла, вмазанного в плиту, соусную коричневую жижу, ответила, будто эхо, деревянным голосом:
– Два рагу и зелень.
Мишель вытер свою мокрую голову и прошел в комнату за кухней. Двуспальная кровать, пузатый комод. На комоде зеркало, в рамке фотография женщины под зонтиком. Широкополая соломенная шляпа с целым кустом роз на боку. Ленты от шляпки завязаны у подбородка пышным бантом, концы ниспадают на бюст, уверенно выдвинутый вперед. Под широкими полями просторной шляпы круглое лицо усмехалось откровенным призывом полураскрытых сочных губ и слегка прищуренных глаз.
– Рьетта, – посмотрел на портрет Мишель и сам усмехнулся. Ему вспомнилось, как он сейчас вошел в харчевню и столкнулся с тетушкой Генриеттой. У нее в руках был поднос с оловянной посудой и стопками. И это хорошо, что у нее руки оказались занятыми. А то она могла броситься ему на шею. Мишель прочел это в том, как глаза ее вонзились в него. Последнее время на нее находят приступы влюбленности, последние порывы затихающей бурной зрелости, за которой неслышными шагами тихо подкрадывается старость. Мишель надел фартук и посмотрелся в зеркало. Оттуда на него смотрел гарсон третьеразрядной харчевни. И опять Мишель улыбнулся. На круглом столе посередине комнаты в глиняном кувшинчике стояли свежесломанные ветки с большими желто-зелеными, лапчатыми листьями. Мишель остановился на полушаге, провел рукой по осенне-окрашенному листу, склонившемуся на матовую поверхность стола, как будто поласкал лист, и усмехнулся в третий раз. Потом завернул газовый рожок и вышел через кухню в харчевню.
Там прибавилось народу. Франсуа кричал Мишелю через столы, напоминая о стаканчике. Мишель повернулся.
За буфетной стойкой на высоком табурете сидела тетушка Генриетта, широкая и строгая, как языческий бог. Мишель вопросительно посмотрел на нее.
– Один средний, Рьетта… Я проспорил сегодня утром Франсуа.
Тетушка Генриетта в ответ сказала краями еще подцвеченных губ:
– Не балуй его, Мишель. Он пьяница и норовит выпить на дармовщинку… Он нарочно выдумывает дурацкие пари, в которых выигрывает сам наверняка.
– Ты слишком строга к моим товарищам, Рьетта, – покраснел Мишель.
– Я только справедлива, мой дорогой,– любезно улыбнулась тетушка Генриетта и налила стаканчик абсента.
Высоко подняв подносик с поставленным на нем стаканчиком, Мишель скользнул в угол к столику Франсуа. Тот хохотал и показывал на Мишеля пальцем:
– Ого!.. Гарсон!.. Два рагу и зелень!.. – Мишель стиснул зубы и дожидался, пока Франсуа выпьет и отставит стаканчик обратно на подносик. Ему казалось, что Франсуа нарочно пьет медленней обычного. Франсуа облизал губы и поставил стаканчик.
– Теперь мы квиты, – остро сказал Мишель и отвернулся от Франсуа, который смеялся, несколько раз приговаривая:
– Надо спорить – надо и выигрывать…
Пьер передвинул трубку в правый угол рта и пыхнул сизым дымом.








