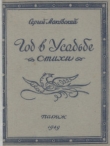Текст книги "Вечер"
Автор книги: Сергей Маковский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ. ВЕЧЕР (Вторая книга стихов. 1918–1940). Париж, 1941
Посвящаю эту книгу моей матери
«Возлюбленная тишина…»
Возлюбленная тишина…
Ломоносов
Возлюбленная тишина,
вечернее очарованье,
виденьями какого сна
овеяно твоё молчанье?
В прозрачном омуте небес
какие призраки роятся,
прообразы каких чудес
тобой встревоженные снятся?
Печаль земного бытия,
благословение заката,
неизреченные края,
покинутые мной когда-то.
Слилось грядущее с былым,
неизмеримое с ничтожным,
и кажется пережитым
всё, что казалось невозможным…
ARS POETICA
Памяти Иннокентия Анненского
I. «Когда в тебя толпой ворвутся…»
II. «Сначала, невесть откуда…»
Когда в тебя толпой ворвутся
слова, которых ты не ждал,
и звуки спящие проснуться,
которых ты не пробуждал;
когда на землю с безучастьем
вдруг взглянешь, и во тьме души
повеет холодом и счастьем
и вечностью – тогда спеши,
спеши облечь мгновенный трепет
в пылающие ризы слов,
души внимая волшебный лепет,
журчанье тайных родников,
и пусть на зов творящей муки
ответит лирная строфа,
словами вызывая звуки,
невоплотимые в слова.
Сначала, невесть откуда,
не слова, а призраки слов
позовут, и веяньем чуда
взволнует невнятный зов.
Но образы брезжат смутно,
не умею выразить их,
забудется болью минутной
едва озаренный стих.
Лишь после долгой разлуки,
иногда через год и два,
вдруг той же услышу я муки
забытые мной слова.
Невольно за хором темным
унесешься в канувший бред,
по дебрям скитаешься дрёмным,
утерянный ищешь след.
За словом возникнет слово,
увлекая печаль назад,
душа возвращается снова
в покинутый райский сад.
А там на ветвях, как звезды
нерожденных еще аиров,
мерцают волшебные грозды
созвучных печали слов.
Париж, 1940
III. «Принять, как схимы чин, удел печали…»
Принять, как схимы чин, удел печали,
отречься суеты, презреть гордыню;
смиренью научась, благословляя дали,
от ближнего уйти в свою пустыню;
почувствовать, что ты один на свете,
но говоришь устами всех живущих,
что позвала тебя мечта тысячелетий
и слышать призраки в веках грядущих;
Заворожить себя самим собою,
вверяя стих размерности певучей;
сопричастить весь мир божественному строю
исторгнутых из сердца тайнозвучий;
от звука к слову и от слова к звуку,
от мысли тайной к тайне воплощенья —
отдать всего себя за сладостную муку,
за горькое безумье вдохновенья.
Париж, 1940
Полдень («Пылает небо над пустыней…»)
Е.А. Жарновской
Пылает небо над пустыней,
слепят полдневные лучи,
далеко – море, в котловине
лепечут горные ключи.
Туда, в лесную тень, по скалам
иду тропинкой не спеша.
Каким-то счастьем небывалым
томится певчая душа.
Жук прожужжит иль свистнет птица,
или в траве прошелестит —
всё, всё земное будто снится
и вечность тайную сулит,
нездешней правдой сердце дышит
и чутко замирает вдруг
и в каждом звуке слышит, слышит
неслышный уху, тайный звук.
О, миг прозрения чудесный!
Преображается земля,
и дрёмой кажется небесной
непостижимость бытия,
всеозаряющим рассветом
сияет полдень надо мной,
и нет границы между светом,
бессмертием и тишиной.
Cannet, 1931
«Уходят года, невольно…»
Уходят года, невольно
подводишь итог судьбе.
Душе признаваться больно,
больней – молчать о себе.
Уходят года, с годами
прозрачней она, светлей,
и жаль не сказать словами
того, что таится в ней.
На сердце одна усталость,
но горько век не дожить.
Так много вспомнить осталось,
так много надо забыть.
Женева, 1939
«Я пришел к водоразделу…»
Я пришел к водоразделу:
все тропы отныне – вниз
к заповедному пределу
стремниной в сумрак разбрелись.
Впереди – пустая вечность,
непостижный путь земной.
Призрачная бесконечность,
все тот же морок и за мной.
Но светла небес дорога
в даль немыслимую, ввысь…
Дух мой, созидатель Бога,
в свое бессмертье вознесись!
Вечер («Все слезы к старости да сны воспоминанья…»)
Георгию Раевскому
Все слезы к старости да сны воспоминанья,
душа утихшая – как озера вода
в завороженный час, когда своё мерцанье
отдаст ей нехотя вечерняя звезда.
День отсиял давно, уж ночи тени реют,
уплыли дымами далекие луга,
былое ожило, и призраками веют
в сон утонувшие, слепые берега.
Всё тише, всё темней… Но глубь воды зеркальной
угаснуть не спешит: в лазури озерной,
покинув небеса, клубится остров дальний
и озаряется последней тишиной.
Париж, 1938
«Мою любовь, земное бремя…»
Георгию Иванову
Мою любовь, земное бремя,
всеисцеляющее время
сожгло на медленных кострах,
какой-то срок предельный дожит,
Теперь ничто уж не встревожит
любви испепеленной прах.
Воспоминания туманней,
и каждый день обетованней
в душе хранительный покой,
и призрак вечности лазурной —
как ангел над могильной урной
с благословляющей рукой.
Париж, 1924
Зов («Не о своей судьбе немилой…»)
Не о своей судьбе немилой,
не о себе моя печаль.
Я вспоминаю все, что было,
невозвратимого мне жаль…
Ах, этой грусти первородной
не умолкает темный зов,
звучит, как благовест подводный
из потонувших городов.
И знаю: душу к мертвой дали
не тщетно призывает он,
не только сон моей печали —
минувшего заклятый сон.
Пусть в жизни времени земному
себя на гибель отдаю,
послушен я и здесь иному
неузнанному бытию,
и то, что было или будет,
преображенный мой двойник
уж видит там, где все пребудет
и вечностью предстанет миг.
Женева, 1939
«Стонет ночь, куда-то манит…»
Стонет ночь, куда-то манит,
вся слезами исходя,
в окна мелко барабанит
дробь осеннего дождя.
Стонет ночь о неизбывном,
нерушимом в мире зле,
о каком-то счастье дивном,
недоступном на земле,
о далёком, безвозвратном,
где-то бывшем так давно,
что на языке понятном
не расскажешь всё равно.
Сердце маятное дремлет,
слушая родную жуть,
безысходным слёзам внемлет,
не дает уснуть.
Париж, 1940
Собор («Кочуя по сводчатым хорам…»)
Кочуя по сводчатым хорам,
качается бронзовый звон.
Плывут серомраморным бором
стволы полуколонн.
Дышу тишиною собора
и слушаю колокола.
От строгости Божьего взора
душа изнемогла.
Молюсь о любви чудотворной,
не помню ни злобы, ни зла.
Веригами вечности черной
гремят колокола.
Прага, 1922
Сон («В горах скалистых, по земле…»)
Памяти Максимилиана Волошина
В горах скалистых, по земле
песчаной, солнцем обожженной,
бреду я в предрассветной мгле и
вдруг, высоко на скале,
остановился, пораженный.
Безлюдна древняя земля,
к пустынным далям кругозора
плывут кремнистые поля.
Как острова из хрусталя,
в тумане горные озёра.
И разгорается восток,
светлеет небо понемногу,
ложатся тени на песок.
Над розовым холмом – дымок,
алтарь неведомому Богу.
Париж, 1930
«Дремлют древние развалины…»
Дремлют древние развалины,
плющ повис над крутизной.
Мысли небом опечалены,
тишиной и глубиной.
Облаков пещеры дальние
отражаются волной,
дышать омуты зеркальные
надо мной и подо мной.
А в душе – виденье тайное,
небо вечности иной,
снится ей необычайное —
сон земной и неземной.
Прага, 1922
Отражения («О, мир двоящийся, волшебство отражений…»)
Графу П.А. Бобринскому
О, мир двоящийся, волшебство отражений,
вечерней памяти благословенный яд,
час невозвратности и вечных возвращений,
в воде зарей небес пылающий закат!
Две глуби сонные… Какой из них поверим?
Где загорался луч непризрачной звезды?
Лазурь всевышнюю озёрный манить терем,
подводные леса – как райские сады.
И ближе, ближе ночь. Гореть заря устанет,
растают в сумраке туманные холмы,
и дымный Серафим с мечом на страже станет
непостижимости, молчания и тьмы…
Париж, 1938
Капитель («Как тело у девушки розов…»)
Как тело у девушки розов
обласканный солнцем парос.
Разбрелось по тропам откосов
белорунное племя коз.
Колонны обломок забытый,
свирели воркующий звук.
Когда-то алтарь Афродиты,
сегодня – пастуший луг.
Фиолетовый дождь глициний
застыл над грудой камней,
на листьях аканфа – синий,
колючий узор теней.
Да ящерица на припёке
прошмыгнет и забьется в щель,
Как вздох о богине далекой —
коринфская капитель.
Прага, 1923
LACRIMAE RERUM («Покинут старый дом, забыт…»)
Памяти князя Сергея Волконского
Покинут старый дом, забыт
отломок времени и славы.
Герб над решеткой величавый
разросшимся плющом обвит.
Лепной потрескался карниз
и наглухо забиты ставни,
и веет былью стародавней
осиротелый кипарис.
В аллеях смутно, как во сне,
иду по грудам бурелома
и на скамье у водоема
прислушиваюсь к тишине.
Заглох давно лесной родник,
его струей плескавший мерно,
прямоугольная цистерна —
в сетях у цепких повилик.
Сухие прутья и стручки
устлали обнищалый мрамор,
запаутиненных карамор
в углах – пушистые пучки.
И тут же, брошенный в кустах
садовой клумбы разоренной, —
обрубок статуи: замшенный,
изглоданный дождями Вакх.
Зияют впадины глазниц
и скулы язвами изрыты,
весь почернел кумир забытый,
добыча прели и мокриц.
Но меж кудрей еще цела
тугая гроздка винограда,
и хмель таинственной Эллады
в припухлой нежности чела.
Как не узнать тебя, Жених,
веселий грозных предводитель,
хоть брошена твоя обитель
и нет вокруг менад твоих!
О, вещий тлен! Печаль хвощей,
струящихся из чаши Вакха,
журчанье Леты, слезы праха,
слепая жалоба вещей…
В аллеях – призрак каждый куст,
блуждаю долго, бесприютный,
и слушаю, как шепот смутный,
своих шагов по листьям хруст.
О, грусть! Ушедший в вечность день
и этот сон о мертвом боге,
пустынный дом и на пороге
моя скитальческая тень.
Прага, 1923
Юг («Июлем раскаленный юг…»)
В.А. Злобину
Июлем раскаленный юг,
пылающее море,
вдали – туманный полукруг
таврических предгорий,
костёр полуденных небес,
кипенье голубое,
цикады знойно-звонкий треск
и шелесты прибоя,
да чайка: вскрикнет и нырнет,
и, выгибая спины,
выплёскиваются из вод веселые дельфины.
Симеиз, 1919
Биот («Спит городок на холмике крутом…»)
А. Н. Гиппиус
Спит городок на холмике крутом,
весь – будто с заводной шкатулки.
Дерюгой пахнут, гарью и вином
ступенчатые переулки.
Над домом дом, ныряют тупики,
как западни проходы глухи,
под сводами – железные крюки
и в окнах черные старухи.
Часовня у разваленной стены
поникла в непробудной дрёме.
На перекрестке лепет тишины,
струя в чугунном водоеме.
Бежит-журчит, и брызги на чугун,
грядущий день – как день вчерашний.
И время, старенький слепой горбун,
бьет в колокол на башне.
Биот, 1928
Струя в водоеме («Я в земле родилась…»)
Я в земле родилась,
из земли поднялась,
мне родимый отец
ледяной студенец,
темной глуби верна,
я всегда холодна,
дни и ночи журчу,
тишиной бормочу.
Эта площадь вокруг —
заколдованный круг,
эти стены – как сны
от моей тишины,
за годами года
заклинает вода,
ворожит водоем
ключевым серебром.
Ни покоя, ни сна,
только звон чугуна,
ни друзья, ни враги —
только чьи-то шаги,
только чья-то рука
прикоснется слегка,
чей-то жаждущий рот
осторожно прильнет.
И бегу я, бегу,
отдохнуть не могу,
никогда не усну,
не вернусь в глубину,
упокоив мою
студеную струю.
Я в земле родилась,
из земли поднялась…
Биот, 1928
«Все в мире вечно и связано…»
Все в мире вечно и связано,
хоть смутно светить звезда.
Всему дорога указана,
только не знаем – куда.
Любовь коснется случайная,
иль чья-то жизнь позовет, —
молитва сбудется тайная,
тайна любви не прейдет.
Одно движенье небрежное, —
судьба постучит в окно,
и ты разбудил неизбежное:
все навсегда решено.
Париж, 1940
Стена («В окне моем неровная стена…»)
М.А. Форштетеру
В окне моем неровная стена
вечерним золотом озарена,
а снизу, со ступени на ступень,
по ней скользит, едва заметно, тень.
Все выше, выше к трубам дымовым,
все ближе к небу этот синий дым,
еще немного – станет он мутней,
поглотит стену и растает с ней.
И всматриваясь в медленную тень,
я чувствую, как умирает день,
как уплывает в звездные поля
усталая, вечерняя земля.
Париж, 1940
Нищий («В городском саду за рекой…»)
В городском саду за рекой,
под каштанами, день-деньской
старый нищий сидел на пне,
всякий раз попадался мне.
Всякий раз минувшей зимой,
через сад проходя домой,
десять су я совал ему
в утешительную суму.
Он был очень убог и тощ, —
на посту и в холод и в дождь,
как заморщенный серый гриб,
к придорожной траве прилип.
Всё о чём-то просил старик,
но в его слова я не вник;
что-то шамкал беззубый рот,
да понять я не мог весь год.
А недавно я мимо брёл,
никого в саду не нашёл, —
только пень торчал сиротой
над примятой слегка травой.
И с тех пор, уж не первый день,
мне мерещится этот пень,
и на сердце комом тоска.
Видно – я любил старика.
Париж, 1940
Шарманка («На темный перрон полустанка…»)
Е.А. Жарновской
На темный перрон полустанка,
под утро – ни свет ни заря,
плетется хромая шарманка,
поет, надрывается вся.
Хоть голос у немощной звонок
и в ней человечья душа,
никто из вагона спросонок
в окошко не бросит гроша.
От века закон одинаков
на всех перепутьях земли.
И старенький вальс не доплакав,
умолкнет шарманка вдали.
Париж, 1940
Певица («В четверг под моё окно…»)
И.И. Жарновскому
В четверг под моё окно
приходит женщина петь.
Пусть ей-то уж всё равно,
да жуть на неё смотреть.
Во взоре не то вопрос,
не то, как ножом, печаль,
и грязная прядь волос
бахромкой седой – на шаль.
А песню поёт она
такую – хоть плачь навзрыд,
всю душу мою до дна
призывной тоской пронзит.
Любого греха страшней,
нельзя никому простить.
И хочется крикнуть ей:
Неправда, не может быть!
Париж, 1940
Луна («На соседнюю крышу…»)
На соседнюю крышу
я смотрю из окна,
ослепительно в крыше
отразилась луна.
Изумруды, алмазы
весь усеяли скат,
в изумрудах, в алмазах
черепицы горят.
Как безводный колодец —
этот нищенский двор,
днем все серо в колодце:
люди, камни и сор.
А сейчас! На часовню
он похож, у дверей —
как лампады в часовне
огоньки фонарей.
Ночь, угодница Бога,
лунным дымом кадит,
закоулок убогий
жемчугами кропит,
и над городом крылья
простирает окрест,
серебристые крылья
озаренных небес.
Париж, 1940
Сказка («Умчи меня, мой демон, в ту страну…»)
П.А. Плетневу
Умчи меня, мой демон, в ту страну,
где луч небес не угасает
и вечную баюкает весну,
где сонь – как явь, и явь подобна сну,
и солнце полночи сияет.
Там вольно дышит все, что никогда
не смело быть в подлунном мире.
Там каждый миг рождается звезда,
и возвращаются назад года,
и всех морей просторы шире.
Там в заросли вещун-единорог,
водой болотной плещут бесы,
там карлики лесные с ноготок,
и папоротником цветущий лог,
и в башнях пленные принцессы.
Там в океане ласковая мель,
где разговаривают волны,
и в гавани из призрачных земель
с товарами приходят и досель
Синдбада расписные челны.
Там – родина моя, волшебный град,
где мудрые владычат феи,
и за семью замками сторожат
сто рыцарей заговоренный клад,
кольцо с мизинца Дульцинеи.
Прага, 1922
Венеция
В.В. Голубеву
I. «Ленивый плёск, серебряная тишь…»
II. «Всю ночь – о, бред! – в серебролунных залах…»
Ленивый плёск, серебряная тишь,
дома – как сны, и отражают воды
повисшие над ними переходы
и вырезы остроконечных ниш.
И кажется, что это длится годы…
Скользить луна по черепицам крыш.
И где-то песнь. И водяная мышь
шмыгнет в нору под мраморные своды.
У пристани заветной, не спеша,
в кольцо я продеваю цепь. Гондола
покачиваясь дремлет. Чуть дыша
прислушиваюсь: вот, как вздох Эола,
прошелестит издалека виола…
И в ожиданье падает душа.
Всю ночь – о, бред! – в серебролунных залах
Венеции я ворожу, колдун,
и веют мглой отравленных лагун
дворцы ее в решетчатых забралах.
Всю ночь внимаю звук шагов усталых,
в колодцах улиц камни – как чугун,
и головы отрубленные лун
всплывают вдруг внизу, в пустых каналах.
Иду, шатаясь, нелюдим и дик,
упорной думой растравляю рану
и заклинаю бледную Диану,
а по стенам, подобен великану,
плащом крылатым затмевая лик,
за мною следом лунный мой двойник.
Прага, 1923
Лунный водоем
I. «Огонь потух, и пусть – оставь заботу…»II. «Сияла ночь, тонул увядший сад…»
Огонь потух, и пусть – оставь заботу,
пусть лунные лучи из-за гардин
угасят лак докучливый картин
и мебели седую позолоту.
Так, день за днем – о, сколько раз, без счету! —
здесь у камина я сидел один
и, догорая, наводил камин
на одиночество мое дремоту.
Донг-донг! Часы двенадцать бьют в углу.
Смотрю сквозь сон на мертвую золу,
сквозь сон дремучему внимаю басу…
Звон, равнодушный звон к добру и злу,
что шепчешь ты полуночному часу?
Затих, умолк… Я вышел на террасу.
III. «Я наклонил лицо над водоёмом…»
Сияла ночь, тонул увядший сад
в мерцающих прозрачноструйных дымах,
эллизиум аллей неисчислимых
просвечивал сквозь кружево аркад.
Я долго шел вдоль стриженых оград,
тревожа сон цветов моих любимых…
Вот и бассейн: на водах недвижимых
застыли лебеди у балюстрад.
Как в зеркале, садовая руина
и буксы четко отразились в нем,
шиповником заросшая куртина,
скамья и статуи богинь кругом.
Из пасти у чугунного дельфина
струя, искрясь, бежала в водоёмы
Я наклонил лицо над водоёмом,
в мои глаза взглянула глубина
прохладных вод. Огромная луна
плыла внизу на небе незнакомом.
О, как влекла зеркальная страна
в немую глубь, к незнаемым истомам,
туда, туда, где отдаваясь дрёмам,
волшебствовала фея Тишина.
И по тропам ее державы фейной
я уходил из сумрака аллей,
прислушиваясь к ней благоговейно,
и все таинственней сливались с ней
струи журчащие и мгла теней
и блеск луны на мраморе бассейна…
Прага, 1922
Призраки («Бойся призраков – не тех, не тех…»)
З. Н. Гиппиус
Бойся призраков – не тех, не тех
блудных духов преисподней,
искупающих великий грех
в вечности Господней.
Берегись других теней, теней
из страны когда-то милой,
сердцу, не забывшему о ней,
тени скажут: было.
В час раскаянной тоски, тоски
суженой тебе судьбою,
двинутся туманные полки,
уведут с собою.
В омуты свои – назад, назад
путь душе они укажут,
мертвою водою окропят,
саванами свяжут.
Бойся памяти больной, больной
грусти о давно любимом,
о любви развеянной давно
на могилах – дымом.
Париж, 1926
Отчий дом («Я вернулся в отчий дом…»)
Я вернулся в отчий дом,
о минувшем не жалея, —
стынет под косым дождем
вырубленная аллея.
Жду, переступив порог:
не узнать сеней знакомых,
продырявлен потолок,
пахнет завалью в хоромах.
В комнату к себе, скорей!
Жалко скрипнули ступени,
притаилась у дверей
жуть постылых привидений.
Точно пугала, кресты
труб чугунных – в окна с крыши.
Никого! Из пустоты
писк голодной мыши.
Париж, 1938
Тень («Ты приходишь усталой тенью…»)
Ты приходишь усталой тенью,
посылает тебя могила,
отдана моему томленью,
Застываешь в дверях уныло.
Ты бледнее теперь намного,
и в глазах – синева тумана,
у пробора над бровью строгой
запеклась небольшая рана.
Ничего у меня не просишь,
за вину не грозишь расплатой,
только холод с собой приносишь,
как дыханье страны заклятой.
Только душу мою глубоко
проникаешь пустынным взором, —
безнадежностью веешь рока,
леденишь неземным укором.
Я поверить хочу в прощенье,
Отче Наш бормочу святое,
я не верю завету мщенья,
вспоминая тебя живою.
Но ты связана вышней силой,
не вольна преступить запрета:
возвращенная мне могилой,
уходишь, не дав ответа.
Париж, 1940
Лик («Что говоришь, таинственный, о чем…»)
Памяти Иннокентия Анненского
Что говоришь, таинственный, о чем
пророчишь ледяным молчаньем?
И светишься каким лучом,
каким обетованьем?
Куда от нас восхитился твой дух,
смежив тебе земные веки?
Иль, как свеча, сгорел, потух,
исчез совсем, вовеки?
И если нет, все ли забыл он днесь
о жизни – там, в селеньях рая?
Иль помня все, что было здесь,
лишь дремлет, вспоминая?
Внимает ли, прощенный, небесам,
дивясь цветам лугов надзвездных?
Или возмездья ужас – там,
в неосиянных безднах?
Прага, 1922
Кума («Как быть с тобой, убогая кликуша?..»)
Как быть с тобой, убогая кликуша?
Все маешься и голосишь больней,
час от часу взывают вопли глуше
из темноты и нищеты твоей.
И то сказать, под кровлею дырявой
тесна, грязна постылая изба,
а ключ от двери со скобою ржавой
кривой куме подкинула судьба.
Но не зови ее… Мольбою тщетной
не досаждай до времени куме,
найти не пробуй лазеи запретной,
о воле заклятой не плачь во тьме.
Брось, старая! Сиротскую награду
и ждать уж недолго. Кума придет, —
обмоет, обрядит, зажжет лампаду
и в дверь, на волю, не спросясь, толкнет.
Женева, 1939
Колыбельная («Спи, сынок! Земля заснула…»)
Моему сыну Ивану
Спи, сынок! Земля заснула,
в небе звездном утонула,
ветром ночи колыхнуло
занавеси у окна.
Баю-бай! Не бойся ночи,
тайну райскую пророчит,
рассказать о смерти хочет
бесконечность-тишина.
Спи, сынок, пока несмело
над твоею зыбкой белой,
головою поседелой
наклоняясь, бормочу.
Рано ль, поздно ль – не минует,
сон последний поцелует,
ветер вечности задует
чудотворную свечу.
Спи, мой первенец любимый!
Снами вышними хранимы,
ласковые херувимы
шепчут песню… Не тебе ль
Только Бог про это знает,
Он один не отдыхает,
над пучиною качает
огненную колыбель.
Спи, сынок! Земля заснула,
в небе звездном утонула,
привиденьями дохнула
бесконечность-тишина.
Спи! Все – сон: людская злоба,
ад и рай за гранью гроба,
и с тобой мы оба, оба —
только тени, тени сна.
Симеиз, 1918
Рождество («Звезда над стогнами Вифлеема…»)
Памяти Владислава Ходасевича
Звезда над стогнами
Вифлеема,
Неизреченный сияет свет.
У яслей Господа
вместе все мы,
и только сон —
две тысячи лет.
Ах, разве не мы
с дарами Богу
тропою звездной
в пустыне шли?
Не нам ли Он
указал дорогу
в вертеп убогий
древней земли?
Волхвы таинственной
Ниневии
и пастухи
библейских долин,
мы предстояли
Деве Мари,
когда родился
предвечный Сын.
У яслей Господа
вместе все мы —
слепые искры
Его огня.
Звезда над стогнами
Вифлеема, обетованье
Божьего дня.
Париж, 1927