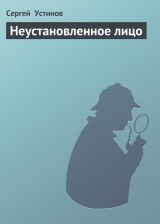
Текст книги "Неустановленное лицо"
Автор книги: Сергей Устинов
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Но, провожая меня до лифта, Горовец снова сделался сама любезность:
– Всего доброго, очень рад был познакомиться, если будут еще вопросы, обязательно звоните...
Только ножкой не шаркнул.
9
Трясясь в троллейбусе на обратном пути в управление, я подводил малоутешительные итоги. Разговор с Горовцом не оставил во мне ничего, кроме глухого раздражения. У меня осталось лишь смутное впечатление, что наша беседа ему дала даже больше, чем мне. В том смысле, что я не узнал почти ничего интересного, а он понял, что ничего интересного я не знал и до этого. Хорошо, если ему действительно нечего было мне рассказать. А если было?
Мне вообще все сегодня не нравилось. Третий день, а мы еще двигаемся, словно механическая игрушка с ослабевшей пружиной: дернемся – остановимся, дернемся в другую сторону – и снова стоп! Конечно, я по опыту знал, что рано или поздно количество наших усилий перейдет в качество. Но когда, когда?
Еще сквозь запертую дверь я услышал, как в нашем кабинете разрываются на разные голоса оба телефона. Влетев на полном ходу, я чуть не свалил на пол эту чертову цикуту, но успел вовремя схватить обе трубки и крикнуть в них “алло!”. В одной оказался Комаров, который коротко бросил: “Зайди”. В другой сидел Балакин и, пока я говорил Комарову “есть”, обходил вокруг стола и садился, уже что-то рассказывал.
– ...плетеная, с цветочками, – протокольным голосом говорил Митя. – На дне плащ, синий, скомканный и косметичка, которую она, видать, держала еще и за портмоне. В ней темные очки, пудра, тушь, тени для век, фотография ее самой, потрепанная, размер – три на четыре, две квитанции из химчистки, редакционное удостоверение и паспорт. Кошелька нет – если он был, конечно. И нет ключей – никаких.
– Погоди, Митя, – сказал я, уже поняв, что речь идет о сумке Троепольской. – Где нашли-то ее?
– Так я ж с этого начал! На помойке, кварталах в двух от места убийства.
По словам женщины, обнаружившей сумку, она была уже полузакидана каким-то мусором. Но Балакин утверждал, что пролежать там все три дня она не могла: он проверил, вчера днем мусор вывозили, баки были пусты. Следовательно, сумку подкинули не раньше, чем вчера вечером. Именно подкинули, потому что, считал Балакин, даже полный идиот за два дня сообразил бы, что надо отвезти ее куда-нибудь подальше. Из этого Митя делал вывод, что на версию о рабочем со стройки нас выводят. Я сказал ему, чтобы ехал к нам, вез сумку на экспертизу, и пошел к Комарову.
Его самого в кабинете не было, зато на стуле у окна сидел посетитель, широкоплечий парень в джинсах, спортивной куртке и кроссовках. Он поднялся мне навстречу и спросил:
– Вы Невмянов? – а после моего кивка протянул руку: – Буйносов. Константин Петрович вышел, просил, чтобы я все вам еще раз повторил.
Я присел напротив. У парня было лицо, похожее на месяц в небе, как его рисуют в иллюстрациях к детским сказкам: все тянулось вперед – подбородок, нос, тонкие губы, короткий светлый чубчик. Сходству мешали только жесткие светлые усы, цветом и качеством напоминающие новенькую зубную щетку. Говорил он глубоким и мягким голосом.
– Вот, для начала, чтобы представиться... – Визитная карточка со стола Комарова перешла ко мне в руки. “Буйносов Эдуард Николаевич. Старший научный сотрудник Государственного литературного музея. Кандидат филологических наук”. Я еще раз оглядел парня, который, впрочем, теперь уже парнем мне не показался. Вот, значит, какие нынче пошли книжные черви, музейные крысы! Отстал я, выходит.
Я вернул карточку на стол и изобразил готовность слушать.
– Дело в том, – сказал Буйносов, – что Ольга Васильевна Троепольская вела с нашим музеем переговоры о продаже библиотеки.
Я ничего не понял. Какая библиотека? Полочка потрепанных книжек в дешевых изданиях на стене в разоренной комнате – не это же?! Видно, недоумение явственно отразилось на моем лице, потому что он поспешил объяснить:
– Не своей. Она, так сказать, выступала представителем. Это библиотека вдовы одного собирателя. Старушка последние лет десять распродавала кое-что, по мелочам, на жизнь. Через магазин в основном. А с недавнего времени стала плоха совсем, ну к ней и повадились ходить какие-то на дом. Ольга рассказывала: она не видит почти ничего, еле ходит, так эти подонки приноровились одну-две книжки у нее для вида покупать, а еще пять воровать!
Последние слова он произнес с гневом. Я с ним полностью солидаризовался, но не забыл приметить “Ольгу” и отложить ее в сторонку до поры.
– В общем, Троепольская взялась ее опекать, продукты носила и все такое... – Он сделал общий взмах рукой, а я попытался представить себе, что может значить “все такое” в отношении старушки, которая еле ходит и почти не видит, но толком не смог. – А потом уговорила ее передать всю библиотеку в музей – естественно, с компенсацией. Во-первых, чтобы ее больше не грабили, во-вторых, чтобы сохранить цельность коллекции – в память о покойном муже.
– Там что, было на крупную сумму? Мне показалось, что Буйносов смутился.
– Видите ли, о конкретной сумме речь не шла еще. Только предварительные переговоры, составление списка. Мы не очень-то богаты... Зато можем гарантировать, что коллекция сохранится как единое целое, с фамилией собирателя!..
– Но там действительно ценные книги? – гнул я свое, милиционерское.
– Безусловно! Были даже очень ценные, просто уникальные! Прижизненные издания Пушкина, например, и Радищева. Потом...
– Почему “были”? – спросил я.
Он запнулся и клюнул своим длинным носом.
– Я же объяснил уже... Константину Петровичу... Когда я вчера позвонил в редакцию и узнал про... про несчастье... В общем, сегодня я ездил к этой старушке, к Анне Николаевне. Она ничего не знает, я ей не стал рассказывать. Не смог... Она все время говорила про Ольгу, как про живую, так хвалила ее!.. И еще она сказала, что самые ценные книги она недавно отдала ей, на всякий случай, потому что эти нахалы все еще звонят, приходят... Я и приехал к вам.
“Ну вот, – подумал я, – кое-что и прояснилось”. Не зря я плакался сам себе в жилетку. Мы, конечно, не кандидаты филологических наук, но тоже представляем себе, сколько могут стоить прижизненные издания Пушкина и Радищева. Я достал блокнот.
– Можете мне перечислить книги?
Он взял листок бумаги со стола Комарова.
– Вот, Константин Петрович уже записал. И я тут цены проставил, букинистические. Знаете, на такие книги даже в каталоге цена определяется не твердо, а от какой-то суммы и дальше вверх, на усмотрение оценщика.
Я глянул на итог, подведенный комаровской рукой: четырнадцать тысяч. Чем не мотив? – как любит говорить наш начальник. Внизу было написано: “Горбатенькая Анна Николаевна”. И адрес с телефоном.
Буйносов встал, развел руками.
– Вот, собственно, и все. Константин Петрович что-то задерживается, а мне пора. Вы можете подписать мне пропуск?
– Могу... – Я все прикидывал, как спросить его про “Ольгу”. Ничего тонкого не придумал и хотел уже брякнуть напрямую, когда появился Комаров.
– Побеседовали? – усмехнулся он, усаживаясь за свой стол и подписывая Буйносову пропуск. Я подумал, что нет худа без добра: может быть, к следующему разговору с кандидатом филологических наук и придумаю способ, как потоньше задать ему этот деликатный вопрос. У меня на сей счет имелись кое-какие соображения.
Когда Буйносов ушел, я доложил Комарову про Горовца. Он молча снял трубку и набрал номер.
– Алексей Степанович? – (Я понял, что он звонит зам начальника УБХСС.) – Комаров. Можешь выяснить: твоим ребятам такое словосочетание – Горовец Виктор Сергеевич – что-нибудь говорит? Ах, прямо тебе говорит? Ну-ну.
Несколько минут он слушал не перебивая, потом поблагодарил и попрощался.
– Спекулянт, – кратко передал он содержание своей беседы. – В основном живопись, во вторую очередь антиквариат. Пока по разным делам проходил свидетелем, прямо его не зацепили ничем. Хорошая прикрышка: художник, коллекционер. Ну, рисунками своими он сейчас и на бензин себе не заработает, хотя раньше, сказывают, работал много.
“Значит, все-таки было чего опасаться моему пухлому приятелю”, – подумал я. Да, в его положении – чем меньше контактов с нашим учреждением, тем лучше. А то ведь, не дай Бог, начнем ковырять, посыплется краска – не оберешься хлопот с реставрацией!
– Чем не мотив? – спросил Комаров. – Девчонка могла художника на чем-нибудь поприжать. Она ведь, как я понял, крупная была любительница всяких разоблачений.
Возвращаясь к себе, я размышлял над тем, что мотивов прикончить Ольгу Троепольскую набирается все больше. Еще чуть-чуть, и станет ясно, что у нее просто не было шансов выжить.
Когда я открыл дверь в нашу комнату, то застал там всю компанию. Северин курил у окна, пускал дым в форточку и даже не обернулся на мой приход. Балакин с бессмысленным выражением на лице окучивал карандашом цикуту. Гужонкин, как-то криво и неопределенно ухмыляясь, сидел в углу. У него был толковый вид приятеля фокусника, который знает, какую штуку нам сейчас отмочат, но не имеет права фыркать раньше времени. Все молчали.
Я шагнул на порог и врезался лбом в это молчание, как пассажир, забывший пристегнуться ремнем безопасности.
– Ну что еще случилось? – спросил я, мгновенно ощущая тоскливое томление под ложечкой. – Опять убили кого-нибудь?
– Вроде того, – пробормотал Гужонкин и принялся массировать себе затылок.
– Леня, просвети товарища, – Jio-прежнему не оборачиваясь, скучным голосом попросил Северин. – У меня что-то голова просто раскалывается.
– Значит, так, – начал Гужонкин. – Для начала, как только ты ушел, позвонил старик Макульский. Видишь ли, у этой девчонки в паху все вены исколоты...
У меня глаза полезли на лоб. Ольга Троепольская – наркоманка?!
– Ну и общая диагностическая картина соответствует, – продолжал он. – Почки, печень, желудок, кровеносная система. Явные следы долговременного употребления. Скорее всего перветин. Но не исключены и маковые производные, вплоть до морфия.
Я только и мог, что обалдело потрясти головой.
– Ну, тут уж, сам понимаешь, мы все вместе двинули к ней на квартиру. А там... Как я и предполагал, все дело оказалось в пальчиках...
– Покороче... – проскрипел Северин от окна.
– Короче некуда, – откликнулся Гужонкин. – В кухне, на посуде Троепольской, на столе, даже на банках с вареньем мы нашли одни и те же отпечатки. Того же “неустановленного лица”, что и в комнате.
Он замолк, как бы предлагая дальше додуматься мне самому. Но на меня нашел некий ступор: я чувствовал, что здесь что-то неладно, мучительно готов был вот-вот найти отгадку, но в последний момент мысль срывалась с гладкой поверхности и валилась на спину лапками кверху.
– Тогда мы поехали в редакцию, – продолжал Гужонкин, правильно оценив отсутствие у меня реакции, – и там на дверце маленького сейфа обнаружили несколько разнообразных отпечатков, но больше всего – каких? – спросил он тоном учителя, закрепляющего пройденный материал.
– Неустановленного лица, – автоматически ответил я, сам себе боясь признаться, что понимаю, куда он клонит.
– Правильно! – подтвердил Гужонкин. – После чего мы достали со шкафа графин, из которого Троепольская – только Троепольская! – поливала цветы у себя на подоконнике. На нем были – что? – Он вопросительно ткнул в меня пальцем.
Я уже обо всем догадался, но догадка выглядела так нелепо, что я молчал.
– Пальчики неустановленного лица! – торжественно провозгласил Гужонкин. – Ну, естественно, тогда уж мы поехали в поликлинику и попросили нам показать амбулаторную карточку, так сказать, покойной. Никакими специфическими заболеваниями она, правда, не страдала, ни зато три года назад перенесла операцию по поводу флегмонозного аппендицита...
Он сделал паузу, рассчитанную, вероятно, на последующий эффект, но его опередил Северин.
– Никаких следов операции на трупе нет, – жестко сказал он, поворачиваясь ко мне. – Это не Троепольская.
Теперь мы молчали вчетвером.
– Эх, сыщики!.. – вздохнул наконец Балакин и с треском обломал карандаш. – Что делать будем?
– Я, например, – сказал Северин, снова отворачиваясь к окну, – надену рубище, посыплю главу пеплом и пойду поклониться мощам того Мафусаила, который первый мне, кретину, объяснил, что женщина шла от дома номер шестнадцать! А я, идиот, ему не поверил!
– С нашей активной помощью, – грустно подтвердил Балакин.
– Но погодите... – начал я. – Надо же разобраться! А платье? А сумка с паспортом? А Петрова с Пырсиковой? Они же ее опознали!
– Все это прибереги для объяснений Комарову, – обреченно ссутулился Северин. – А может, кому повыше.
Я вдруг почувствовал, что безумно устал, и опустился на стул. Чем, черт побери, мы занимались эти двое суток? Бегали, суетились, дергались в разные стороны...А пружинка, оказывается, не ослабла, просто крутили ее не туда, куда надо. И теперь, что вполне естественно, она наконец выскочила из гнезда, распрямилась и залепила прямо в лоб незадачливому механику, который взялся посмотреть, что там внутри у механического зайца.
10
Вполне возможно, что я от обалдения утратил на какое-то время способность адекватно оценивать события. Во всяком случае, следующим потрясением дня стало для меня то неожиданное спокойствие, с которым Комаров воспринял нашу информацию. Я говорю “нашу”, потому что никто из нас не соглашался идти докладывать в одиночку, и мы вломились к нему все вместе, прихватив с собой даже попытавшегося было увильнуть Гужонкина.
– Ну что ж, лучше поздно, чем никогда, – сказал зам начальника МУРа и усмехнулся: – Как заметил один самоубийца, кладя голову на рельсы после прошедшего поезда. Хорошо хоть, что успели выяснить это до похорон. Был бы нам всем номер... – И, изменив тон, жестко перешел к делу: – Мысли? Соображения?
– Весь план полетел к черту, – махнул рукой Северин.
– Надо новый составлять.
– Почему это весь? – неожиданно резко спросил Комаров. – Предположим, это действительно не Троепольская, а некая женщина, очень на нее похожая. Тогда где журналистка? Сумка-то на помойке ее валяется! В ее комнате все вверх дном, не в чьей-нибудь! Какой такой другой план вы мне можете предложить, если даже неизвестно, чей труп у нас на руках? У вас что, заявление об исчезновении другой женщины есть? Нет! Зато у вас есть... – Он принялся медленно загибать пальцы, вколачивая в нас каждое слово, а мы увидели, как постепенно и неотвратимо свирепеет наш начальник, причем об объекте его недовольства, увы, гадать не приходилось: – Платье на Троепольской в день убийства было такое же, как на трупе – раз! Сумка такая же – два! Эти из газеты по внешнему виду без всяких сомнений признали в убитой Троепольскую – три! И наконец, сама она третьи сутки находится неизвестно где – четыре! Что все это значит, вы дали себе труд подумать, прежде чем разнюниваться? А значит это, что, когда вы найдете Троепольскую, вы, скорее всего, узнаете, кто убит, а может быть, кем и почему. Ясно?
Я исподтишка переглянулся со своими товарищами и почувствовал, что не меня одного, видимо, хлопнуло по голове и привело в растерянность неожиданным поворотом нашего, с позволения сказать, сюжета. Но, как ни странно, именно вид не на шутку рассвирепевшего Комарова – явление редкое и грозное – кажется, приводил нас в чувство.
– Ясно, – от имени всех твердо ответил Северин. – Значит, так, шестым пунктом пишем в план работу по наркомании. Кто там у нас по ним главный?
– Леван Багдасарян, – отозвался я.
– Надо будет для начала показать его ребятам карточки Троепольской и убитой... впрочем, это один черт... вдруг кто чего видел? А если нет, начать потихоньку отрабатывать контингент. Ох, не люблю я этот народец!
И у меня в голове начало, кажется, проясняться. Я сказал:
– Есть версия в отношении собственно убийства. Убить хотели действительно журналистку – мотивов-то нам известно достаточно. А наркоманка – жертва недоразумения.
– Скорее всего не недоразумения, а какого-то очередного фокуса этой Троепольской, – пробурчал из-за наших спин Гужонкин.
– То, что убитая не Троепольская, еще не значит, что сама Троепольская жива, – тихо, но твердо сформулировал Дима Балакин.
– Работайте, – прихлопнул ладонью по столу Комаров и сам тяжело поднялся со своего места. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять: теперь его, очередь идти докладывать, отдуваться за нас. Мы ретировались мгновенно.
– Ну-с, – нахально сказал Северин, когда мы вернулись к себе. – Мысли? Соображения?
– Иди к черту, – ответил я. – Ты старший, вот и командуй.
– Хорошо, – покладисто согласился он. – Тогда так:
Балакин едет к себе и занимается дальше отработкой территории и бывшими жильцами дома номер шестнадцать. Товарища Гужонкина попросим любезно заняться экспертизой сумочки. Невмянов с портретами наших близняшек пойдет к Багдасаряну, я пойду к ребятам в БХСС с блокнотом Троепольской, поинтересуюсь, как обстоят дела с библиофилами и библиоманами. Потом мы с Шурой решим по обстановке, что делать дальше. Связь держим через Митеньку. Возражения есть?
– Полководец! – восхищенно сказал Гужонкин. – Наполеон!
И все потянулись к выходу.
Леван долго рассматривал фотографии, крутил их так и этак, но потом все-таки сказал с сожалением: – Извини, не узнаю. Оставь, завтра на пятиминутке всем своим покажу.
– Леванчик, – попросил я, – расскажи в двух словах, что это за штука такая – перветин?
Багдасарян закатил глаза и ответил коротко:
– Дрянь.
– Из чего хоть его делают?
– В этом все дело, понимаешь, нет? – Леван большую часть жизни прожил в Москве, говорил почти без акцента, если, конечно, не считать акцентом бешеный южный темперамент, который вылезает из него чуть не на каждой фразе. – Эфедрин, капли в нос знаешь? Семь копеек стоит! Берешь эфедрин, берешь марганцовку, еще несколько компонентов – почти все в аптеке продаются! – и получаешь эту гадость!
– Просто смешать надо, что ли?
– Не просто. Рецепт надо знать, пропорции надо знать, кое-какие колбы надо иметь. Но не сложно. Все делают гады дома, в кухне, на газовой плите. Из одного флакона за семь копеек десять порций по червонцу получить можно!
– А куда Минздрав смотрит? – искренне удивился я. – Запретить производство этого эфедрина к едрене фене – и нет проблемы. Что, других капель от насморка мало?
Я увидел, как Багдасарян наливается гневом.
– Не говори мне этого слова: Минздрав, горздрав! Два года бились, чтоб они этот перветин проклятый просто наркотиком признали хотя бы. Потом еще год, чтобы в аптеках в Москве стали эфедрин отпускать по рецептам. В Москве стали, в Калинине не стали. Везут оттуда. Да его даже с производства снимать не надо: добавить туда кое-каких масел, мы в специальный институт ездили, советовались – и вся недолга. От насморка лечит, наркотик – не получается.
– Так в чем же дело?
– Ты их спроси, – зло ответил Леван. – Они там сидят, они оттуда не видят, что мы видим. Они бумаги пишут, совещания собирают, а здесь люди гибнут в буквальном смысле. Но я их дожму, – добавил он, сжав кулаки. – Обязательно дожму. Ладно, давай про это не будем, а то я заведусь совсем. Что еще интересно?
– Есть у них какие-нибудь постоянные места сейчас? Кафе? Скверы?
Я помнил, что года два назад, когда мне последний раз пришлось иметь дело с наркоманами, такие кафе были. Но я знал, что эти точки часто меняют место в основном благодаря нашим же, милицейским усилиям.
– Нет, – покачал головой Леван. – Мы их так обложили, что они все теперь по квартирам расползлись как тараканы. Адреса знаем, конечно, но войти внутрь, сам понимаешь, не всегда просто. Вы бы выяснили поподробней, из какой она была компании, мы бы постарались дать вам разработочку.
Я вспомнил предположительный диагноз Макульского и спросил:
– А какие сейчас каналы поступления опиума, морфия?
– Морфия в ампулах – обычные, хищения в медучреждениях. И, между прочим, опять все в Минздрав упирается. Знаешь, сколько ампула морфия по госцене стоит? Пять копеек! Дешевое средство, не жалко! А на “черном рынке” по двадцать пять рублей идет... Сколько мы предложений делали: подкрашивать, в специальные ампулы запаивать, в фольгу упаковывать. Все зачем? Упростить контроль, предотвратить хищения. Как в стенку лбом... Эх! Опять завожусь, – сам себя оборвал Леван. – А опиум из мака. Мак везут из Средней Азии, Закавказья, с Кавказа, из Ставрополя, Краснодара. Сейчас навострились, подонки, даже наш подмосковный, декоративный мак в ход пускать. Еще... Морфий вообще-то можно из опиума гнать, но для домашних условий процесс изготовления сложноват, а отсюда цена – 250-300 рублей за грамм. Среди этой шушеры не всякий может себе позволить...
Если верить Макульскому, убитая – могла. Северин уже ждал меня за своим столом. Скучное выражение его лица говорило, что он тоже не добился особых результатов. Так и оказалось: ни Алик-Лошадь, ни Сережа-Джим, ни тем более совсем уж расплывчатый Николай Иванович по картотекам УБХСС не проходили.
– В общем-то немудрено, – вздохнул Стас. – Судя по блокноту, Троепольскую интересовала спекуляция в основном старыми книгами, такими, на которые и цена-то твердая не всегда есть. Тут доказывать что-нибудь – замучаешься. У ребят до этого руки пока не доходят, им бы со вновь выходящим дефицитом разобраться... Так что придется нам самим, как говорится, личным сыском...
Я извлек из кармана список книг с адресом и телефоном Анны Николаевны Горбатенькой. Северин потянулся к трубке.
– Правильно, с нее и начнем.
Звонка в привычном понимании при входе не было. В высокой прохладной полутьме лестничной площадки громадного, так называемого сталинского, дома мы отыскали нужную дверь – массивную, резного дерева. В поисках кнопки Северин зажег спичку, в ее свете тускловато блеснула тяжелая бронзовая ручка, потом витиевато гравированная табличка: “Профессор Адриан Серафимович Горбатенький”. Под табличкой на двери имелось нечто вроде бронзового козырька, из-под которого выступала бронзовая же рукоятка с деревянным полированным шариком на конце. Я вдруг понял, что так, наверное, и выглядели звонки лет сто тому назад.
– Дерни за веревочку, дверь откроется, – почему-то вполголоса проговорил Северин. Я потянул шарик вниз.
Эффект был для меня таким же неожиданным, как и сама конструкция. Сначала за дверью тяжело бухнуло, словно молотком, потом что-то затрещало, и вдруг будто посыпались откуда-то в медный таз звонкие шарики. Шарики ударялись о дно, выскакивали и прыгали дальше по длинному коридору, заливаясь смехом, радуясь, что их выпустили на волю, разбегаясь по комнатам в поисках хозяев. И, едва затих последний, щелкнул замок, дверь медленно поползла на нас. Прихожая оказалась ярко освещена. На пороге стояла маленькая, худая как подросток, очень старая женщина с редкими, не очень опрятными, совершенно белыми волосами, с мешковатым, нездорового оттенка лицом и смотрела на нас бесцветными, широко открытыми, абсолютно ничего не выражающими глазами.
У меня сжалось сердце. Вот как выглядит одинокая старость. Она, наверное, одного возраста со своим звонком. Как несправедливо устроена жизнь: старые вещи растут в цене, а люди... Я подумал почему-то, что, наверное, Ольга Троепольская тоже ощущала эту несправедливость, и вдруг впервые представил ее себе не просто как потерпевшую, объект наших профессиональных поисков, а как живого человека. И этот человек мне понравился.
– Это вы из милиции? – спросила Анна Николаевна. Голос у нее был тонкий, скрипучий. – Проходите.
Она зашаркала по коридору, почти не отрывая от пола стоптанных тапок без задника. Несмотря на жару, на ней был грязноватый байковый халат, подвязанный на поясе серым оренбургским платком. Из-под халата виднелись тонкие ноги в шерстяных, облысевших на пятках чулках.
– Совсем антикварная старушка, – пробормотал еле слышно Северин, но я не услышал в его тоне обычных ернических ноток.
В конце коридора она свернула налево, и мы вслед за ней оказались в просторной комнате, где, кроме огромного письменного стола, крытого зеленым сукном (и оттого больше смахивающего на рабочее место бильярдиста, чем ученого), чернокожего дивана с надменной прямой спиной и такого же кресла, все остальное пространство стен было отдано книгам. Я отметил, что даже при такой скупости интерьерного ассортимента запустение сумело наложить на окружающее вполне отчетливую печать. Книги стояли на полках неровно, неаккуратно, иные вверх ногами, другие и вовсе лежали кривыми стопками, кое-где даже не корешками, а торцами наружу. Местами в их рядах зияли внушительные дыры. И поверх всего стелился толстый ковер пыли. Надо полагать, это и был когда-то кабинет профессора Горбатенького.
– Садитесь, – проскрипела хозяйка и сама, подпахнув халат, присела на край кресла. – На диван садитесь, только пыль стряхните. Это от книг пыль, благородная, – она раздумчиво пожевала тонкими бескровными губами и сообщила: – Раньше-то Глафира каждый день сметала ее, Арюша очень следил за этим. Теперь не то. Померла Глафира, скоро три года, как померла. Всех я, дура старая, пережила. А зачем? Ну ничего, скоро книги продам, и пыли не будет. Ничего не будет. Вы сели там, я не вижу? – вдруг забеспокоилась она.
– Сели, Анна Николаевна, сели, – отозвался Северин, направляясь к дивану.
– Тогда говорите, зачем пожаловали.
– Благодаря Ольге Васильевне Троепольской нам стало известно... – начал Стас, и я высоко оценил это дипломатическое начало, – что вас обворовывают какие-то молодые проходимцы, – тут он замолчал выжидательно.
Но старушка молчала.
– Это так, Анна Николаевна? – переспросил Стас, но, снова не дождавшись ответа, почти крикнул: – Вы меня слышите?
– Слышу, слышу, – недовольно ответила хозяйка. – Я слепая, а не глухая. Ну, Ольга! Хорошая ты, но с перехлестом! Надо же, милицию вызвала!
– Так это правда?
Анна Николаевна снова пожевала губами.
– Откуда мне знать? Ольга говорит: воруют они, а у Альберта спросила я, так он такую сцену закатил, книги оставил, убежал, кричал, что не придет никогда больше после такого оскорбления...
– Пришел? – невинно спросил Северин. – Позвонил... Я, говорит, знаю, что вы без меня пропадете. А тут Ольга как раз у меня случилась, схватила трубку и говорит: приходи, говорит, но только при мне. Но недолго, говорит, ходить тебе осталось. Это она на то, значит, намекала, что я книги-то в музей собралась продавать.
– Давно все это было, Анна Николаевна? – спросил я. Она повернула в мою сторону лицо с невидящими глазами.
– Да разве я помню? Моя жизнь какая? День да ночь – сутки прочь. Ах! – вдруг оживилась она. – Это в тот день было, когда она этого товарища приводила, из музея.
– А больше с тех пор этот Альберт вам не звонил?
– Не помню, – подумав, ответила старушка. И добавила без особого сожаления: – Всего не упомнишь...
Северин, видимо, решил, что настало время задавать главные вопросы, ради которых мы пришли:
– Анна Николаевна, вы нам телефончик Альберта не дадите? И второго... Как его зовут?
– Сергеем. А вот телефончиков у меня нет, они мне сами звонят, зачем мне их телефончики?
– Ну, хорошо, – настойчиво гнул свое Северин, – а как они первый раз к вам попали?
– Бог их знает, – устало и равнодушно ответила хозяйка. Ей, похоже, наскучили эти глупые вопросы. – Позвонили, сказали, что насчет книг.
– Но они представились? Сказали, от кого?
– Может, и сказали. Да я запамятовала. Давно это было. Я увидел, что мой друг теряет уже понемногу терпение, и решил временно переменить тему:
– А Ольга как к вам попала?
Перемена, видимо, оказалась удачной, потому что Анна Николаевна впервые за время нашей беседы вдруг заулыбалась.
– Ох, эта Ольга!.. Шальная девчонка! Говорит, услышала их разговор, Алика и Сережи, в магазине услышала. А потом за ними пошла. Нат Пинкертон! Ну надо же! – И сейчас еще, как последней новости, радостно удивлялась хозяйка этому засевшему в памяти воспоминанию. – Прямо в дверь позвонила – здрасте, я ваша тетя! Я, говорит, в газете работаю. Все мне тут прибрала, обед приготовила. А про них все расспрашивала тогда, какую книгу да почем я им продала. Нет, вы только подумайте!..
– А в каком магазине? – спросил Северин. Теперь старуха на звук голоса удивленно повернулась к нему.
– Как в каком? В книжном магазине. Не в рыбном же! – Она снова беззубо заулыбалась собственной шутке.
– Это я понимаю, что в книжном, – бодро, стараясь попасть ей в тон, сказал Стас. – Мне чего интересно? В каком именно?
– А уж это я не знаю, – почему-то обидевшись, ответила хозяйка и подала Северину совет: – Да вы у Ольги спросите! Она скажет.
И тут мне в голову пришла интересная мысль. Я спросил:
– А вы сами, Анна Николаевна, куда носили книги?
– Да тут, рядом, – ответила она. – Из подъезда выйдете и направо. Можно пешочком, можно на троллейбусе одну остановку. На той стороне улицы, вы его сразу увидите. Туда и Адриан Серафимович ходил лет тридцать, покупал, а я уж потом ходила, покуда не ослепла, продавала...
Через четверть часа, поняв, что больше мы от нее ничего не добьемся, мы распрощались с Анной Николаевной, дав ей напоследок твердое обещание в ближайшие дни обязательно прислать к ней Ольгу, которая куда-то пропала, совсем не звонит. Потом мы вышли на улицу, сели в машину, проехали два квартала, развернулись, и Стас притормозил прямо перед большой, полной книг, витриной, над которой из неоновых трубок складывалась надпись: “БУКИНИСТ”. Я достал блокнот и сверился с записями. Это был тот самый магазин, где трудилась товароведом Нина Ефимовна Лангуева.




