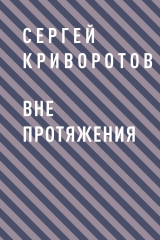
Текст книги "Вне протяжения"
Автор книги: Сергей Криворотов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Стас всё больше увлекался новой знакомой, ни с кем прежде он не чувствовал себя так беззаботно и расковано. Даже с Катей, единственной, кого никак не мог забыть со студенчества, ему постоянно приходилось как бы подтягиваться на умственном турнике до её уровня. А при Светлане он мог подурачиться и прикинуться кем-то совершенно на него не похожим, иногда и вовсе напиться с друзьями или коллегами перед встречей с ней. Разумеется, это нисколько его не красило в её глазах. Но она принимала его любым, делая вид, что ей нет дела до его мужских заскоков, не выказывая ни обид, ни претензий. В следующий раз он уже сам не позволял себе таких переборов, не желая испытывать пределы её терпения, и чувствуя некоторую долю вины за прошлые выходки.
Ещё никогда ему не дышалось так легко полной грудью, как в эту весну, и не жилось настолько насыщенной жизнью, открывавшейся теперь множеством сокровенных смыслов. Зимнее намерение уехать в холодные моря, чтобы болтаться по бесконечным волнам в замкнутой тесной каютке, представлялось уже совершенно абсурдным. Никакие приличные заработки не могли заменить общения с девушкой, наполнившей цветом и объёмом плоское чёрно-белое существование до неё. Как там пели битлы? – Ага, «Любовь купить нельзя!»
«Хлопало крыльями чёрное племя ворон»2
Вороны мерзко орали в сплетениях голых ветвей больничного парка, занятые бесконечными внутренними разборками. Их жидкие снаряды шлёпались на асфальтную полосу спереди и позади Стаса. «Попадёт – к прибыли» – сомнительная народная примета нисколько не успокаивала, да и удастся ли потом отчистить куртку от едкой пакости? При виде столь многочисленного сборища гадящих пернатых даже известный анекдот про Максима Горького с приписываемой ему утешительной фразой «Хорошо, что коровы не летают!» казался уже полностью лишённым смысла. Невольно попавшему сюда хотелось лишь поскорее проскочить опасную зону бомбардировки.
Как-то мальчишкой однажды морозным зимним вечером он оказался свидетелем войны с вороньём. Прямо под плотно облепленные птицами деревья въехал бортовой грузовик. Яркий луч ударил вверх из прожектора в кузове, разом высветил множество чёрных комков, застывших в безлиственных вершинах тополей парка. Загремели прицельные выстрелы, сбитые тушки одна за другой камнепадом посыпались вниз. Ослеплённые жертвы даже не пытались взлететь, а выстрелы раскатисто грохотали снова и снова…
Позднее он слышал, будто ворон успешно пытались разгонять воспроизведением записей их собственных криков тревоги и более пронзительных ястребиных – издаваемых самыми грозными врагами чёрного племени. Только всё это со временем заглохло, похоже, посчитали затратным при отсутствии скорых результатов, а возможно, испытывались какие-то новые методы отпугивания, тоже не принёсшие пока видимого успеха. Снова и снова вороны повсюду торжествовали свою победу нескончаемым ором над головами случайных прохожих.
Хмурое утреннее небо не сулило особых радостей, но дежурство сдано, обошлось без «трупаков», впереди ждал полностью свободный день, что само по себе неплохо… Стас едва не засвистел вслух рэгейчик «Дорога к морю» Юрия Антонова и самой популярной московской группы середины прошлого десятилетия «Аракс». Группу уже несколько лет, как разогнали указом министерства культуры, но слова песни очень даже помнились:
Мне, оставив осень, ты улетела в лето.
От чего внезапно мир изменился мой.
Без тебя мне трудно, грустно и безлюдно,
Я сажусь в машину, еду к морю за тобой.3
Только свистеть так и не стал, вспомнив ещё одно не раз слышанное суеверие – посвистишь, денег точно не будет! Поговаривали, будто смотрящие за нашей культурой относили ритм рэгги к ритуальной музыке растаманов-наркоманов и последователей религии вуду, вводящей слушателей в транс и потому гораздо более вредной, чем все битлы и роллинги вместе взятые. Потому особенно долго и упорно старались ограждать советскую молодёжь от этой тлетворной западной напасти.
Уже ближе к воротам на фоне белёной стенки высокого штакетника контрастно выделилось кожаное пальто, чёрная широкополая шляпа поверх светлых волос, фирменные сапожки на высоком каблуке. Вспомнилось: её зовут Инна, Инна Владимировна, Веткин заторопился навстречу узнаваемому женскому силуэту. Сегодня у него наконец-то имелись ободряющие известия для жены проблемного пациента, и потому он не ощущал прежнего чувства вины перед нею.
– Здравствуйте, Инна Владимировна.
– Здравствуйте, доктор. Что-нибудь новое есть? Плохи наши дела, да? – она остановилась, настойчиво и тревожно заглядывая в глаза.
– Да нет, совсем напротив, дело сдвинулось к лучшему, знаете ли… Я звонил вам, но телефон не отвечал. Возможно, уже сегодня Бориса решат переводить в регенерационный Центр. Теперь транспортировка почти безопасна…
– Почти? То есть, какая-то угроза всё-таки имеется?
– Ну, это просто так говорят. Конечно, и сейчас вероятность небольшого риска остаётся, но гораздо меньшая, чем раньше.
– Меня так и не пропустят к нему?
– Нет, пока нельзя. Поймите, вы ничем не сможете помочь…
– А почему, в таком случае, его не оставят пока у вас?
Они медленно вышли из ворот под нескончаемое карканье воронья, заходящегося в непонятной беспричинной злобе. Теперь, когда птичий гам остался позади, как и ночное дежурство, Стас поймал себя на том, что испытывает необъяснимое облегчение.
– У нас всего лишь обычное реанимационное отделение, увы… А там для таких пациентов имеется специальный регенерационный блок, даже собственная барокамера для оксигенации. Возможности нашей клиники полностью использованы, теперь требуется специальное лечение и наблюдение, для которых у нас нет опыта, да и штаты на то не рассчитаны. В Центре же к услугам вашего мужа будет лечение электромагнитными полями, специальный массаж, иглоукалывание и всё такое прочее…
– Странно, ведь в самом тяжёлом периоде ваши условия для него вполне подходили…
– Да, но теперь подключатся психологи, разные методисты по реабилитации, необходимая аппаратура пока только там имеется. Клетки мозга понемногу восстанавливаются, но это, извините за шаблон, чистый лист бумаги, который надо заполнить, понимаете? Его ещё предстоит сделать личностью.
– Почему же меня не пускают к нему? Разве, хотя бы юридически, я не имею такого права? Я хочу взять отпуск, дежурить около него. По-моему, внимание, участие сейчас нужнее всего, правда? Может быть, память вернётся к нему, а? Как вы думаете? А то в этом чистом листе бумаги, как вы сказали, может не оказаться места для меня, да? Может такое случиться? Как вы думаете?
– Наверное, вам разрешат посещения в регенерационном Центре, – неуверенно предположил Стас. Ничегошеньки она ещё не поняла, даже того, что теперь лично от него дальнейшее совершенно не зависит. Сколько можно ей втолковывать? Да и не его теперь это обязанность… – Вообще-то я точно не знаю их порядков. Поговорите с самим профессором Павловским, он и дальше будет курировать вашего мужа, методика лечения и реабилитации его собственная, уникальная. Он сам её разработал. Пока предсказывать вам что-то на будущее никто не возьмётся, всё равно, как на кофейной гуще гадать… Давайте, будем оптимистами, теперь для этого больше оснований.
– Что ж, спасибо, доктор, за доброе слово, и вообще за всё, я ваша должница, – она протянула узкую ладонь в лайковой перчатке, и Станислав, ничего больше не говоря, осторожно пожал её пальцы сквозь гладкую тонкую кожу.
Он смотрел, как красиво она идёт к подземному переходу, стройная и одинокая, как подхваченная потоком входящих исчезает в распахнутых стеклянных дверях. Его внезапно переполнило чувство избавления от давившей все эти дни ноши. Сознание неплохо проделанной работы и собственной правоты даже слегка удивило: ведь в данном случае больной лишился коры мозга. Несмотря на не вполне удачную реанимацию, он сделал всё возможное, чтобы пациент остался жив, но теперь дальнейшее не в его руках.
Стас зябко поднял воротник плаща «на рыбьем меху» и, придерживая дипломат, побежал за подходившим к остановке жёлтым венгерским «Икарусом», блестящим стёклами салона сдвоенным автобусом с чёрной перемычкой гофры посередине.
Всё вокруг представлялось огромным и непостижимым, к тому же отодвинутым на неодолимое расстояние. Поначалу картина складывалась из размытых световых пятен, неподвижных и движущихся, постепенно приобретавших незнакомые контуры, ещё более непонятные своим предназначением и потому пугающие. От этой новизны веяло тревогой и беспокойством. Виденное воспринималось как бы в ином измерении, совершенно чуждым и неприемлемым для его заново формирующегося разума.
Хотя открываемый мир, требовал тщательного знакомства с собой, гораздо важнее и ближе представлялись собственные ощущения и физиологические нужды. Мысли ещё не рождались, звуки произносимых кем-то слов доходили до слуха, лишёнными всякого смысла. Белые простыни приятно холодили тело, прикосновения чужих рук настораживали, порождали целый спектр чувств от опаски до успокоения, а резкая боль от уколов неизменно вызывала бурный протест.
Он издавал отрывистые возгласы, не отягощённый мыслью взгляд скользил по деталям обстановки. Время ещё не существовало для него, хотя проходящие дни необратимо складывались для других в недели.
Но постепенно в глазах появлялась тень осмысленности, изнутри нарастало желание двигаться, постигать окружающее, пробовать на вкус, на ощупь. Оно становилось самым главным, настойчиво подчиняло себе. Слух учился различать самые тихие посторонние звуки, цвета вокруг воспринимались всё насыщеннее и пестрее, запахи набирали терпкость, становились тоньше и резче. Фрагменты обстановки утрачивали начальную размытость, приобретали чёткость форм, отливались в лица, предметы, лучи солнца, проникавшие снаружи через окно. Всё вокруг оказывалось всё более разнообразным и сложным.
Особенно часто перед ним возникало лицо светловолосой женщины с внимательными печальными глазами, следившими за ним, когда он засыпал и когда просыпался, потому он научился выделять её первой. Она часами находилось подле, а мягкие, легко узнаваемые руки давали пищу и питьё, приятными касаниями обтирали лицо и тело. Он начал узнавать других, замечать в устремлённых на него глазах сосредоточенность или ожидание. Запах дезрастворов и шорох накрахмаленных халатов, холодок сменяемых простыней – ничто теперь не миновало его заострённого внимания.
Постепенно что-то набирало в нём силу, требуя выхода. Он пытался произнести нечто, складывая и растягивая губы, рождая пока невразумительное бормотание, пугавшие самого странные горловые звуки. Это выглядело пародией на человеческую речь, подражанием ей безнадёжно отставшего в развитии великовозрастного дитяти, смахивало на бестолковый лепет идиота. Впрочем, время для окончательных выводов ещё не подошло.
И всё же, мало-помалу глаза утрачивали прежнюю прозрачную пустоту, наполняясь неведомым содержанием, зрачки начинали блуждать по внешнему миру не бесцельно, а точно нацеленными сканерами, безошибочно находящими искомое. Он уже чутко реагировал на новые звуки, мгновенно и безошибочно определял их источник. Над изголовьем подолгу лилась приглушённая расслабляющая музыка, невидимые тихие голоса настойчиво повторяли сочетания звуков, не превратившихся пока для него в слова, в то важное, что отличало разумного человека от животного.
Сегодня Инне Владимировне удалось пораньше уйти с работы, в пединституте начались долгожданные каникулы после напряжённой зимней сессии. На кафедре все давно знали о проблемах молодой сослуживицы и с пониманием относились к её частым отлучкам, объяснимым дежурствами у постели больного мужа. За последние месяцы ректорат уже дважды предоставлял ей по этой причине отпуск без содержания. Только никто вокруг даже не догадывался, насколько её измотала безысходность сложившегося положения.
Привычно предъявив пропуск, Инна облачилась в белый халат, принесённую вторую обувь и прошла в знакомую палату. Больной, как повелось с некоторых пор, отметил её появление радостным маразматическим мычанием.
«Господи! Ну, сколько же это может длиться ещё?! Даже есть самостоятельно никак не научится! Неужели, он останется таким навсегда?» – с отчаянием думала она снова, пока кормила с ложки. Инна с болью всматривалась в лицо недавно самого близкого ей человека, пытаясь убедить себя, что чувствует к нему то же самое, что и до болезни. Она каждый раз сомневалась, он ли перед ней или не он? Даже цвет глаз несколько изменился, прежняя синева размылась, поблекла, но сегодня показалось, взгляд впервые приобрёл осмысленность, отсутствовавшую после реанимации. Встрепенулась надежда, может, эта уцелевшая оболочка наконец-то наполнится прежним содержанием?!
Внезапно, повинуясь безотчётному порыву, Инна нагнулась к самому уху бывшего прежде её мужем. Горячо и торопливо зашептала, оглядываясь на дверь, боясь, что вот-вот зайдёт медсестра и не даст высказать самое главное:
– Ну-ка, смотри, смотри на меня! Ну, Боречка, разве, не узнаёшь? Это же я, я! Твоя Инка! Неужели, ты меня совсем не помнишь? Забыл, как любил меня? Как мы были вместе? Ну, узнаёшь? Смотри же, смотри на меня!..
Больной перестал жевать печенье, которое извлёк из впервые самостоятельно надорванной пачки, и с подозрением уставился голубыми глазами в лицо говорившей, будто опасался, что она может забрать назад гостинец и лишить только что открытого им удовольствия.
– Боренька, миленький, я же вижу, ты должен, должен узнать, ну, вспомни! Вспомни же, чёрт тебя подери! Всё будет хорошо, как… раньше… Ну, ты узнал меня? А? Ну, скажи, кто я? Скажи, родненький, вспомни, ну же! Давай!
Больной беспокойно откинулся на подушку и, отчаянно гримасничая, попытался сложить губы, тонкие крылья носа задвигались, глаза выкатились из орбит, наконец, ему удалось родить натужные звуки:
– Ммм-ма, мм-ма-мм…
Внезапно радостно расплывшись в бездумной улыбке, старательно собрал только что полученное в целое и ясно выдал:
– Мама! Ма! Ма! Мама! – и тут же загукал низким голосом, забулькал, пуская пузыри изо рта, отплёвываясь во все стороны крошками непрожёванного печенья.
Это выглядело противоестественно, отвратительно до жути. Казалось, взрослый мужчина хитро и нарочито назло ей с понятной лишь ему тайной целью изображает из себя полного идиота. Инне Владимировне почудилось на миг, будто муж сознательно глумится над нею, хотя она отлично понимала, что такого просто не может быть. Женщина резко отшатнулась, словно получила пощёчину. Лицо исказилось болью, и еле удерживая подступавшие слова не характерного для неё мата, выплеснула скороговоркой злым плачущим голосом, ни к кому конкретно уже не обращаясь:
– Господи! Что же… что они с тобой сделали?.. Издевательство какое-то! Уму непостижимо! Ну, что это? За что такая мука?.. Как вынести?! Я больше не могу так, не могу…
Инна Владимировна сорвалась на плач, закрыла лицо ладонями и выбежала в коридор. Обитатель палаты, приподнявшись на локте, возбуждённо корчил плаксивые гримасы и тянул вслед за ней исхудавшие незагорелые руки.
Через пятнадцать минут, приведя себя в порядок в служебном туалете, Инна Владимировна говорила уже ровным злым голосом в трубку телефона-автомата:
– Алло! Дядя Миша? Пожалуйста, приезжай за мной в больницу, если можешь… Да, очень… Ты знаешь куда, в центр Павловского… Мне нужно срочно с тобой посоветоваться… Нет, только не по телефону. Очень важно. Да, прямо сейчас. Хорошо, я буду ждать у входа.
Семья
О своём отце Станислав почти ничего не знал. Сохранилось несколько любительских чёрно-белых снимков на плотной пожелтелой бумаге, родители среди большой компании за столом с хрустальными бокалами, напитками в графинах среди тарелок с закусками. Да две-три студийные фотографии на картоне – мать и отец вдвоём в нарядной одежде прежних лет со строгими торжественными лицами. Других свидетельств его существования, кроме старых вещей в шкафу, не осталось. Сам он папы не помнил, всё известное о нём получил только со слов матери и нескольких далеко не лестных отзывов её ленинградской сестры.
Такое представлялось ему несправедливым. В официальном браке родители не состояли, хотя сыну досталась отцовская фамилия. Маленькому Стасику не исполнилось и года, когда его предок, имевший звучную профессию инженера по диагностике турбин, подался в Сибирь, в Братск на развернувшуюся стройку огромной ГЭС. Вскоре обзавёлся там новой семьёй, продолжал ещё несколько лет присылать матери какие-то копеечные суммы, сущие крохи, а потом вовсе прекратил. Мать Стаса на алименты не подавала, так и растила сына одна на свою сравнительно приличную зарплату. А когда решилась на запрос, то узнала, что её незарегистрированный муж с год, как скончался от инфаркта миокарда.
Много лет она верой и правдой прослужила в кремлёвской охране, благодаря чему с рождением ребёнка мужского пола ей предоставили двухкомнатную квартиру на Татарской улице неподалёку от Павелецкого вокзала. С мужчинами, с которыми встречалась после исчезновения отца Станислава, совместная жизнь не задалась. Возможно, и маленький Стасик тому препятствовал, неосознанно выступая против возможности появления в доме отчима. Впрочем, если бы она того сильно захотела, вряд ли его мнение оказалось решающим.
Один раз до школы и когда он учился уже во втором классе, мать летала с ним в отпуск на Чёрное море в Сочи, в Минеральные воды, показала Кисловодск, Лермонтовские места Пятигорска с горой Машук. Наибольшее впечатление на мальчика произвели, якобы настоящие дуэльные, те самые длинноствольные с инкрустациями пистолеты в бедном местном музее. На рейсовом автобусе добрались до высокогорного озера, где успели пообедать под полосатым тентом открытого кафе с видом на раскрытую перед ними природную чашу воды.
В считанные минуты голубая гладь зеркала покрылась рябью от внезапного ветра, в миг сорвавшего парусиновый навес, и почернела отражением пригнанных им свинцовых грозовых туч. Тут же их настиг и до нитки промочил обрушенный сверху, по-южному бешеный ливень. Его сплошная стена низвергла с гор грязевые потоки ледяного селя вперемешку с камнями, которые им пришлось преодолевать, где по колено, а где даже по пояс. К счастью, тогда обошлось без вреда для здоровья, если не считать синяков на ногах. Кроме этого, Стас мало что запомнил из тех путешествий, хотя, благодаря им, его представления о мире значительно пополнились.
Потом они ездили несколько раз в Ленинград к маминой родной сестре тёте Ане, на девять лет её старше, бывшей замужем за офицером армии, недавно уволенным в запас. Вместе с родителями в тесной квартирке на северной окраине Васильевского острова, неподалёку от Смоленского кладбища проживали взрослые дети, двоюродные брат и сестра Стаса. Впрочем, они с мамой там только ночевали, ежедневно рано исчезая с утра, и возвращаясь обычно поздним вечером.
Чуть дальше по берегу Финского залива тянулась бесконечная многоэтажная застройка «морского фасада Ленинграда». Добраться туда в летнюю жару позагорать и поплавать не занимало много времени. До места жительства родни от станции метро «Василеостровская» часто ходили автобусы, но раз-другой, когда спешить никуда не требовалось, они махнули ради интереса напрямик пешком.
Их путь пересекал старейшее кладбище северной столицы, которое вело историю с 18 века и представляло собой как бы ещё один музей под открытым небом. Правда, теперь оно имело вид довольно запущенный и одичалый. Поговаривали, будто православная часть его началась с погребения целой артели первых строителей Петербурга, не вынесших климата и тяжёлых нечеловеческих условий. Были они, якобы, все родом со Смоленщины, что и дало название полю захоронения на берегу протекавшей рядом Чёрной речки. Известная, как место трагической дуэли Пушкина с Дантесом, речка отделяла от острова Декабристов с лютеранскими и армянскими захоронениями. Замшелые плиты надгробий, давно забытые неухоженные могилы немецких поселенцев придавали впечатляющий колорит старины здешним тенистым уголкам упокоения. Но и на левобережной православной части кладбища хватало заброшенных и поросших густой травой под вековыми деревьями участков с разрушающимися памятниками.
Перед самым поступлением Стаса в мединститут мать внезапно заболела. Несмотря на ежегодные обязательные по должности профилактические медосмотры, начало болезни прозевали. Может, сказался вовсе не старый ещё возраст, подумаешь, только разменяла пятый десяток! Сама она не привыкла прислушиваться к собственным болячкам, а надо было бы давно это сделать. Зато неизменно повторяла очень нравившуюся ей фразу: «Если тебе за сорок, и ничего не болит, значит, ты уже умерла!»
Поглощённая бесконечными служебными делами и подготовкой Стасика к институту, она не придала поначалу значения появившемуся недомоганию. Сама настояла на занятиях с репетиторами по трём основным предметам. Переживала за единственного сыночка, не хотела отпускать в армию и остаться одной в двух комнатах, что стало бы неизбежно, провали он вступительные экзамены. Неизвестно, где появился первичный очаг, но когда ей стало невмоготу от нараставшего похудания и слабости настолько, что пришлось обратиться к врачу, при обследовании сразу нашлись метастазы в лёгких. Положенное по месту службы медицинское обслуживание давало возможность самого передового лечения, но в её конкретном случае хирургически излечить болезнь уже не представлялось возможным. Химиотерапия, сеансы облучения могли только отодвинуть неизбежный исход, поддержать организм, одновременно с опухолью уничтожая и здоровые клетки.
Как объяснили Стасу лечащие врачи с учётом его твёрдого стремления попасть в медицину, рассчитывать на выздоровление не приходилось. В отличие от стариков у юных и сравнительно молодых пациентов онкологические заболевания протекают гораздо злокачественнее, то есть острее, быстрее и с большим поражением метастазами других органов. Потому и последний обязательный профилактический осмотр с флюорографией почти год назад ничего не выявил. Так что зависимость сроков жизни от возраста пациента в таких неоперабельных случаях всегда оказывалась обратной. Оставалось только надеяться на отсрочку с помощью массивной комбинированной терапии.
Несмотря на резкое ухудшение самочувствия, перед тем, как лечь в стационар, она использовала все имевшиеся связи, чтобы подстраховать сына при поступлении. Хотя он и достаточно подготовился, но всякое могло случиться.
Когда он первым делом приехал к ней в больницу сообщить радостную весть о приёме в мединститут, она дала волю слезам, пояснив, что сейчас для неё весть о зачислении Стасика – самое лучшее лекарство.
Начатые лучевая и химиотерапия с первого раза неожиданно дали неплохие результаты. А повторные курсы позволили ей пожить ещё почти пять лет. Несмотря на выпадение волос, стойкую потерю аппетита, помесячное нарастание болей и слабости с приближением конца, она никогда не сдавалась. Без поблажек на самочувствие заставляла себя больше двигаться, насколько позволяло состояние, всячески избегала долго находиться в постели. Она давно не работала, каждый месяц почтальонша приносила на дом положенное пособие по оформленной группе инвалидности, но денег теперь ни на что не хватало.
Хотя Стас получал стипендию с первого семестра, ему пришлось искать подработки, пока не удалось устроиться постоянным сторожем во вневедомственную охрану, опять же пригодились знакомства матери. Приходилось дежурить по ночам, когда сутки через трое, когда через двое. С таким подспорьем, по крайней мере, можно было обеспечить нужное питание для больной. Хотя она, как и любой гражданин страны, имела право на бесплатную медицинскую помощь, даже её долгая служба в престижном месте не избавляла от выражений благодарности лечащим врачам, как и необходимости покупки за свой счёт некоторых дорогих недоступных обычным путём лекарств. Стас неплохо с этим справлялся, увы, предотвратить неизбежное он бы не смог, даже имея гораздо большие деньги.
Всё же, иногда ему приходилось относить сохранившиеся от отца вещи в комиссионки, а подписные издания, которые мать приобрела по льготам, положенным их ведомству, в букинистические магазины. Разумеется, такое не могло служить постоянным и сколько-нибудь существенным источником дохода.
Мать умерла незадолго до зимней сессии пятого курса, когда Веткин дежурил на объекте. Хорошо ещё при ней находилась родная сестра, вызванная Стасом из Ленинграда за два месяца до кончины.
Мамина болезнь, которую выявили слишком поздно, преждевременная смерть с предшествующими страданиями, в том числе и от побочных действий терапии, проходили на его глазах. Уровня медицины доставало лишь на то, чтобы на время снимать нараставшие в последние месяцы боли. Всё это лишь укрепило Веткина в выборе профессии, как бы ему хотелось добиться, чтобы такие случаи не повторялись с другими! Но, что он мог? Несмотря на достижения в диагностике ранних форм рака, онкология его самого абсолютно не привлекала. Несомненно, загрязнение среды отходами производств и жизнедеятельности будет накапливаться, а с ним неизбежен и рост онкозаболеваний. Более интересной и перспективной Стасу виделась реаниматология. Там почти каждый день вытаскивают пациентов с того света – конкретный результат тут же налицо, да и давняя увлечённость загадками живого мозга подталкивала его именно в этом направлении.
До выпускного курса Веткин продолжал подрабатывать во вневедомственной охране. Стипендии, которую выплачивали за успешную сдачу сессий, кроме одного-единственного семестра, когда пришлось писать на неё заявление, никак не могло хватать на жизнь. Давно закончились отцовские вещи, собранные матерью книги из серванта и с настенных полок отправились через букинистические отделы к новым владельцам.
Самым спокойным местом за пять лет дежурств в охране, оказалась жилая новостройка неподалёку от центра. Пока два-три месяца продолжался «нулевой цикл» с забиванием свай и заливкой бетонного фундамента, сторож Веткин спокойно спал ночами на топчане в вагончике строителей. Вечером принимал у работяг ключи, а утром сдавал их первому пришедшему. За всё время его там проверили ночью лишь один раз.
Зато с переходом строительства в следующую фазу, когда начали завозить кирпич, доски и прочие ходовые стройматериалы, лафа закончилась. Ночами по стройке начали шнырять подозрительные личности, узнать которые поближе Стасу отнюдь не хотелось. К тому же, ему и оружия никакого не полагалось. Вызвать в случае чего своего диспетчера или милицию он мог только из ближайшего телефона-автомата, до которого пришлось бы ещё добираться, да и не факт, что тот не успели поломать за день. Тем временем складируемые припасы могли основательно подчистить. Стас всерьёз опасался, что желающие поживиться государственным добром успеют вынести или вывезти заготовленное, а весь убыток потом повесят на него. Рисковать собственной жизнью и здоровьем за какие-то доски с кирпичами он не собирался, хотя это выглядело вовсе не по-комсомольски.
По счастью всё обошлось благополучно, а вскоре его перекинули на закрытые объекты. Все последующие годы он охранял разные конструкторские бюро, клубы, небольшие магазины и кафешки. Когда приходила зимняя непогода, отапливаемое помещение с телевизором и туалетом оказывалось очень кстати. Крепкие двери с надёжно запираемыми замками, телефон под рукой, а иногда и сигнализация придавали вневедомственному сторожу спокойствия и уверенности. Единственно, в любое время могла нагрянуть внезапная проверка, но такая напасть случалась крайне редко. И как не без основания подозревал Стас, контролёры охотились исключительно на нетрезвых сотрудников, чтобы поскорее от таких избавиться, причём, вовсе не случайно, а по чьей-либо точной наводке. Его это никак не касалось, он приносил с собой учебники и конспекты, радуясь возможности погрызть гранит науки в комфорте и тепле.
Только на шестом курсе он сменил работу сообразно будущей профессии – устроился медбратом в реанимационном отделении с доплатой ночных и коэффициентом за вредность. Помог ведущий у них цикл заведующий кафедрой анестезиологии и реанимации. Ему приглянулся вдумчивый старательный студент, и когда он узнал, что тот недавно потерял мать и теперь вынужден подрабатывать ночным сторожем, посодействовал оформиться без проволочек к себе в стационар на фельдшерскую должность. Данная им потом трудовая характеристика очень пригодилась при распределении. Так Стас попал на своё теперешнее место, правда, уже в совершенно другой больнице. Именно к этому авторитету, имевшему с полсотни научных публикаций и даже пару монографий, Веткин едва не обратился позже, когда набрал материал по десяткам опросов переживших клиническую смерть.
За время болезни мама настояла продать всё накопленное золото – два кольца, серёжки, цепочку и тонкий браслетик. Последнее украшение – массивное обручальное кольцо, которое так ни разу и не поносила на законных основаниях, незадолго до смерти подарила сестре, приехавшей поухаживать за ней. Тётя Аня сама предложила помощь, как только узнала от Стаса про состояние матери, почти уже не встававшей с постели, о его намерении нанять кого-то со стороны, чтобы избежать академического отпуска в институте почти за полтора года до диплома. Совсем другое дело, когда рядом не пришлая сиделка, а близкий человек, тем более, женщина, родная сестра. Да и на оплату посторонних у Веткина не нашлось бы лишних средств.
К счастью, хотя вряд ли такое слово выглядело уместно в их случае, они обошлись без привлечения чужих. Станислав испытывал за то признательность к ленинградской тётке, с которой отношения никогда не становились настолько тёплыми, как полагалось бы по родству. Он не переставал ломать над тем голову, поскольку не чувствовал никакой своей вины, но, несмотря ни на что, тётя Аня оставалась для него самым близким человеком после матери.
И когда мамы не стало, понятия не имел, чем бы отблагодарить ленинградскую родственницу за оказанную ею поддержку. Разумеется, он воспринимал её участие, как должное. Какая ещё корысть или счёты могли быть между родными сёстрами, да ещё с приближением смерти одной из них? Каждая имела собственную крышу над головой, взрослых детей, определённых в жизни, никто из которых ни в чём особо не нуждался. Переезд в Ленинград вслед за мужем задолго до рождения Стасика представлялся собственным выбором старшей из сестёр.
От предложенных вещей покойной тётка с гордостью отказалась, как и от некоторой суммы, оставшейся после похорон.








