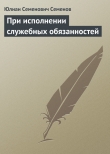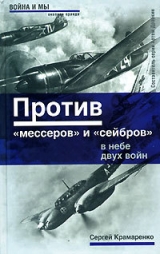
Текст книги "Против «мессеров» и «сейбров»"
Автор книги: Сергей Крамаренко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В боях на Курской дуге
Летом 1943 года я прибыл в 19-й Краснознаменный истребительный авиационный полк на станцию Сейма под г. Горьким. Зимой 1942—1943 года этот полк защищал Сталинград и Воронеж, был обескровлен и теперь был выведен в тыл для пополнения. Здесь полк получил от главнокомандующего ВВС главного маршала авиации Александра Александровича Новикова приказ о переформировании в специальный полк «охотников».
Из всех частей в 19-й иап прибывали опытные летчики, имевшие по нескольку сбитых самолетов. По замыслу маршала Новикова, в ВВС должен был быть полк «охотников». Видимо, его предполагалось создать в противовес немецким эскадрам «Удет» и «Рихтгофен», состоявшим из отборных летчиков. Появляясь обычно парами в нашем тылу, они атаковывали наши самолеты в районе аэродромов и многих сбивали. Не упускали они возможности атаковать и группы самолетов, особенно штурмовиков и бомбардировщиков.
Однажды весной 1943 года мне пришлось наблюдать подобную атаку. Тогда мы звеном из 4 самолетов сопровождали 3 бомбардировщика Пе-2. Отбомбившись по железнодорожному узлу, бомбардировщики благополучно пересекли линию фронта и были уже на полпути домой. Наша четверка шла сзади бомбардировщиков, как вдруг с правой стороны из-за облака вынырнула пара «фокке-вульфов». На большой скорости ее ведущий подошел к бомбардировщику сзади-снизу и с дистанции 100—120 метров открыл огонь. Его ведомый открыл огонь по нашему истребителю, бросившемуся отбивать атаку немца. Очередь «фокке-вульфов» была длинной, и в несколько секунд «петляков» превратился в горящий факел, из которого выпрыгивал экипаж. А атакующие «охотники» уже глубоким пикированием уходили от преследовавших их наших истребителей...
В этой атаке проявились все основные принципы действия «охотников». Обнаружив цель, они сближались с ней, маскируясь облачностью, солнцем, фоном земли. Выбрав удобный момент, «охотник» на большой скорости стремительно атаковывал цель. Ведущий при этом всегда сближался с ней на большой скорости на минимальную дистанцию, обычно давал одну очередь и уходил. Ведомый обеспечивал атаку ведущего, а при отсутствии прикрытия также участвовал в атаке (обычно по другому самолету) и затем следовал за ведущим. Для выполнения таких задач, естественно, такие летчики-«охотники» должны были иметь хорошую летную и прекрасную стрелковую подготовку.
«Свободная охота» – это наиболее сложный вид боевой деятельности, требующий умения поражать противника с первой очереди. Летчик должен обладать многими важными качествами: смелостью и отвагой, решительностью и способностью моментально оценивать обстановку и принимать правильное решение. Необходимо помнить, что «охотник» действует в основном в тылу противника, поэтому он должен хорошо знать все аэродромы противника, распорядок вылетов вражеской авиации, маршруты их полета к цели, районы сбора и расхождения. Короче говоря, «охотник» один в глубоком тылу противника, ни одна радиостанция наведения помочь ему не может, а сам он должен отвечать еще и за своего ведомого. «Свободная охота» дополняет действия основных сил воздушных армий в борьбе за господство в воздухе, которое достигается уничтожением противника в воздушных боях, обычно в прифронтовой полосе, а также ее уничтожением на аэродромах базирования. Действия «охотников» имеют целью деморализовать летный состав противника, заставить его постоянно быть в напряжении, чувствовать свою уязвимость все время полета – от взлета до посадки. Результатом является появление чувства неуверенности, подавление воли к активному сопротивлению.
Немецкие летчики первые два года войны широко применяли метод «свободной охоты» и добивались неплохих результатов. Обычно они атаковывали наши бомбардировщики или штурмовики, сбивали один или два самолета и уходили пикированием. Если же им попадались цели без прикрытия, то наши потери были значительно больше.
Ясно, что мы, прибыв в 19-й иап, никак не соответствовали званию «охотников». Право на это звание нам предстояло завоевать в тяжелых боях.
* * *
Прибыв в полк, я был определен в 1-ю эскадрилью, которой командовал капитан Корень. Командиром звена был старший лейтенант Микиренков, а моим ведущим стал лейтенант Алексей Симонов. Командиром полка временно был назначен майор Пустовойт.
В полк прибывали летчики, и, пробыв недели две на станции Сейма, полк перебазировался на аэродром Чкаловская, где и начались полеты. Получив обязательный контрольный полет, мы начали летать сначала по кругу, затем в зону – то есть выполнять полеты для отработки техники пилотирования. В это время в полк прибыл новый командир – это был подполковник Лев Львович Шестаков. В авиации я видел много прекрасных летчиков и грамотных командиров, но по-настоящему талантливых, прирожденных летчиков и командиров мне встречалось не так уж много. Лев Львович как командир был именно талантлив. Пройдя боевую школу в Испании, участвуя и побеждая в тяжелых боях под Одессой, он обобщил накопленный боевой опыт и резко изменил всю методику нашего обучения.
Нас стали учить боевому маневрированию в составе пары и звена. Отрабатывались развороты влево, вправо на 90° и разворот на 180° «все вдруг». Ранее истребители совершали разворот по ведущему, держа обычно тот же крен, что и ведущий. Основное внимание при этом уделялось сохранению боевого порядка, и из-за этого группа становилась уязвимой для внезапных атак истребителей. Новый способ боевого маневрирования был гораздо сложнее, но обеспечивал более быстрый разворот и взаимное наблюдение. При этом способе при развороте «на ведущего» его начинал ведомый. Находясь справа, он с большим креном разворачивался на 90°, затем выводил и наблюдал за выполнением разворота ведущим, после чего подстраивался к нему уже с другой стороны. Звено делало такой разворот поочередно и после разворота оказывалось в другом пеленге.
Разворот на 180° выполнялся сразу всеми самолетами. После разворота пеленг также менялся. Разворот этот был довольно сложен, и при развороте наблюдение за «хвостом» осуществлялось не полностью. Поэтому хоть такой разворот и смотрелся красиво, но в поиске он применялся редко.
В основу ведения группового воздушного боя была поставлена борьба за преимущество в высоте. Для этого группа самолетов должна была располагаться на разных высотах. Нижние группы вели бой с противником, а верхние не давали самолетам противника находиться выше наших самолетов. При удобном случае верхние эшелоны вступали в бой и внезапными ударами уничтожали или повреждали самолеты противника и часто вынуждали противника к выходу из боя.
Как ни странно, эта тактика базировалась на прежнем опыте Шестакова, когда он на более тихоходных, но зато очень маневренных истребителях И-16 сражался со скоростными немецкими истребителями Ме-109. Но наш 19-й иап формировался как полк «охотников», а для этого нужна была совсем другая тактика. Здесь нужна была не эшелонированная по высоте большая группа самолетов, а действующая в районе вражеских аэродромов пара истребителей, летящая на большой, почти максимальной скорости и маскирующаяся облачностью, местностью и солнцем. Кроме «охотников», естественно, действовать должны были и обычные группы истребителей – особенно для прикрытия районов главного удара наземных войск, мест их сосредоточения, групп штурмовиков и бомбардировщиков. И Шестаков как раз и обучал летчиков искусству вести групповые воздушные бои. Весь свой накопленный за 2 года войны опыт он передавал нам, и мы жадно впитывали его. Это обучение очень помогло в последующих воздушных боях, когда группы самолетов нашего полка дрались с превосходящими силами противника. И большинство встреч с немцами заканчивалось их полным разгромом!
Одной из главных заслуг Шестакова я считаю именно то, что он разработал принципы обучения летчиков-истребителей групповым боям. Сейчас можно сказать, что Шестаков был инициатором освоения тактики групповых воздушных боев и предварительного боевого маневрирования для обеспечения лучших условий начала боя.
* * *
Уже впоследствии, проведя множество воздушных боев, и уже после гибели Шестакова главное внимание мы стали уделять групповой слетанности пары в боевом порядке. В этом случае ведомый занимал положение в 150—200 м позади ведущего и должен был удержаться там при всех его маневрах: разворотах, пикированиях, боевых разворотах. Только после таких тренировок пара летчиков считалась подготовленной и допускалась к воздушному бою. Ничего подобного раньше не было: летчиков в лучшем случае учили одиночному воздушному бою.
Между днями полетов мы усердно изучали тактику, аэродинамику, воздушную стрельбу и другие не менее полезные науки. Вечерами ходили в кино, иногда бывали и концерты. Впрочем, и здесь Лев Львович внес нечто новое в наше времяпровождение. Чуть ли не из Большого театра он пригласил заниматься с нами не то балерину, не то балетмейстера. «Добровольно-принудительные», как мы шутили, занятия проводились по вечерам два или три раза в неделю плюс обязательно в воскресенье. В программе были русская, гопак, молдаванеска и ряд других плясок. Впрочем, некоторые наши асы так и не заставили себя учиться – плясала больше молодежь, но эти занятия внесли заметное оживление в наш быт, давали острякам повод для многих шуток. Позже, на фронте, мы очень тепло вспоминали это культурное начинание.
К этому времени относится и присвоение мне прозвища, впоследствии чуть ли не полностью заменившего мне фамилию. В Доме офицеров аэродрома Чкаловская давали концерт украинские артисты, среди которых был удивительно худой артист по фамилии Байда. Я помню, что он складывался пополам, пролезая в довольно узкое кольцо. На другой день от меня потребовали повторения этих номеров, и хотя ребята не добились от меня успеха, но с тех пор все обращались ко мне как к «Байде». Так меня стал называть весь полк, и это прозвище полностью заменило мне фамилию. Правда, сначала я обижался, но потом привык и стал отзываться. Дело дошло до того, что новый адъютант нашей эскадрильи вписал меня в список эскадрильи как Байду, чем поверг наш штаб в полное изумление. Потом он полчаса разыскивал летчика Крамаренко, а когда ему показали на меня, то удивился: «Мне нужен Байда, а не Крамаренко!». К концу войны, уже летая в паре с Кумничкиным, я решил сменить свой позывной на «Комар», что, как мне казалось, более созвучно моей фамилии. В воздухе я его несколько раз окликнул:
– Барон, Барон. Я Комар!
Он слушал, слушал, потом говорит:
– Что за комар там пищит? Это ты, Байда?
– Я.
– Прекрати пищать, останешься Байдой!
Так это прозвище и шло вместе со мной вплоть до момента, когда я стал командиром эскадрильи.
В это время полк получил с Горьковского авиазавода новые самолеты Ла-5ФН. Они имели более мощные форсированные моторы – бескарбюраторные, с так называемым непосредственным впрыском топлива в цилиндры, что давало некоторую прибавку мощности и было более надежно в воздушных боях. Все-таки нашему полку, как «маршальскому», уделялось большое внимание в вопросах снабжения самолетами и в других вопросах.
Начинался новый, 1944 год. Полк закончил подготовку, и январским морозным днем эскадрилья вылетела на 1-й Украинский фронт. Оставив Москву справа, мы вышли на Курскую железную дорогу, сели в Орле да там и застряли на целых две недели. Следующий аэродром не принимал из-за погоды. Ожидание показалось нам вечностью, хотя недостатка мы не испытывали ни в чем: обслуживание перелетающих частей в Орле было поставлено прекрасно. После возвращения из столовой с завтрака мы несколько часов занимались, изучая в основном будущий район боевых действий западнее Днепра – от Киева до Проскурова и Житомира, где на начало января проходила линия фронта. Иногда мы восстанавливали в памяти технические данные своего самолета и особенно немецких истребителей Ме-109 и ФВ-190 и бомбардировщиков Ю-87 и Ю-88. Но после обеда делать было уже совсем нечего. Ходить по городу в меховых унтах было неудобно, поэтому мы рассказывали друг другу разные истории из своей жизни, а потом кто-то достал игральные карты, и мы по 3—4 часа после ужина расписывали «пульку». Одну «пульку» мы играли чуть ли не неделю. Так что двухнедельное пребывание в Орле обошлось без чрезвычайных происшествий.
Наконец погода немного улучшилась, и мы под облаками на малой высоте перелетели на аэродром в Миргороде, где задержались на несколько дней. Здесь мой ведущий Симонов был ранен в ногу случайным выстрелом, и в моем звене осталось три летчика: Микиренков с Вяловым и я, без ведущего. Лишь когда настала хорошая погода, мы перелетели на прифронтовой аэродром возле города Бердичева.
Через несколько дней полк начал облет района, линии фронта. В первый полет Шестаков взял командиров эскадрилий и своих заместителей. Возвратились все оживленные: оказывается, у линии фронта они встретили ниже себя два немецких истребителя – видимо, пару асов. Шестаков решил показать, как нужно вести бой. Передав группе, чтобы они наблюдали за его атакой, он спикировал, зашел в хвост немецкому самолету и с дистанции около 100 метров открыл огонь. Немецкий самолет загорелся, второй переворотом ушел вниз и обратился в бегство. Шестаков набрал высоту, группа пристроилась к нему, и они продолжали полет для знакомства с районом боевых действий.
Через несколько дней на облет линии фронта вылетела наша эскадрилья, в ее составе поднялось в воздух и наше звено. Командир звена Микиренков шел впереди, Коля Вялов справа, я слева от ведущего. Над линией фронта мы заметили два «фокке-вульфа». Комзвена снижается, догоняет и, открыв огонь, поджигает немца! Из атаки он выходит вверх; мы подстраиваемся к нему и возвращаемся домой. Но на обратном пути мой мотор начинает давать перебои. Ощущение препротивное: самолет то рвется вперед, то как бы тормозится. Я чувствую, что мотор может вот-вот отказать, и начинаю присматривать поле для вынужденной посадки. Но вот и аэродром. Над ним командир начинает разворот влево на 180°, но в этот момент мой мотор начинает дергать еще сильнее, и я, чувствуя, что он вот-вот откажет, убираю обороты и иду на посадку. Выпускаю шасси, но вижу, что промазываю, даю газ – мотор заработал, и я с трудом делаю небольшой круг и сажусь на аэродром.
В это время над аэродромом разворачиваются драматические события. Над аэродромом появились два ФВ-190. Видимо, они шли за нами и выбирали удобный момент для атаки. Во время разворота на 180° они атаковали задний самолет. Им оказался Коля Вялов. Длинной очередью он был подбит, но все же сумел посадить самолет на аэродроме. Второй «фоккер» атаковал меня, но я эту атаку не видел, пытаясь посадить свой самолет. Поскольку я в этот момент делал разворот на малой скорости, то «фокке-вульф» по мне не попал и пронесся мимо. Ведущий ФВ-190 атаковал самолет командира звена. Тот перешел на вираж, «фоккер» вышел вверх, и когда «лавочкин» начал на пикировании разгонять скорость, и «фоккер» устремился за ним. «Лавочкин» перешел на боевой разворот, и тогда «фокке-вульф», используя преимущество в скорости и высоте, сблизился с ним и открыл огонь. Видимо, снаряд попал в кабину истребителя Микиренкова: его «лавочкин» перешел в крутое пикирование и врезался в землю... Горький урок! С тех пор на аэродроме всегда внимательно наблюдали за всеми улетающими и прилетающими самолетами.
Меня же обвинили в трусости, и Шестаков приказал отдать меня под суд военного трибунала за преднамеренный выход из боя. Все мои объяснения, что я не видел немецкие самолеты, что мой мотор плохо работал и я еле дотянул до аэродрома и с трудом сел, ни к чему не привели. Все летчики идут на аэродром, вылетают на задания, а я сижу в казарме на койке, изучаю от безделья район полетов и жду решения своей участи. Состояние ужасное! Помогала мне только вера в меня летчиков полка.
Между тем специальная комиссия начала исследовать мотор моего самолета. Действительно, после запуска первую минуту он работал хорошо, но затем начинал захлебываться и сбавлять обороты. Мотор был тщательно исследован, и выяснилось, что бензиновый фильтр топливной системы оказался забит частицами сажи. Дело в том, что перед вылетом инженер эскадрильи дал команду включить кран системы наполнения топливных баков выхлопными газами. Эта система нужна для того, чтобы в бензиновые баки вместо воздуха поступали отработанные газы, вытесняли пары бензина и не давали бензину воспламеняться при попадании в бак зажигательных пуль и снарядов. До этого вылета система не использовалась, но была соединена с выхлопными патрубками, поэтому за длительное время в ней скопилось много частиц сажи. Как только система была соединена с баками, отработанные газы, поступая в баки, захватывали с собой всю эту скопившуюся в трубопроводах сажу. Из бака сажа вместе с бензином поступала в бензопроводы и задерживалась на сетке бензинового фильтра. В результате бензин в мотор стал поступать в меньшем количестве, и мотор стал захлебываться от недостатка топлива. Но такая, казалось бы, мелочь, как включение наполнения баков выхлопными газами перед боевым вылетом, привела к таким трагическим результатам!
Были приняты меры: все бензиновые трубопроводы самолетов полка были продуты, фильтры прочищены, и больше таких случаев не происходило. С меня было снято обвинение, и я начал выполнять боевые вылеты.
Весеннее наступление наших войск продолжалось. Полк перелетел в район города Староконстантинова. В это время Шестакову было присвоено звание полковника, а через несколько дней он не вернулся с боевого задания. По рассказам очевидцев, над линией фронта Шестаков на малой высоте атаковал звено Ю-87. Подойдя на минимальную дистанцию (около 40—50 метров), он открыл огонь по ведущему группы. От взрыва его снарядов, попавших в подвешенные бомбы, сдетонировали их взрыватели. Ю-87 взорвался, взрывной волной повредило управление «лавочкина», самолет перевернулся и начал падать. Шестаков выбросился из самолета, но малая высота не дала возможности раскрыться парашюту, и Шестаков погиб. Таков был печальный конец этого замечательного летчика.
Бои южнее Староконстантинова продолжались. Наши самолеты вылетали на охоту на линию фронта. Здесь отличился мой товарищ Николай Косов. Отстав в бою от ведущего, он последовал за группой немецких самолетов, возвращавшихся на свой аэродром. Когда немецкая группа стала расходиться на посадку, Косов сбил над аэродромом два самолета и подбил третий. К сожалению, над аэродромом находились немецкие истребители, и в воздушном бою с ними Косов погиб.
Над линией фронта происходили ожесточенные бои. Немцы подтянули свои лучшие эскадрильи и ежедневно пытались бомбить и штурмовать наши танковые части. Наши истребители дрались и с бомбардировщиками, и с прикрывавшими их истребителями. Полеты нашего полка обычно проходили вдоль линии фронта. Сделав несколько проходов в заданном районе, летчики замечали подходящие немецкие истребители. Часть наших сил вынуждена была отвлекаться для боя с истребителями. В это время подходили бомбардировщики. Наши истребители атаковывали их, те беспорядочно сбрасывали бомбы и, прикрываемые истребителями, уходили домой. Наши истребители хотя и не давали бомбардировщикам сбрасывать бомбы на наши войска, но и не имели больших побед. Сказывалось отсутствие у наших летчиков достаточного опыта ведения воздушных боев.
19 марта планировался очередной вылет на прикрытие. У моего ведущего Симонова, здорового красивого парня, опять не запустился двигатель (и он, мало налетав, на посадке задел дерево), и я вылетел с парой Павла Маслякова. Впоследствии в нашем полку отказались от вылета одного из самолетов пары в составе группы, если не вылетал второй самолет, но тогда на это не обращали внимания: считалось, что три самолета все-таки сильнее двух. Симонов же просто боялся летать. В итоге он разбил самолет, зацепившись за дерево при посадке, и уехал в госпиталь. После этого его списали, и дальнейшую его судьбу я не знаю.
Над линией фронта наша группа заметила группу «юнкерсов» и 6 немецких двухмоторных истребителей Me-110, которые штурмовали позиции наших войск. Масляков атаковал и сбил один «юнкерс» и стал атаковывать второй. В это время по нему открыл огонь один из «мессершмиттов». Я бросился отбивать атаку, открыл огонь и увидел, как моя трасса накрыла «мессершмитт». Немецкий самолет прекратил огонь, задымил и начал снижаться – и в этот момент я заметил впереди чужую трассу. Вслед за этим – резкий удар, сильная боль, и моя кабина наполнилась дымом и пламенем. Машинально я дергаю рычаг аварийного сброса фонаря кабины; пламя охватывает всю кабину, руки и лицо в огне. Пытаюсь вылезти, но не могу. Отстегиваю привязные ремни, резко отдаю ручку вперед, самолет уходит вниз, и я оказываюсь в воздухе. Нахожу вытяжное кольцо парашюта, дергаю. Меня сильно встряхивает, и далее провал... Очнулся – вишу на парашюте. Быстро приближается земля. Я пытаюсь сгруппироваться, но поздно. Сильный удар, темнота...
Второй раз я прихожу в себя от толчка, меня переворачивают. Пытаюсь подняться, но только могу сесть. С меня снимают ремень с пистолетом. Возле себя я вижу несколько человек: на них зеленая незнакомая форма, в петлицах черепа с костями, речь незнакомая. Страшная реальность пронизывает сознание: я на немецкой территории, в плену! Падаю на землю, меня толкают, поднимают. Я пытаюсь сам подняться на ноги, но от дикой боли падаю снова – из обеих ног хлещет кровь. Мне разрезают сапоги и забинтовывают ноги. Подъезжает автомашина (что-то вроде «Виллиса»), меня снова поднимают и переносят в нее. Машина трогается, рядом сидят три немецких солдата.
Проезжаем три или четыре километра, въезжаем в село. В селе машина остановилась у большого здания, откуда выходит офицер. Он подходит к машине и спрашивает меня по-русски:
– Танкист? Какой части?
Видимо, мое обгорелое лицо и руки у него вызывает связь с танками. Отвечаю:
– Я летчик.
Офицер поворачивается и уходит, отдав команду «эршиссен» – расстрелять. Я смотрю вверх: там голубое небо, кучевые облачка. Вот и все, отлетался...
Солдат пытается завести ручкой мотор, но в этот момент из штаба выходят несколько человек, солдаты встают и вытягиваются. Один в серебряных погонах (видимо, генерал) подходит к машине и властно о чем-то спрашивает солдат. Те отвечают.
Следуют новые вопросы:
– Какая часть? Сколько самолетов? Кто командир?
Отвечаю:
– Ничего говорить не буду.
Генерал молча рассматривает меня, затем говорит солдатам:
– Найн, госпиталь, – и уходит.
Охраняющие меня солдаты садятся, закуривают, чего-то ждут. Один из них говорит мне:
– Госпиталь.
Я начинаю понимать, что еще не все кончено. Минут через 20 подъезжает телега, в ней лежит немецкий офицер, по погонам вроде капитан. Меня переносят и кладут на телегу рядом с ним. Мы трогаемся. Проходит полчаса, село остается позади. Возница в немецкой военной форме с винтовкой на плече. Он курит цигарки и понукает лошадь явно украинскими словами. Видя, что он мой земляк, украинец, я начинаю «агитировать» его:
– Что ж ты, земляк, немцам служишь?
На это я получаю решительный ответ:
– Ах ты, проклятый москаль, сейчас пристрелю!
Тотчас он снимает с плеча винтовку и направляет на меня, явно собираясь выполнить свою угрозу. Но в этот момент офицер, лежащий рядом, понимает, в чем дело, вытаскивает пистолет и говорит:
– Хальт! Госпиталь!
Дальше я ничего не помню: стала сказываться потеря крови, боль утихла, и я куда-то провалился.
Сколько прошло времени, не знаю: когда я прихожу в сознание, уже вечереет. Открываю глаза. Меня тормошат, у повозки люди, они поднимают меня из телеги и кладут на носилки. Вносят в комнату, в ней яркий свет. Солдаты в нашей форме, явно тоже пленные, говорят:
– Не волнуйся, ты в лазарете, в лагере военнопленных. Мы советские, санитары, пленные. Сейчас перевяжем, все будет хорошо.
Меня снимают с носилок, кладут на стол. Лежу на столе, из ног вытаскивают осколки, промывают раны, забинтовывают. Больно! Лицо мне начинают мазать какой-то красной жидкостью. Говорят:
– Потерпи, будет очень больно, но тогда шрамов на лице не будет.
Боль страшная – будто мне снова жгут лицо. Затем мажут руки, и я начинаю стонать. Меня успокаивают:
– Потерпи немного, сейчас заснешь.
Санитар делает мне укол в руку. Боль начинает медленно отходить, и я погружаюсь во мрак.
Пробуждение нерадостное. Все тело болит, особенно ноги, руки и лицо. В памяти мелькает: огонь, парашют, земля, немцы, машина, телега, операционный стол... Смотрю вверх, надо мной сетка – второй этаж двухъярусной кровати. Озираюсь: комната, в ней 10—15 двухъярусных кроватей. Рядом со мной бородатый, худой, изможденный человек, он смотрит на меня и говорит:
– Наконец-то очнулся, почти сутки спал. Как чувствуешь себя?
– Ничего. Где я?
– В лазарете при лагере военнопленных, в городе Проскурове.
– А ты давно здесь?
– Да почти две недели. Был стрелком на бомбардировщике Пе-2. Самолет сбили, меня ранило в живот, я выбросился на парашюте. Схватили немцы, привезли сюда, сделали операцию, а здесь в лазарете – уже наши пленные врачи и санитары.
Ко мне подходят санитары, несут в перевязочную. Там молодой врач осматривает раны, успокаивает:
– Кости левой ноги целы, но мелких осколков много. Пальцы правой ноги перебиты. Перебит и палец правой руки. Но опасности нет. Сейчас потерпи, мы смажем обгорелые лицо и руки, чтобы не было рубцов.
Конечно, в то время я не спрашивал, кто был тот врач и те санитары, которые в таких невероятно трудных, тяжелых условиях, ежедневно таскали на перевязки незнакомого летчика, заботились, чтобы на его лице не было рубцов от ожогов. Так же они заботились и о других раненых. Огромная благодарность им, этим безвестным братьям милосердия!
Мне снова мажут руки и лицо. Дикая боль пронизывает все тело. Теперь я уже прошу:
– Братцы, уколите, не могу терпеть.
Мне вводят в руку иглу шприца, боль медленно уходит, и я засыпаю. На второй или третий день приносят еду: суп из брюквы. Хлеб, как говорит мой сосед, сделан из опилок. Я отказываюсь, санитар смотрит, качает головой и приносит на блюдце манную кашу. Возникает осложнение: я не могу ничего взять в руки! Санитар пытается кормить меня сам, но рот стянуло коркой от ожога, и ложка не проходит. Он находит чайную ложку, но та тоже не проходит. Тогда он, используя ручку ложки, набирает немного каши и просовывает ее мне в рот. Дело налаживается.
Так проходит несколько дней. Мои руки покрываются черной коркой, таким же, видимо, становится и лицо. Теперь я могу поворачиваться на левый бок, в сторону моего соседа, и беседовать с ним. Он рассказывает о своей матери из Реутова, возле Москвы, я рассказываю свою историю. На соседних койках лежат другие тяжелораненые. В основном это пехотинцы с тяжелыми ранениями. Много тифозных больных. Они мечутся, выкрикивают слова, бредят.
На шестой день в лазарете начинается суматоха. Прибегает то один санитар, то другой. Нам сообщают, что город окружают наши войска, немцы уходят и лагерь военнопленных эвакуируется. Здоровых пленных уже увели, а за нами приедут телеги и увезут нас на запад. Наступает вечер, но телег за нами не присылают. В городе гремят взрывы. Немцы взрывают дома, горят здания. Мы, те, кто не может двигаться, ждем, когда начнут расправляться с нами. Бросят в дом канистры с бензином – и ничего от нас не останется. Взрывы то ближе, то дальше; лагерь и лазарет уже не охраняются, охрана разбежалась. Но к нашему лазарету взрывники не подходят. Видимо, нас спасла надпись над входом: «Тиф. Не входить».
Развязки я не дожидаюсь: слабость берет свое, и часов в 12 я засыпаю. Просыпаюсь же я от радостных голосов. Светло, у двери стоят два молодых солдата в полушубках. Они поздравляют всех с освобождением. Я пытаюсь подняться, но сил не хватает. Один из них замечает мое черное лицо и подходит.
– В танке горел?
– Нет, я летчик.
– Ничего, браток, поправишься! Выпей за освобождение. Хорошо вы нас прикрывали!
Он наливает мне кружку светлой жидкости, и я долго пью. Немного жжет. Я выпиваю почти кружку шнапса, но опьянения не наступает – слишком напряжены нервы.
Немного погодя заходит офицер в звании майора. Он тоже поздравляет нас и говорит:
– Товарищи, подождите еще немного. Завтра всех перевезем в госпиталь!
Майор видит меня, подходит:
– Танкист?
– Нет, летчик.
– Здорово обгорел, но ничего, все уже позади. Выпей за жизнь!
Мне неудобно, что такое внимание уделяется только мне, но от угощения я не отказываюсь и выпиваю еще кружку. Опьянения не чувствую, просто погружаюсь в забытье.
Просыпаюсь, сосед смотрит и спрашивает:
– Очнулся? Сутки прошли.
Я отвечаю что-то невнятное. Страшно хочется пить, я выпиваю воды и снова проваливаюсь в безмолвие. Просыпаюсь вечером, теперь возле меня сидят две женщины.
– Ой, сынок, живой, – плачут они. – Видела бы тебя мать!
Видимо, вид у меня действительно был впечатляющий... Я отвечаю:
– Ничего, родные, поправлюсь, еще летать буду.
– Ох, сынок, дай-то бог. Скажи, чего тебе хочется: покушать, попить, чайку, кофейку?
Жажда продолжает томить меня: ведь я выпил чуть ли не пол-литра шнапса, а перед этим почти ничего не ел семь дней. Отвечаю:
– Кофейку хочется...
– Сейчас, сынок, принесем!
Через полчаса я с наслаждением пью кофе. Какой прекрасной оказывается эта чашка, а еще прекраснее эти милые, добрые женщины из города Проскурова. Большое спасибо им за доставленную мне радость!
Я снова засыпаю, а когда просыпаюсь утром, вижу молодую девушку. Она пытается меня накормить. Хотя аппетита у меня нет, но я понимаю, что есть надо. Рот стянут ожогом, и ручкой чайной ложки девушка проталкивает мне в рот комочки манной каши. Вечером прибывает полевой госпиталь, и меня несут на операционный стол. Сестра разрезает бинты и отшатывается. Я приподнимаю голову и смотрю: под моими снятыми бинтами десятки, сотни вшей.
На другой день у меня начинается жар, и меня переносят в изолятор – маленькую пустую комнату с железной койкой. Ноги обтирают какой-то жидкостью, перевязывают. Лежу час, другой, третий – никого. Наступает ночь. Где я? Кричу – никакого ответа. Пытаюсь слезть, но сил не хватает. Снова кричу. Наконец-то дверь открывается, входит санитар:
– Не кричи, у тебя тиф. Завтра мы перевезем тебя в другой госпиталь.
Я снова один. Темно. И вдруг я вижу голубое небо! Я снова в воздухе. Впереди «юнкерс», я догоняю его, нажимаю на гашетки. К «юнкерсу» тянутся трассы, он вспыхивает. Кругом «мессершмитты». Уворачиваюсь от одного, потом от другого, – и вдруг мотор останавливается. Я сажусь на какую-то площадку, ко мне подходят какие-то люди. Бешметы, кинжалы... Это горцы. Они подводят быков, помогают запрячь, привязать к шасси, я в кабине самолета, и быки тащат меня на мой аэродром. Вдруг впереди замок. Стража выходит из ворот, мне помогают вылезти из кабины и пройти в замок, в богато убранную комнату. Там я вижу девушку в богатом восточном убранстве. Она приглашает меня за стол, появляются блюда с яствами. Я тороплюсь, пытаюсь объяснить, что меня ждут в полку, – с трудом убеждаю их, что уеду, но через день вернусь. И вот я снова в полку. Вылеты, бои. Проходит месяц, другой, третий. Наконец-то я снова в замке, но здесь немцы. Меня связывают и бросают в подземелье. Я лежу на железной кровати, в углу у огня стражник. Он смотрит на меня, но я закрываю глаза и притворяюсь спящим, и тогда он выходит. Думаю, как убежать. Замечаю в углу люк – значит, там подземелье. Сползаю с кровати, падаю на пол, ползу к люку, но стражник вбегает и не дает мне доползти до люка и убежать на волю. Я хватаюсь обеими руками за подвернувшуюся под руки ножку кровати. Оторвать меня невозможно. Стражник отходит и кого-то зовет. Я снова пытаюсь добежать до окна и выпрыгнуть, но ноги не держат, я снова падаю на пол и лезу под кровать, цепляюсь за ножку.