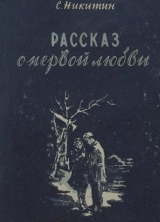
Текст книги "Рассказ о первой любви"
Автор книги: Сергей Никитин
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Спутники
Заведующий сельским клубом в Акулове Юра Молотков и врач Акуловской больницы Никольский, случайно повстречавшись на выходе из деревни Удол, шли по лесной дороге.
Была та пора осени, когда в сырых осинниках начинает горьковато припахивать корой, красится лист, и по утрам на стебли еще зеленой травы мелкими зернами ложится морозная матовая роса. Ни птичьей возни, ни стрекота кузнечиков, ни озорных набегов ветра на говорливое мелколесье. Все точно замерло в предчувствии недалекой зимы…
– Отличная пора, очей очарованье, – бессовестно перевирая пушкинские стихи, сказал Юра, настроенный на восторженно-грустный лад. – Который раз, Николай Николаевич, иду я этой дорогой, а между тем она все равно кажется мне красивой. Я думаю, лучше наших лесов нет на свете. Вы, конечно, всему тут чужой, все вам тут не нравится, а я – здешний. Я – без предубеждения.
Юра покосился на Никольского и, не дождавшись ответа, вздохнул. Ему хотелось поговорить.
Молодой доктор, с тех пор как появился в Акулове, вообще привлекал внимание любопытного и общительного Юры. Стройный, с эластичными движениями гимнаста, одетый в тяжелое пальто, шляпу, яркий шарф и ботинки на толстой подошве, он выделялся среди коренастых и немудро одетых акуловских хлебопашцев. К тому же в отличие от них – людей неторопливых, рассудительных – Никольский был резок, скор в решениях и порой ядовито-насмешлив.
Фельдшер Никодим Федорович с обидой рассказывал Юре, что, осмотрев больницу, Никольский презрительно усмехнулся и сказал:
– Стационар на три койки. Будем, значит, жить по Чехову: фельдшер – пьяница, у медперсонала – низкий уровень знаний…
И обратившись уже прямо к Никодиму Федоровичу, добавил:
– На работу, пожалуйста, являйтесь бритым. Больной должен уходить от нас со светлой надеждой в душе, а ваш вид не способен внушить ее.
Когда же доктору показали его квартиру – две комнаты при больнице с окнами в яблоневый сад – он очень удивил всех, сказав:
– Вымойте здесь и поставьте пять коек. Ну, что непонятного! Пять больничных коек. Не собираюсь же я выписать сюда родственников со всего света.
Поселился он в избе для приезжих.
По-новому загадочным и оттого еще более притягательным Никольский стал для Юры с тех пор, как поссорился с председателем колхоза, запретив своим работникам выходить в поле выбирать картошку.
– Вы что же, Николай Николаевич, не хотите колхозу помочь? – с укоризной выговаривал ему председатель. – Учителя работают, завклубом работает, библиотекарь работает, а ваши больничные отстают от всей интеллигенции – стыдно!
– В больнице много работы, – отрезал Никольский. – И колхозу мы помогаем именно этой работой. Не будем впредь тратить время на такие разговоры. До свидания.
Впервые Юра заговорил с доктором в библиотеке. Никольский пришел туда вечером и, едва переступив порог, сказал:
– У вас тут пылью пахнет. Надо чаще вытирать книги. Все до одной вытирать.
Юра заметил, как изменилось лицо библиотекарши Ниночки Стрешневой. Оно сразу приобрело какое-то смятенно-глуповатое выражение, словно у перепуганной курицы, когда та, растопырив крылья, с разинутым клювом, спасается бегством от озорного щенка. Заполняя карточку, Ниночка задержалась на графе «пол» и долго дожидалась ответа.
– Ну что же, посмотрим, что у вас есть, – сухо сказал Никольский.
Он пошел за перегородку и стал перебирать книги на полках. Ниночка услужливо подставляла ему табуретку, показывала расположение книг.
– Вот видите? – опять сказал Никольский, протягивая ей свои руки, серые от пыли. – А подбор литературы у вас бестолковый. В следующий раз, когда будете составлять заявку в библиотечный коллектор, позовите меня. Я вам подскажу.
– Вы бы, Николай Николаевич, в клуб зашли. Может, и мне подсказали бы что-нибудь дельное, – с нарочитым смирением сказал Юра.
– Зайду, – согласился Никольский. – Закончу свои реформы в больнице и зайду.
Теперь, встретив Никольского в Удоле, Юра обрадовался случаю свести с ним знакомство покороче. Они давно уже шагали бог о бок по узкой лесной дороге, но на все попытки Юры завязать разговор Никольский неохотно поддакивал или вовсе не отвечал, глядя на легонькую, в короткой бобриковой тужурке фигурку спутника, как на пустое место.
– Оба мы, Николай Николаевич, принадлежим к сельской интеллигенции, – не унимался Юра, – а между тем вы сторонитесь меня и упорно не хотите вступать в дружеские отношения. Этого я не понимаю. Может, вы кичитесь своим высшим образованием, так это, скажу вам, отсталый взгляд на вещи. Не одни вы сейчас в деревне с высшим образованием, а между тем другие не проявляют к окружающим такого пренебрежения. Скажите, например, зачем вы обидели Никодима Федоровича?
– Разве я его обидел? – спросил Никольский.
– Еще бы! Ведь вы сказали, что он пьяница…
– A-а, так я сказал правду.
Юра обрадовался – хоть вяло, неохотно, но все же Никольский отвечал ему.
– Пьяница – это еще не доказано, – воодушевленно заговорил он, – а между тем Никодим Федорович – старый, опытный и знающий фельдшер, который на протяжении многих лет с успехом заменял здесь врача. Его у нас любят, верят ему. Он наш земляк…
– Перестаньте, Юра, хвалить свое только потому, что оно ваше, – с раздражением перебил его Никольский. – Ни черта ваш Никодим Федорович не знает. Умеет йодом да ихтиолкой мазать – и все тут. Я свой персонал за книги засадил, так фельдшер и читать-то новую медицинскую литературу не может. А на моих лекциях спит с похмелья… И авторитет ему создали такие же пьяницы. Он угадывает, исходя из своего опыта, их похмельное состояние, а они удивляются его проницательности и думают, что он руководствуется новейшими открытиями медицинской науки.
– Ну уж вы перегибаете! – возмутился Юра. – Какие же пьяницы? У нас народ хороший, работящий.
– А кому я частенько зашиваю раны на голове, как не участникам рукопашных инцидентов в сельской чайной? – усмехнулся Никольский, – Зашел я как-то в клуб… Вы, кажется, просили меня об этом, но я и без просьбы зашел бы, будьте уверены… Там же у вас, Юра, мухи дохнут! Толпятся парни и девушки в пальто, какой-то завсегдатай свадеб с кудрявым чубом дергает гармошку, стены увешаны мобилизующими плакатами… Да глядя на эти плакаты, только и остается запить со скуки.
– И до меня добрались! – усмехнулся Юра. – Наш клуб лучший в районе, я грамоту имею.
– Это еще досадней, если во всем районе не нашлось лучше клуба, чем ваш, – сказал Никольский.
Привыкший ладить с людьми, Юра чувствовал себя неловко и уже раскаивался, что заговорил с доктором, но Никольского этот разговор, очевидно, задел за живое.
– Осматривал я на днях школьников в Акулове, – продолжал он, – попалась мне девочка со старыми ожогами на руках. Спросил, что с ней случилось. Оказывается, помогала тушить горящий стог сена. Тушили, говорит, водой, а надо было молоком от черной коровы, потому что стог загорелся от молнии. По этому поводу я имел с учителями неприятный разговор. Может быть, по-вашему, я их тоже обидел?.. Народ-то, Юра, хороший, работящий, да культуры ему недостает. Все мы – и я, и вы, и учителя – должны прививать эту культуру. А что сделал, например, Никодим Федорович, за которого вы только что заступались? У него под носом, в Удоле живет старуха-знахарка, которая рисует мелом вокруг больного круг и ворожит, закатив глаза… Дифтерийную девочку эта старуха пользовала какими-то припарками, а родители догадались позвать меня только сегодня…
Голос его вдруг сорвался на какой-то судорожный стон или вздох, и Никольский замолчал.
– Все вам тут нехороши, – проворчал Юра.
Никольский поднял воротник и спрятал в него свое лицо, желая, очевидно, показать, что разговор надоел ему. Снизу Юре был виден лишь висок Никольского с бьющейся синей жилкой да кончик хрящеватого уха, разделивший надвое упавшую из-под шляпы прядь волос. Юра готовился возразить. Имея привычку заглядывать собеседнику в лицо, он незаметно для себя ускорял шаг, но никак не мог опередить Никольского. Они все еще шли лесом, по дороге, скупо припорошенной палым листом. Порой над ней выгибался ствол березы; под этой аркой листа было больше, и тишина коротко нарушалась шуршанием быстрых шагов.
– Послушайте, Юра, – сказал вдруг Никольский, резко останавливаясь. – Идите один. Впереди или сзади – все равно. Только оставьте меня, пожалуйста.
Юра не уловил в голосе доктора просительной или жалкой нотки, и все его существо, никогда не умевшее злиться, обижать, ненавидеть, вдруг с необычайной силой восстало против этого человека.
– Кого вы из себя корчите? – с расчетливой издевкой сказал он, тоже останавливаясь и в упор глядя на Никольского прищуренными глазами. – Не нравится вам здесь – и уезжайте. Я знаю, вам хочется уехать. Сознайтесь! Ведь хочется?
Никольский, очевидно, хотел улыбнуться, но не мог справиться со своим обычно твердым лицом, и оно коротко дернулось в какой-то непроизвольной гримасе.
– Уйдите вы! – крикнул он. – У меня в Удоле девочка от дифтерии умерла, а вы пристаете… Глупый вы человек!
Некоторое время они еще стояли на месте, готовые наносить друг другу новые незаслуженные обиды; наконец Никольский круто повернулся и напролом пошел в чашу леса. Но прежде чем она успела скрыть его, Юра заметил по круто выгнувшейся спине доктора, что тот плакал.
– Подождите, Николай Николаич… – растерянно пробормотал он.
Только теперь до его сознания дошел смысл последних слов Никольского.
– Николай Николаич! – закричал он, срываясь с места и разбрасывая перед собой ветки берез и осин. – Николай Николаич, подождите!
Он остановился, наткнувшись на непролазную крепь, и прислушался.
Щедро золоченный осенью и солнцем лес ответил ему из своих глубин шумом потревоженных кем-то веток.
Первые кляксы
Первоклассник Витя Пымзин сидит за отцовским письменным столом и готовит уроки. Пишет он в своей тетрадке не так, как европейцы, – слева направо, и не так как арабы, – справа налево, и не так, как китайцы, – сверху вниз, и даже не так, как мальчики из страны Лилипутии, открытой Гулливером, – по диагонали, а совершенно по-своему – ступеньками. Слова он располагает одно под другим таким образом, что у него получается длинная лестница, ниспадающая от верхнего угла тетрадки к ее середине.
Делает это Витя не из пустого озорства. Рукой мальчика двигает буйное, не подчиняющееся его воле воображение. Оно уводит Витю в иной мир, где нет ни единиц, ни «рукотворных» наказаний родителей, а есть только невиданные звери, смелые охотники, и вот у буквы «о» уже появляются всевозможные олицетворяющие аттрибуты: ушки, носик, хвостик, – а буква «в» целится в нее из лука, готовая пустить разяще-звонкую стрелу с тяжелой кляксой на конце. Все это, конечно, не противоестественно. И вообще Витя – нормальный, здоровый ребенок, как и все в его возрасте, «открытый дли добра и зла», жизнерадостный, веселый и склонный к шумным играм, всегда овеянным благодаря ему творчески-остроумной выдумкой. И только в глазах его – острых, шустреньких глазах хитрого мышонка – есть что-то неприятное. Так смотрят дети, которые знают многое из того, что им не положено знать ни по возрасту, ни по самым элементарным нормам воспитания.
Внезапно витины занятия русской грамотой прерваны визгом входной двери. Витя вскидывает стриженую голову и с любопытством прислушивается. Из кухни доносится вкрадчивое покашливание, потом сиплый, точно залежавшийся на сыром складе голос:
– Вот тут, Мария Федоровна, говядинка, ножки на студень и всяка такая штука… Чего будет нужно, вы ко мне – без стеснения. Всегда рад услужить. Как Павел Кузьмич ко мне, так и я к нему, всей душой, значит. Без этого нельзя.
Витя срывается с места и бежит в кухню.
– А-а! Всяка-такая-штука пришел! – радостно приветствует он обросшего недельной щетиной человека в коротком пальто с измятыми лацканами. – Чего мне принес?
Человек старается изобразить на своем лице умиление и даже присаживается от избытка сладких чувств на корточки.
– Герой мой дома, октябренок мой дома! – заводит он фальцетом. – А я-то вошел, – чу! – не слышно моего героя. Думаю – гуляет. Тут у меня всяка такая штука есть, на вот, лакомись на здоровье.
В руки Вити сыплются дешевые конфеты, яблоки, печенье, он благосклонно принимает все это и, не поблагодарив, отходит к кухонному столу, где мать – Мария Федоровна – распаковывает увесистые свертки.
– А у тебя чего?
– Отстань. Мясо.
Мария Федоровна – тощая женщина с длинным несвежим лицом – легко раздражается без всякого повода. Очень трудно бывает предугадать, что именно вызовет у нее вспышку короткого, но истерически-бурного гнева, и поэтому все домашние живут под вечным страхом за свои, даже самые невинные, проступки. Витя тоже боится ее, и ему поневоле приходится на каждом шагу прибегать к маленькой лжи, чтобы как-то славировать и тем избежать окрика или затрещины. Но на сей раз остатки врожденного детского простодушия все же подводят его.
– А воблы не принес? – спрашивает он у человека с измятыми лацканами.
– Нет, милый, не принес. Не поступила пока на базу.
– Ты укради мне немножко, когда поступит, – деловито наказывает Витя и тут же получает от матери затрещину.
– Иди, учи уроки, гадкий мальчишка! Нечего тебе на кухне болтаться.
Вите не больно, но он инстинктивно прибегает к испытанному средству самозащиты – неистовому реву. Надо же показать матери, что ее воспитательный прием достиг цели, а то, раздасадованная неудачей, она, чего доброго, вздумает повторить его в более ощутимой форме.
– Ну, ладно, не реви, – смягчается мать. Смотри, сколько у тебя гостинцев. Иди, ешь и учи уроки, а я пойду в погреб.
Всхлипывая, Витя возвращается к своей тетрадке и, кусая жесткое яблоко, погружается в задумчивость. Противоречивость мира взрослых ставит его в тупик. Конечно, Всяка-такая-штука – жулик, кто же об этом не знает? Сам отец часто говорит о нем с восхищением:
– Ловкий жулябия этот Всяка-такая-штука. Такой, брат, никогда не попадется, умеет концы с концами свести.
Так почему же возбраняется говорить об этом ему, Вите? Нет, лучше не доверять этим взрослым и держаться от них подальше…
Снова визжат петли входной двери. Это возвращается с работы глава семейства – Павел Кузьмич Пымзин, руководящий деятель потребсоюза. Слышно, как он проникновенно разговаривает со своей шубой, вешая ее на крючок, потом продвигается через комнаты, задевая по пути за все предметы.
– Учишься, брат, зубришь? – спрашивает он, останавливаясь у Вити за спиной… – Ты, брат, учись, зубри. В жизни пригодится. Выучишься – в институт пойдешь… Где мать-то? Ужинать пора бы.
Взгляд родителя случайно падает на тетрадку сына и приобретает оттенок веселого удивления.
– Хо-хо, брат, чего это ты тут наколбасил? – гогочет Павел Кузьмич. – Эй, мать! Посмотри-ка, каких выкрутас он тут настряпал. Чему только их учат в этой школе!
Вернувшаяся из погреба и еще закутанная в платок, Мария Федоровна подходит к столу. Витя тотчас же начинает сбивчиво бормотать какую-то ложь, а голова его непроизвольно втягивается в плечи. Но на этот раз родительская кара волей случая минует его. Мария Федоровна, точно ищейка, потягивает носом, и гнев ее устремляется на мужа. В ее гневе нет возрастающих степеней, он обрушивается сразу девятым валом:
– Ничтожество! – кричит Мария Федоровна.
– Опять нализался, как скотина! Загонишь ты меня в петлю. Убегу я из этого дома, куда глаза глядят!
Этим угрозам Павел Кузьмич, конечно, не верит, но малодушный страх перед жесткой ладонью супруги заставляет его пятиться, моргать и униженно оправдываться:
– Да я… да мы с Потаповым, с Гусевым по кружечке… Послушай, мать! Эй, мать, мать, перестань…
Раздается звук хлесткой пощечины; Павел Кузьмич, отпрянув, падает на диван, и Витя, всегда готовый включиться в какое-нибудь шумное предприятие, кричит с пылающим жаждой бури взглядом:
– Ура! Бей папу!
Но как обескураживающе разбиваются об этот изменчивый, непонятный, вероломный мир взрослых самые искренние витины порывы! Внимание Марии Федоровны вдруг переносится на сына, она заглядывает в его тетрадь и хватается за голову.
– Боже! Что ты наделал! Что ты наделал, я тебя спрашиваю? Загонишь ты меня в петлю! Убегу я из этого дома, куда глаза глядят!
Вите от этих слов, которые он слышит каждый день, вдруг становится невыносимо скучно. Уже непритворные слезы подступают ему к горлу, он начинает судорожно всхлипывать, но оказывается, что плакать, даже когда этого искрение, по-настоящему хочется, нельзя.
– Не смей реветь! – слышит он голос матери. – Завтра возьмешь чистую тетрадку и напишешь все, как следует. А сейчас иди и спи, гадкий мальчишка.
Витя идет к своей постели, закрывается с головой одеялом и, глотая крупные комки слез, засыпает.
…Спи, гадкий мальчишка!
Ложка дегтя
Душным июльским вечером, когда кажется, что сам воздух липнет к телу, три приятеля – адвокат Пловкин, редактор городской газеты Шабал и судья Турусевич – сидели у последнего на балконе, пили теплое пиво под воблу и, уже исчерпав несколько тем, говорили о летаргическом сне.
– А что, – сказал вдруг редактор Шабал, слывший среди приятелей отчаянным вольнодумцем, – хорошо бы сейчас на речку, в холодок. Костер, знаете ли, развести, картошки испечь… Впрочем, суть дела не в этом. А лучше завалиться, знаете ли, на спину, глядеть в небо, стихи бормотать, а!
– Почему? Картошки испечь – тоже хорошо, – задумчиво возразил судья.
Непрактичный в житейских делах и всегда мнительный из-за опасения попасть впросак адвокат Пловкин забормотал было о том, что на реке, пожалуй, сыровато, но энергичный Шабал не дал ему договорить.
– Суть дела не в этом, – решительно сказал он. – Собирайтесь и – пошли. Какого черта станем сидеть в городе?
Они набили «авоську» всем, что нашлось у Турусевича в кухне – сырой картошкой, хлебом, луком, – Шабал прихватил еще две оставшиеся бутылки пива, и приятели вышли. Доехав на автобусе до конечной остановки, миновав затем окраинные поселки, утыканные непривившимися тополевыми кольями, они оказались за городом.
По едва уловимому запаху пойменного ила, по чуть осязаемой свежести воздушных струй здесь уже чувствовалась близость реки. Было тихое, нежное время заката. За синюю кромку далекого леса спускалось вялое, туманное солнце, честно потрудившееся за долгий день; на вершинах корявых ветел засыпая, хрипели грачи, и в воздухе уже плыл сырой, прохладный пар земли, неизменный спутник летних сумерек.
Судья глубоко, томительно вздохнул, и по сладкому выражению его красивого лица с декоративными смоляными усами можно было понять, что он умилен этой мирно отходящей ко сну природой.
Примерно в таком же состоянии духа находился и адвокат Пловкин. Маленький, умеренно облитый крутым жирком, какой приобретают на сидячей работе только очень здоровые люди, он шагал, чуть приотстав от своих приятелей и по временам издавал нечленораздельный, но вполне выражающий состояние безграничного блаженства звук – «ц, э-э-э…»
Редактор Шабал – поэт в душе, как натура более сложная, реагировал на окружающий мир не столь непосредственно. Очевидно, весь сосредоточась на каких-то неясных поэтических гулах, теснившихся в его груди, он шел, опустив гривастую, с тяжелым подбородком голову, и лишь изредка, точно проснувшись, обводил окрестность туманным взглядом.
Но как бы по-разному ни вели себя приятели, было вполне очевидно, что все трое не часто бывают за городом и открывают сейчас в себе и вокруг себя новый чудесный мир.
Когда они подошли к реке, солнце уже убралось за горизонт. В этот поздний час приятели были одни на широком песчаном пляже, ограниченном с одной стороны тинистой старицей, а с другой – дровяным складом. Там, на складе, правда, происходила какая-то жизнь – мелькали огни в окнах конторы, ходил возле единственной, рассыпавшейся поленницы сторож с ружьем, но кругом было так тихо, что казалось, будто все совершается как в немом кино.
– Сначала надо искупаться, – шепотом, точно благоговея перед этой тишиной, сказал редактор. – Трусы не будем мочить, никого нет.
– Неудобно, пожалуй, – слабо запротестовал мнительный адвокат Пловкин.
– Ерунда! Нет же никого.
Редактор смело начал раздеваться, и остальные последовали его примеру.
– Ну, раз, два, три!
Разбежавшись, они вдруг остановились у самой воды как вкопанные.
– Н-да, довольно малодушно, товарищи, – сказал редактор и брызнул водой на адвоката Пловкина.
Тот, огласив пляж истошным визгом, брызнул на Турусевича, и у приятелей завязалась веселая кутерьма. Они долго с наслаждением кувыркались в теплой воде, а потом редактор Шабал придумал нырять с трамплина. Металлический остов конвейера, служившего для выгрузки сплавных дров на берег, выдавался далеко над водой и мог сойти за трамплин. Все трое, хохоча и подбадривая друг друга, полезли на него. Никто бы, наверно, так и не решился прыгнуть, если бы с берега вдруг не послышалась старческая фистула сторожа:
– Вот я вас сейчас дрыном оттуда, шаромыжники вы эдакие. Слазь давай!
И сейчас же в вечерней тишине прозвучали тяжелые удары об воду трех тел, падающих как попало.
– Смотрите, лодка, – отплевываясь, сказал редактор, когда приятели подплыли к берегу. – Давайте покатаемся.
– Ну вас к дьяволу. Я озяб, – взмолился адвокат Пловкнн.
– Вот и погреешься, садись на весла, – посоветовал ему Туруссвич. А я сейчас костер разведу, будем картошку печь.
Он вылез из воды, и делая руками гимнастические упражнения, забегал по песку, а Шабал и Пловкин принялись распутывать лодочную цепь.
– Какой это деталью хотел угостить нас сторож? – поинтересовался непрактичный в житейских делах адвокат.
Но не успел редактор удовлетворить его любопытство, как сам сторож, легкий на помине, снова окликнул их.
– Для вас это, шаромыжники, лодка поставлена? – закричал он, подходя вплотную. – Люди, вроде, солидные, у ентова вон живот, а балуются хуже маленьких. Сейчас заведующего позову, пускай он с вами разговаривает.
– Ну, что вы, папаша, раскипятились? Не съедим мы вашу лодку. Если нельзя, значит и трогать не станем, – попробовал урезонить его адвокат. Но сторож вдруг вскипел самой неподдельной обидой.
– Папаша! Чай, я не дома на печке – папаша! Я тут на производстве. Соблюдать все-таки нужно.
– Да ну его, пойдем отсюда, – сказал редактор, увлекая за собой адвоката. Но от сторожа не так-то легко было отделаться.
– То-то, что ну его, – заворчал он, идя вслед за ними. – Шляются тут по территории, а потом – ну его. Вот и теплину угораздились вздуть. Люди вроде солидные, у ентова вон усы, а понятие как у маленьких. Сейчас заведующего позову, пускай разбирается.
Он повернулся и, бормоча что-то, пошел к конторе.
– Отстал. Вот смола! – облегченно вздохнул редактор. – Эх, полотенце забыли, товарищи! Придется сушиться у костра.
Они навалили в огонь волглой бересты, в изобилии разбросанной по всему пляжу, и прыгали возле костра, ожидая, когда пройдет черный едкий дым и покажется пламя.
– Ну, что? Это куда лучше, чем болтать на балконе о всякой ерунде вроде летаргического сна, – торжествующе заметил редактор.
– Вот эти самые, – послышалась вдруг из темноты знакомая фистула. – Видите, теплину развели на территории, а меня, значит, – ну. Чай, я им не дома на печке. Я на производстве, нужно соблюдать. Разбирайтесь вот с ними.
В свете костра появился приземистый, бритоголовый человек в сапогах, галифе, в нижней рубашке с закатанными рукавами и укоризненно проговорил:
– Что же это, товарищи? Зачем вы тут огонь развели? Если уж выпили, то ведите себя как следует. Погасите сейчас же огонь и ступайте домой, нечего вам тут голыми плясать.
Приятели узнали в нем заведующего дровяным складом Смердякова, у которого не раз покупали дрова.
– Мы древние язычники, – сказал редактор, готовый расхохотаться, но Смердяков не принял шутки.
– Ладно, ладно, товарищ Шабал, – увещевательно заговорил он. – Выпили и ступайте домой. Для вас же будет лучше, а то, неровен час, утонете.
– Они тут с конвейера прыгать затеяли, – пожаловался сторож.
– Я и говорю, утонут, а то склад подожгут, – отозвался Смердяков. – Долго ли пьяному-то?
– Постой, Смердяков, – возмутился Шабал. Какие же мы пьяные? Мы купаться пришли, ты не передергивай.
– Картошки испечь, – подтвердил Турусевич и повернулся к Пловкину, как бы призывая его в свидетели.
– Что вы мне говорите, товарищ Турусевич! Знаю я, зачем на речку ходят, – понимающе усмехнулся Смердяков и носком сапога показал на бутылки. – Вы лучше гасите огонь и ступайте домой. Нельзя здесь костры жечь.
– Ну, это ты брось, – резко сказал Шабал, наиболее темпераментный из своих приятелей. – Мы находимся за территорией склада и даже не вблизи ее и можем делать все, что нам угодно.
– Вы уж мне не указывайте, – с ехидцей в голосе сказал Смердяков. – Я лучше знаю, что можно делать, а что нельзя. Видите, сколько здесь мусору? Займется мусор – тогда и склад может пострадать.
– А почему мусор не убираете? Вас штрафовать надо за то, что вы пляж загадили, – продолжал наступать Шабал.
– Штрафовать! – обиженно, но отнюдь не трусливо сказал Смердяков, очевидно, чувствуя себя в данной ситуации на верху положения. – Устраивают тут коллективные пьянки, пляшут голыми вокруг костра да еще грозятся. А можно про ваше бытовое разложение и рассказать…
– Тьфу, черт, – сплюнул Шабал.
Сдерживая дрожь в руках, он начал одеваться; судья Турусевич и адвокат Пловкин тоже натянули на себя свои пожитки, и все трое, не сказав Смердякову на прощанье ни слова, пошли прочь. Только отойдя на почтительное расстояние, Шабал с яростной злобой в голосе прошипел:
– Слова-то, подлец, какие выучил – «коллективная пьянка», «бытовое разложение»… Тьфу, с-с-скотина!
– А что, вот возьмет да и пустит кляузу. Оправдывайся потом – попробуй! Ведь и бутылки были, и голыми вокруг костра плясали… – вздохнул мнительный адвокат Пловкин.
– И зачем тебе надо было на этот конвейер лезть? – упрекнул Шабала Турусевич.
– А что – конвейер? Суть дела не в этом. Он к твоему костру придрался. Твоя была идея – картошку печь.
Приятели быстро поссорились и уже всю дорогу до города угрюмо молчали.








