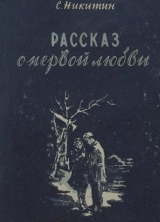
Текст книги "Рассказ о первой любви"
Автор книги: Сергей Никитин
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Испытание
Выдавая Груздеву аванс на командировку, кассир редакции, любивший удивлять новичков туманной мудростью своих изречений, сказал:
– Поприще требует вашего испытания и соблюдения самого себя… Распишитесь вот здесь, пожалуйста.
И когда Груздев начертал затейливо-красивый вензель, прибавил:
– А подпись у вас, молодой человек, самоопределяющая.
Если понимать самоопределение как поиск своего места в жизни и обществе, то этим словом старый кассир наиболее точно определил линию бессознательного поведения Груздева. Ему было всего лишь двадцать лет. За эти годы он успел вырасти в полнокровного молодого человека, ощущавшего избыток телесных сил, да научиться кое-как понимать окружающий мир, ограниченный московской квартирой и двумя курсами факультета журналистики.
В редакции, куда Груздев приехал на практику, его заставили обрабатывать письма трудящихся. Человеку, стремящемуся в юношеской запальчивости к немедленным переворотам во всем, что заслуживало хоть малейшего порицания с его стороны, это занятие не могло принести удовлетворения. По мнению Груздева, вся газета – от передовиц до бракоразводных объявлений – носила печать бездушия, казенщины, скуки, и он с нетерпением ждал случая, когда ему поручат написать очерк, чтобы настоящим, мастерским, исторгнутым из души творением взорвать эту унылую оболочку.
Наконец, такая возможность представилась. Оформив командировку, Груздев купил новый блокнот, авторучку, галоши, и через час расхлябанный вагон пригородного поезда, тарахтя и повизгивая, вез его к станции с нелепым названием Скоропрыжки.
Стояла не по-летнему угрюмая, сырая погода. За окном уходили к мутному горизонту потемневшие поля, порывистый ветер трепал листву придорожных берез, и озябшие птицы старались подольше держаться в теплом дыму паровоза.
Чувствуя, что все это нагоняет на него уныние, Груздев старался подбодрить себя мыслями об очерке, но их одухотворяющее воздействие легко заглушалось совсем заурядной тоской о городской гостинице, о стакане горячего чая, о чтении на сон грядущий чего-нибудь очень приятного.
В Скоропрыжках, вопреки обещанию редактора, Груздева никто не встречал. Рассматривая старые предвыборные плакаты, он сидел в прокуренном вокзальчике рядом с цинковым питьевым баком, и горло ему щекотала жалость к себе, такому заброшенному и необогретому.
Стало темнеть. Водянисто-зеленые сумерки придавали окружающим предметам холодный, мертвый оттенок, а цинковый бак зловеще посверкивал тусклыми бликами.
«Неужели ночевать здесь» – с тоской подумал Груздев.
Но в это время завизжал дверной блок, в зал, шурша заскорузлым плащом, протиснулась безликая фигура, и окающий голос спросил:
– Который тут товарищ из редакции?
Груздев откликнулся. На перроне он разглядел своего провожатого. Это был, как показалось ему, разбойного вида детина, небритый, жгуче сверкавший из-за капюшона плаща черными глазами. В руке он сжимал толстенное кнутовище и, как только подошел к лошади, так сразу же обругал ее за что-то змеем, драконом и недоноском.
Не желая показать вознице, что он скис, Груздев бодро сказал:
– Лошадка – это по мне. На лошадке я люблю.
– Оно, конечно, если торопиться некуда, да в сухую погоду, – мрачно согласился возница.
Он вытащил из телеги второй плащ и кинул его Груздеву.
– Наденьте вот это, мокро будет в лесу.
Завернувшись в холодный, твёрдый, как лист железа, брезент, Груздев неумело полез в телегу, навалившись на нее животом, а потом уже закинув ноги.
Поехали. Колеса бесшумно катились по мягкому проселку; было слышно, как редкий дождь шуршит по плащу, но вскоре телега затарахтела по бесконечно длинным бревенчатым гатям.
«Ни огня, ни черной хаты»… – подумал Груздев и даже поднес к глазам ладонь, словно желая удостовериться, что не ослеп.
Из темноты наносило гнилой запах болота; где-то, несмотря на ненастье, деревянно скрипел неумолимый дергач. Груздеву, наконец, стало невмоготу молчать, и для начала он спросил возницу, как его зовут.
– Ильей, – коротко отозвался тот.
Снова долго ехали по бревенчатым гатям среди холодного смрада болот, и молчали. Спереди, сзади, по сторонам метались на ветру тени придорожных ветел, осыпая лошадь и седоков дождём увесистых капель.
– Недавно в газету заступили? – спросил в свою очередь Илья.
– Нет, давно уже, – сказал Груздев, которому вдруг подумалось, что его авторитет будет недостаточно велик, если колхозники узнают, что он только практикант и студент.
– А в наших краях, знать, не были, – сказал Илья. – Я многих корреспондентов важивал, а вас вот не примечал…
Он назвал по имени и отчеству нескольких сотрудников редакции, и Груздев, подивившись такой осведомленности, смутился. Но отступать было поздно.
– Я сначала в отделе промышленности работал, – сказал он и, помолчав, прибавил совсем уж некстати, – заведующим… А теперь вот перебрался в отдел сельского хозяйства.
– Что так? – спросил Илья. К счастью, он не стал ждать ответа и с тяжелым вздохом заключил – Сельское хозяйство – штука мудреная, в нем нужно толк знать.
– Как, впрочем, и во всяком другом деле, – солидно поддержал его Груздев.
Гати, наконец, кончились, и потянулся частый лес, напитанный влагой, словно губка. Ветра здесь не было, но зато мокрые ветви цеплялись за дугу, за плечи и головы седоков, и надо, было прятать лицо, оберегая глаза.
«Скоро ли конец-то?» – подумал Груздев.
Он даже не заметил, что спросил вслух, и понял это, лишь услышав равнодушный ответ Ильи:
– Только отъехали, а вы уж – конец. Заполночь будем, не раньше.
По верхушкам деревьев, очевидно, пробежал сильный порыв ветра, потому что мириады капель наполнили лес шумом своего падения. Не успел он стихнуть, как послышались далекие перекаты, точно кто-то большой и неуклюжий ворочался за тесным горизонтом. Груздев никогда не видел, чтобы вялое, почти осеннее ненастье вдруг разрешилось грозой, и этот отдаленный гром сообщил здешним местам какую-то тревожащую неведомостъ.
– Что это? – на всякий случай спросил он Илью.
– Погромыхивает, – так же равнодушно отозвался тот и вдруг с неожиданным воодушевлением сказал: – Вот вы человек, должно быть, ученый. Объясните мне, пожалуйста, есть у человека судьба, планида то есть, как у нас говорится, или все это одно впечатление?
– Как? – удивился Груздев, не ожидавший столь крутого поворота к филосовской теме.
– А так, – охотно взялся объяснить Илья. – Почему, скажем, одному человеку везет в жизни сверх всякой меры, а другому, – напротив, не везет? Ну, допустим, не повезло раз, два раза не повезло, а то ведь аккуратно в каждой задумке нет тебе удачи, да и на поди! Взять, к примеру, меня. Чем я человек от других отличный? В колхозе тружусь по совести, не табашник, пью с разумом, воевал – словом, правильной я жизни человек, а счастья мне нет. На фронте, к примеру, определили меня в похоронную команду, и вернулся я без орденов, без ран, словно и не воевал, а в избе на печке отлеживался. Срамота! Или вот насчет женитьбы. За тридцать давно уж перевалило, а я все в женихах прохлаждаюсь. Потому та, которая по сердцу баба, артачится, словно я не соответствую… Эх, да что тут рассуждать!
Очевидно, по натуре Илья был человеком разговорчивым и молчал до сих пор лишь потому, что был занят перевариванием какой-то крепко запавшей в его голову мысли, которую и попытался излить в этих несуразных словах. Говорил он медленно, с продолжительными паузами, точно в запутанном клубке известных ему слов долго и трудно отыскивал самые подходящие. Своей дремучей непонятностью речь Ильи заронила в душу Груздева ту же тревогу, что и гром.
«Чего он хочет?» – подумал Груздев и, не стараясь проникнуть в мысль его жалоб, поспешил переменить разговор.
На вопрос, будет ли гроза, Илья неопределенно ответил:
– Слушайте.
По-прежнему было так же черно вокруг, но иногда сквозь ветки пробивался красноватый отсвет молнии, и вслед за ним продолжительно урчал гром. Дождь стал крупнее. Вода накапливалась в складках плаща и потом, словно по желобам, стекала на колени. Никогда не думал Груздев, что на земле, дарившей его до сих пор теплом курортных берегов, речной прохладой загородной дачи, надежным уютом домашнего пристанища, может быть такое отвратительное, промозглое место. Он сидел и весь напрягался от усилия овладеть собой, но уже чувствовал, что к нему, как в детстве, подбираются те таинственные страхи, которые беспричинно возникают из каждой тени, из каждого шороха.
Дорога пошла под уклон. Илья приостановил лошадь и, когда смолк скрип телеги, стало слышно, как в овраге клокочет вода.
– А, черт! – выругался Илья.
Он проворно соскочил на землю, и тотчас шум дождя поглотил чавканье его шагов. Груздев затаил дыхание. Он хотел окликнуть Илью, но боялся даже своего голоса, на который, казалось ему, лес отзовется злорадно хохочущим эхом.
А в лесу между тем начиналось какое-то бесовское действо: скрипели стволы деревьев, тяжелые громы катились по верхушкам, пригибая их к самой земле, молнии освещали рвущуюся в агонии листву, и дождь стегал все вокруг свистящими струями.
– Гук… – внятно выговорило что-то совсем близко. Так звучит какая-нибудь древесная жила, лопнув в пригнутом стволе, но Груздев уже не был способен отдавать себе отчет в происходящем.
– Илья! – взвизгнул он пронзительным заячьим голосом. Лошадь резко дернула и все быстрее пошла под уклон.
– Илья! – снова закричал Груздев.
Опрокинувшись, он больно ударился спиной о задок телеги и в ужасном предчувствии смерти стал биться, стараясь сбросить с себя плащ. Но в это время лошадь остановилась.
– Вы бы его осадили, змея египетского, – послышался спокойный голос Ильи. – Тут за оврагом деревенька есть. Может, того… заночуем, коли спешить не надо?
– Заночуем, голубчик, заночуем… Поедем скорей, – обрадованно забормотал Груздев. – Зачем нам спешить? Только себя зря мучить, правда?
– Известное дело, – согласился Илья, сводя в овраг «египетского змея» под уздцы. – Там и погреться можно. Четвертной-то у вас найдется?
– Найдется, обязательно найдется, – горячо заверил его Груздев.
Животный страх, так унизительно корчивший его минуту назад, прошел, и теперь все в Груздеве лихорадочно радовалось присутствию живого человека.
Овраг переехали благополучно, хотя лошадь шла по брюхо в воде, а всплывшую телегу с двумя седоками упругий поток пытался стащить в сторону. Наверху по краю оврага рассыпались рыжеватые огни деревни. Заметив их, Груздев окончательно пришел в себя и даже поправил под плащом сбившийся галстук, предвидя встречу с незнакомыми людьми.
Илья постучал кнутовищем в окно одной из темных от сырости изб. К стеклу изнутри приплюснулось чье-то лицо, тотчас отпрянуло, и через минуту послышался стук засова.
– Илюха? – спросил старушечий голос.
Илья вместо ответа заворчал на лошадь и стал распрягать ее, позвякивая уздой.
– Кого везешь? – снова спросила старуха.
– Корреспондента.
«Говорят, как о мешке с мукой», – обиженно подумал Груздев. С трудом переставляя затекшие ноги, он полез на крыльцо, вошел вслед за старухой в сени, и там его густо обдало духом скотного двора.
– Одежку-то мокрую оставь тут, – ласково сказала старуха. – Ужо я высушу.
В кухне Груздев оглядел себя в маленькое туманное зеркальце. Веки у него покраснели, волосы слиплись, а щеку пробороздили потеки красноватой грязи. Безобразная, с провалившимся безгубым ртом, но приветливая и добрая старуха заметила, что гость хочет умыться. Она налила в глиняный рукомойник теплой воды, от которой у Груздева приятно заломило озябшие пальцы, и уходя за чистым полотенцем, сказала:
– Мойся, холься на доброе здоровье.
Вошел Илья. Теперь, когда тень от капюшона не падала ему на глаза, они потеряли разбойный блеск и смотрели с простоватой доверчивостью.
– А где же Надежда? – спросил он старуху.
Та, вздувая самовар, нехотя проворчала:
– Где ей быть? На посиделки ушла.
С Ильей у нее, очевидно, установился совсем иной тон – по-свойски строгий и незлобиво-ворчливый.
Пока хозяйка собирала ужин, а Илья ходил за водкой, Груздев с любопытством осматривал кухню, горницу, заглянул в боковушку, где возвышалась, вся в кружевах, широкая кровать с целой горой розовых подушек, и потрогал струны висевшей на стене гитары с большим алым бантом на грифе.
– Умеете играть?
Груздев отдернул руку и оглянулся. В горнице, заплетая перекинутую на грудь толстую блестяще-черную косу, стояла девушка, и потому, что она не улыбалась, а глаза ее смотрели из-под сросшихся бровей твердо и холодно, Груздев решил, что гитару трогать нельзя.
– Извините, – смущенно пробормотал он.
– А чего ж, играйте, если умеете, – сказала девушка. – Никому не заказано.
– А вы умеете? – осмелев, спросил Груздев.
– Я-то? Играю…
Какая-то ленивая, даже вялая грация сквозила в ее протяжном голосе, в медленном взмахе густых ресниц, в плавном движении, которым она не перебросила, а переложила на спину свою тяжелую косу. Облик ее вполне совпадал с тем обликом деревенской красавицы, который априорно сложился в представлении Груздева – именно коса, смуглый румянец, крепкие ноги в хромовых сапожках и высокая грудь были ее обязательными признаками.
Ужинать сели в горнице. Груздев со страхом посмотрел на полный стакан водки, налитый ему Ильей, но чтобы не показаться перед Надеждой хлюпиком, зажмурился и лихо вытянул все до дна. На его подвиг никто не обратил внимания. Это не понравилось Груздеву, и он решил во что бы то ни стало отличиться еще раз.
– Утром не проспи, надо пораньше выехать, – начальственным тоном сказал он Илье.
Но тот, ловя вилкой огурец в сметане, только неопределенно мотнул головой и с полным ртом промычал:
– Коа шева шить ам…
Что должно было означать «Какого лешего спешить нам?..»
Надежда сняла гитару; атласный бант мелькнул у ее плеча и, точно крупный алый цветок, зажег смуглую красоту девушки новым, романтически-странным светом.
– Вы похожи на Радду, – сказал охмелевший Груздев.
– Я читала. Ведь вы про цыганку из рассказа Горького?
Она впервые засмеялась, не то польщенная этим сравнением, не то обрадованная тем, что правильно угадала его источник.
– Тебя, бабка, в молодости, знать, цыган догнал, – неуклюже пошутил Илья, но это, вопреки ожиданию Груздева, не вызвало среди женщин никакого замешательства.
Надежда запела. У нее был сочный, грудного тембра голос, но петь она не умела. На Груздева ее пение оказало возбуждающее действие. Ему сразу захотелось разгула, пляски, рискованных приключений, а когда Надежда пропела слова «Кто же завтра, милый мой, на груди моей развяжет узел, стянутый тобой?» – и при этом коротко взмахнула мохнатыми ресницами, то эти слова зазвучали для Груздева каким-то призывом.
В это время старуха вышла, поманив за собой Илью.
«Неужели нарочно» – мелькнула у Груздева догадка.
Он подвинулся к Надежде и потрогал ее тяжелую прохладную косу.
Девушка не протестовала, только чуть приподняла брови, словно спрашивала: «Что же дальше?» И тогда Груздев, хмельной и взвинченный гитарным надрывом, тихонько повлек ее к себе.
– Вы с ней не балуйте, – сказал Илья, неожиданно появляясь в горнице с самоваром и бухая его на стол. – Во-первых, не такой она статьи баба, а во-вторых, у меня тут сурьезные дела с ней. Я же вам объяснял по дороге.
Сказано это было не зло, не угрожающе, а наоборот – миролюбиво, с доброжелательным внушением, но Груздев все-таки испугался.
За чаем, не стесняясь присутствия постороннего человека, Илья и Надежда говорили о своих «сурьезных делах». Она сразу показалась как-то взрослее, озабоченнее, когда с невеселой усмешкой на смуглых губах, сказала Илье:
– Много уж про это думано, парень… Люб ты мне, а боязно за тебя идти… Кто ты? Мужик. Было бы возможно окрутить меня по старому обычаю, без согласия, – ты бы не задумался, пошел на это. Бить, знаю, станешь, потому веришь: любить крепче буду. Со двора не пустишь: не резон, дескать, замужней бабе по клубам, по кружкам трепаться. И никакой жизни у нас не получится, себя только изломаем. Мужицкая у тебя душа, Илюха, старого завета.
– Мужицкая, – усмехнулся Илья. – И сама ведь не барыня.
– Ты за это слово обиды не имей. Я по-другому его понимаю, – без прежней ленцы в голосе сказала Надежда. – Вот коли решу, что сумею переломить тебя, что моя возьмет, тогда выйду. А пока еще не решила, не чувствую силы… Вот и весь разговор.
Она привернула в лампе фитиль и ушла в боковушку, а Илья еще долго сидел, опустив голову и в задумчивости поглаживая крышку стола шершавой рукой.
Утром, едва проснувшись, Груздев почувствовал, что совершил вчера что-то омерзительно-гадкое. Илья опять был неразговорчив, хмур и, запрягая лошадь, ругал ее змеем, драконом и недоноском.
«Презирает», – подумал Груздев, стараясь не смотреть вознице в глаза.
Ему хотелось поскорей уйти от людей, которые были свидетелями его вчерашнего поведения, и он заторопил Илью ехать.
Еще не видимое за стеной леса вставало солнце. Но ветер, растягивая по небу узкие полосы облаков, последышей грозы, дул с прежней силой, и могучие сосны издавали какое-то шипение, словно высоко над головой струя пара вырывалась из узкого отверстия.
Впереди опять открылся овраг. Опасаясь, как бы лошадь не понесла, Груздев соскочил с телеги и, цепляясь за колючие кусты можжевельника, съехал по глиняному откосу.
– Сидели бы уж, – сказал внизу Илья. – Калоши-то вон как измарали. Скиньте, я вымою.
«Конечно, презирает», – подумал Груздев, пережив унизительное сознание своей беспомощности и вообразив, какой жалкий, маленький и подавленный стоит он перед Ильей.
Он стряхнул с ног тяжелые комья глины вместе с галошами и сам стал обмывать их в луже на дне оврага.
Село, куда они пробирались, оказалось совсем недалеко. Видно, Илья не без своекорыстной цели остановился на ночлег в соседней деревне.
– Куда вас везть? – спросил он, когда въехали на широкую, как поле, улицу села с пожарной каланчой посредине. – При сельпо у нас гостиница имеется. Может, туда?
– Вези туда, – нетерпеливо сказал Груздев.
В гостинице – новой пятистенной избе с широкими окнами и запахом свежих бревен – стояло с десяток коек, но постояльцев не было. Илья громко крикнул кому-то в сенях:
– Давай-ка, мать, засамоваривай!
И ушел, а Груздев, оставшись один, повалился вниз лицом на койку и крепко, до боли в зубах, закусил подушку. Если б можно было вычеркнуть из жизни этот день!
Отсчитывая длинные-длинные минуты, постукивал маятник. Груздев лежал и чувствовал, что нет больше мужественного, небрежно остроумного, уверенного в себе молодого человека, что этот привлекательный образ, легковерно созданный собственным воображением, лопнул, как мыльный пузырь, и что пришел тяжелый час, когда надо безжалостно и строго спросить себя: кто ты есть?..
Драма
В пять часов утра директорская дача вдруг наполнилась стуком дверей, собачьим лаем, шарканьем ног, и негодующий бас домработницы Нюты возвестил:
– Андрей Поликарпович, вставайте! К вам гости приехали.
«Какие-нибудь подгулявшие друзья-рыболовы… Черта бы им поперек дороги», – подумал хозяин, натягивая пижаму, и вышел из кабинета.
Было одно мгновенье непроизвольной радости, когда Андрей Поликарпович едва не бросился навстречу гостю, стоявшему в дверях столовой, но вдруг на столь же мимолетный срок ему показалось, что он совсем не знает этого человека. Незнакомыми были и впалый рот, и нос, слегка припухший и покрасневший, и жирная грудь, обтянутая узким пиджачком – словом, все, чем каждого с безжалостной щедростью награждает время, и все-таки это был несомненно он, генерал Пухов, старый боевой друг.
Растерявшись от столь быстрой смены противоположных чувств, Андрей Поликарпович кисло улыбнулся и шагнул вперед. Они троекратно поцеловались со щеки на щеку.
– У тебя три собаки? – спросил генерал, обнаруживая этим вопросом, явно неуместным в первую минуту встречи, свое волнение. – В вашем городе чертовски трудно достать такси… Я ведь к тебе всем семейством… Порыбачим с тобой… Ты познакомься с ними, вот они идут… Этот – старший, а эта – младшая, познакомьтесь.
Дети Пухова – Максим и Лариса – пожали хозяину руку. У самого Андрея Поликарповича, который женился поздно, была только трехлетняя дочь, и теперь он с доброй завистью смотрел на детей генерала, казавшихся ему, в обаянии своей молодости, такими безыскусственно красивыми, чистыми и полными какой-то грациозно-упругой силы.
– А вы роскошно живете, – сказал Максим, молодой человек с длинным красивым лицом и крупными прядями темных волос, падавшими ему на лоб и уши. – Батьке, когда он выходил в отставку, дали гектар земли, а он, черт, даже сарая до сих пор на ней не поставил.
– Не понимаю, – развел генерал руками. – Государство, сам, Андрюша, знаешь, не обижает нас, старых боевых коней, пенсию я получаю порядочную, а денег все время нет. Иногда даже боржом мне не на что купить. Жить, что ли, не умеем…
– Это давно известно, – усмехнулась Лариса.
Максим, стоявший у открытого окна, вдруг лег животом на подоконник, перегнулся и сломил большую ветку цветущей липы.
У Андрея Поликарповича перехватило дыхание. Эти деревья он сам посадил вокруг дачи, пятый год заботливо ухаживал за ними – подрезал, опрыскивал – и теперь, при виде сломанной ветки, ему захотелось крикнуть: «Что же вы делаете!» – но он сдержался.
– Восторг как пахнет, – сказал Максим, пряча лицо в буйный липовый цвет, обрызганный росой. – Лорка, понюхай.
Лариса с усмешкой отодвинула ветку.
– Ты, я знаю, способен ржать весной на сирень, а осенью хныкать над опавшими листьями. И в письма не брезгуешь класть засушенные цветочки.
– Ты дура, – без обиды сказал Максим.
– А где же Людмила Ивановна? – всполошился вдруг генерал. – Люда, где же ты?
– Нет-нет, я не покажусь, пока не приведу себя в порядок, – послышался из кухни голос, принадлежавший, очевидно, женщине молодой, здоровой и крупной.
Андрей Поликарпович понимающе усмехнулся.
– Ну, нам здесь делать нечего, старина. Пойдем-ка в сад, – сказал он, обнимая генерала за плечи.
Когда в прихожей они проходили мимо зеркала, Андрей Поликарпович невольно задержался и сравнил свою тяжеловатую, но еще стройную и осанистую фигуру с вислоплечей фигурой генерала.
«А все-таки и он смотрел на меня так, словно не узнал», – кольнула его ядовитая мысль.
Друзья вышли в сад и сели там у врытого в землю стола. Разговор v них явно не клеился. Андрею Поликарповичу мешало быть непринужденным то, что мысль, причинившая ему минутную боль у зеркала, вдруг стала обрастать множеством подкрепляющих доводов, и теперь он уже чувствовал какую-то разъедающую тревогу, требующую немедленного выяснения истины.
Выручила Люстра – английский сеттер. В то время, как гончие Угадай и Заливай, не отличавшиеся деликатностью и утонченностью натур, совершенно игнорировали гостя, она, с присущей ее породе нежностью, тронула руку Пухова холодным носом и, ожидая ответной ласки, положила голову к нему на колено.
Заговорили о собаках.
– А ты помнишь, как баловались охотой, когда стояли под Оршей? – спросил генерал. – Помнишь мою Сильву? Говорят, у каждого охотника бывает единственная собака, которая всеми статьями ему по душе. У меня вот Сильва была такой.
– Ну и врешь! – возмутился Андрей Поликарпович, непримиримо щепетильный во всем, что касалось собак и охоты. – Твоя Сильва была вислогуза и к тому же ленива, глупа и прожорлива.
– Верно. Дрянь собака, – серьезно сказал генерал. – Все на расстоянии-то кажется лучше, Андрюша… Помнишь, как отсиживались по болотам в окружении? Темень, мокрота, стужа. Уткнемся мы с тобой лбами над котелком и хлебаем сухарное месиво на ржавой водичке. А вот теперь вроде уж и жалко тех дней.
– Нашел, о чем жалеть! Помнишь моего ординарца Аверьяна Галаева? Ну, матерый такой русачище с усами? Тот, бывало, говорил: приду с войны и все, что похоже в избе на ружье, поломаю. Пусть – ухват, и тот поломаю.
– Я не о том. Кто станет жалеть о войне! – сказал генерал. – Не понял ты меня…
– Эй, друзья-ветераны, завтракать! Где вы там? – послышался за деревьями голос с какой-то звонкой молодой задоринкой.
Из плотной зелени сада вынырнула маленькая стройная женщина в спортивных тапочках, на босу ногу и протянула генералу руку.
– Здрасте! Нина.
– Жена, – подсказал Андрей Поликарпович.
– Извините, а по отчеству? – спросил Пухов.
– Да не надо, – засмеялась она. – Меня по отчеству только мужнины подхалимы зовут.
Генерал тоже рассмеялся и, вдруг как-то по-молодому щелкнув каблуками, предложил Нине согнутую в локте руку.
За столом уже все были в сборе. Зрительный образ Людмилы Ивановны вполне совпадал с предположением Андрея Поликарповича. Молодая, красивая сочной и грузной красотой тридцатипятилетней женщины, она монументально возвышалась над станом, помогая Нюте перетирать чашки.
Андрею Поликарповичу невольно подумалось, что Людмила Ивановна имеет какое-то неодолимое пристрастие ко всяким вещам – так ловко, споро, почти упоенно ощупывали ее пухлые пальцы эти пузатенькие чашки. И на ней самой было много вещей, кажется, очень дорогих, но все до последнего камешка вопило о такой непроходимой безвкусице, что было больно, жалко и удивительно смотреть, как обезобразила себя эта красивая женщина.
– Муж так много рассказывал мне о вас, что однажды вы даже приснились мне, – улыбнулась она Андрею Поликарповичу.
– Это к деньгам, – насмешливо сказала Лариса.
Людмила Ивановна была второй женой генерала, и дети, как заметил потом Андрей Поликарпович, не уважали ее, называли между собой Людкой, а Лариса открыто дерзила ей.
– А ты, я вижу, без предрассудков, – пошутил генерал, постучав ногтем по графину с водкой.
Андрей Поликарпович покачал головой.
– Это Нина по случаю твоего приезда расстаралась. А мне нельзя, – он многозначительно показал на сердце. – Да к тому же сегодня я должен в горком на разнос ехать.
– Браво, Смаковников! – ядовито сказала Нина. – Пусть он постится, а мы с вами выпьем, товарищ гвардии генерал.
Андрей Поликарпович смутился и подвинул жене свою рюмку, чтобы она налила ему виноградного вина.
– Ну, а мы, отец, конечно, этой выпьем, – сказал Максим, из предосторожности завладевая графином.
Завтрак еще не кончился, когда за окном пропела сирена автомобиля.
– «Победа», – безошибочно определил Максим.
– Ну, оставляю вас на попечение Нины, – поднялся Андрей Поликарпович. – Располагайтесь как дома… К счастью, теперь дольше шести не заседают, разнос мне учинят короткий.
Гости не стеснялись и действительно расположились как дома. Людмила Ивановна заняла все шкафы своими платьями, Максим несколько раз в день подходил к буфету за водкой, а генерал спросил вечером Андрея Поликарповича:
– Ты, Андрюшевич, где спишь? В кабинете? Я с тобой лягу, поболтаем.
С тех пор, каждую ночь, сидя в трусах на диване, поглаживая жирную грудь, он много говорил о прошлой войне, о полузабытых людях, о речках, высотах, населенных пунктах. Его речь, состоявшая из вялых восклицаний: «А под Ельней! А под Смоленском! А под Брестом!» – была невыносимо однообразной – менялись только географические названия, – и с тоской вслушиваясь в нее, Андрей Поликарпович думал:
«Почему ты не спросишь меня о заводе, о моей работе, о моей семье?.. Тебе чуждо и неинтересно то, чем живу я, – зачем же ты здесь?..»
Стояли теплые ночи, такие тихие, что было слышно, как дышат на станции паровозы. В синем воздухе за окном иногда мелькали какие-то быстрые тени – не то летучие мыши, не то ночные птицы, – и жизнь сада от этого казалась таинственной и немного жуткой. Засиживаясь почти до рассвета над своей диссертацией, Андрей Поликарпович любил постоять у окна. Этот редкий час свободного одиночества был нужен ему, чтобы, избавясь от инерции повседневности, заглянуть в себя, как нужно, наконец, осмотреться путнику, который долго шел и которому долго еще идти.
Теперь привычный ход жизни был нарушен. По вечерам, напившись за ужином водки, генерал и Максим долго, бестолково и неинтересно спорили о достоинствах автомашин заграничных марок, Людмила Ивановна терзала Нину рассказами о своих связях в московских магазинах, Лариса, скучая, бросала иногда короткую насмешливую фразу. А ночью Андрея Поликарповича ждала болтовня генерала…
Накануне выходного дня Нина сказала:
– Смаковников, вечером идем все на остров. Это же преступление – сидеть в такую погоду дома. Ночи комариные, спать не придется и наплевать.
– Я согласен! – встрепенулся генерал.
Людмила Ивановна, Максим и Лариса отказались.
В эти июньские ночи полоска зари не гасла на горизонте, сообщая небу тусклое зеленоватое сиянье. Река словно остекленела, лишь на середине мелкой протоки, отделявшей остров от берега, где торчала замытая песком коряга, вода была взрыта грядами мелких волн. Справа, на высоком берегу сквозь прозрачный туман зыбились огни города, но шум его не доходил сюда, и незримая жизнь острова наполняла тишину своими таинственными звуками. Их было много, этих шорохов, вздохов, криков, слитых в один неясный вибрирующий гомон, и в нем различались только надтреснутый скрип коростеля да необыкновенно чистый голос какой-то птички, настойчиво твердившей свой полный трагического сомнения вопрос: «Как жить? Как жить? Как жить?..»
Андрей Поликарпович лежал у тлеющего дымного костра, лениво отгоняя веточкой комаров. Нина сказала, что знает место, где ночью под корягами стоят налимы и теперь, за кустами слышалось фырканье Пухова, плеск воды, чавканье топкого берега, а голос Нины повелительно звал:
– Вылезайте сейчас же, простудитесь. Вы неуклюжий и ничего там не поймаете.
Андрей Поликарпович не мог не заметить, как оживлялся всегда генерал в присутствии Нины, но не давал себе труда доискиваться причин такого превращения, и сейчас, слушая возню за кустами, думал с раздражением: «Ребячится старик…»
И вообще раздражение стало основным чувством Андрея Поликарповича к Пухову. Его раздражала и книга, дочитанная Пуховым в несколько приемов до шестой страницы, и то, что гость надевал его домашние туфли, сорил табачным пеплом на письменном столе, пил много водки, но больше всего ему была ненавистна своя подлая, неискренняя, отравленная унизительным притворством жизнь, которая началась с приездом генерала…
Из всех Пуховых благосклонностью хозяина пользовалась лишь Лариса, но и то до некоторых пор. Вначале Андрею Поликарповичу нравился её критический взгляд на свою семью, но вскоре он почувствовал, что взгляд этот охватывает более широкую область и отдает нигилизмом. Присматриваясь к ней, Андрей Поликарпович вспоминал свои юные годы. Когда он получал комсомольский билет, начальник отделения милиции тут же вручил ему наган и заставил расписаться в том, что за ним закрепляются винтовка с шестизначным номером, который следует знать на память, и конь по кличке «Вихрь». А эта девятнадцатилетняя девушка, лежа в гамаке и окидывая сад скучающим взглядом, говорила с усмешкой:








