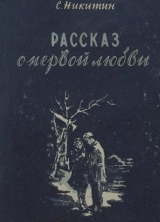
Текст книги "Рассказ о первой любви"
Автор книги: Сергей Никитин
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Заколоченный дом
На выезде из города Степан Вавилов остановил попутную машину, закинул в кузов чемодан, мешок и коротко приказал дочери:
– Садись, тумба.
Антонина – не по летам крупная девка, с толстым некрасивым лицом – тяжело перевалилась через борт кузова и втиснулась между железной бочкой и бумажным кулем с алебастром.
– Трогай!
Степан стукнул ладонью по крыше кабины.
С обеих сторон вдоль дороги потянулись длинные ряды стандартных домов окраинного поселка, потом пронесся зерновой склад, похожий на огромный товарный вагон, и, наконец, мелькнула последняя веха города – круглая водокачка, каруселью повернувшаяся перед летящей машиной.
Степан оглянулся на город. Он весь пылал холодным огнем осеннего солнца, отраженным сотнями окон, и все эти разобщенные огни, по мере удаления, сливались в одно сплошное зарево, за которым вскоре не стало видно домов, только фабричная труба долго еще маячила над ним, словно перст, указующий в небо.
– Пой-е-ехали! – весело сказал Степан и дернул Антонину за конец платка. – Чего нахохлилась-то? Домой ведь едешь, радоваться должна… И в кого только ты уродилась такая квелая? Скажи мне, пожалуйста!
Антонина подобрала конец платка.
– Чего пристали-то, – вяло откликнулась она. – Радуйтесь, если хотите, а меня оставьте.
– Это ты отцу-то такие слова! – изумился Степан. – Ну, доченька, ну – уважила, ну – спасибо тебе!
Он качал головой, причмокивал, вздыхал, но было видно, что изумление его притворно, и он просто-напросто балагурит.
По натуре своей Степан был из тех, кто не может в одиночку переварить ни горя, ни радости. Ему и теперь хотелось излиться перед кем-нибудь, но зная, что Антонина не поймет его, он только махнул рукой и вздохнул:
– Эх, ты, колода…
Впрочем, вряд ли Степан сумел бы объяснить, что так волнующе радовало его. Ведь он пускался в неизвестное, а там, позади, в городе, оставалась спокойная, хотя немного и одинокая, жизнь бобыля с удобной квартиркой, с хорошим заработком, с неторопливым досугом за кружкой пива в кругу таких же положительных, как он сам, фабричных мастеров, и даже с тайным намерением жениться когда-нибудь на здоровой домовитой женщине, которая убаюкала бы его грядущую старость. Чего бы, казалось, еще нужно человеку?
Вначале так и было, что Степан встретил в штыки попытку нарушить эту жизнь. Когда у него в квартире появился маленький плотный человек в клеенчатом плаще, назвавшийся председателем колхоза в Овсяницах Коркиным, Степан принял его настороженно и недружелюбно. Крепыш с круглой, начисто облысевшей головой, Коркин ни секунды не оставался на месте, бегал по комнате, присаживался то на край стола, то на подоконник, то на валик дивана.
«Эко тебя перекатывает», – подумал Степан, а вслух спросил:
– Агитировать пришли? Ну-ну, послухаем.
И прочно уселся на табуретку у стола, подперев голову кулаками.
– Как же вышло, что ты от земли-то оттолкнулся, Степан Григорьич? – спросил Коркин, стараясь заглянуть под косматые брови Степана.
Степан насупился. Когда-то пришлось ему покинуть родные Овсяницы, унося в душе незаслуженную обиду, и теперь, по обыкновению, он вдруг почувствовал потребность высказаться.
– Давно это было, – сказал он. – После войны, как пришел я с шестью орденами да с партийным билетом, так сразу меня председателем выбрали. Сам секретарь райкома приезжал и рекомендательную речь обо мне говорил. Очень похвальная речь была. А потом этот же секретарь постарался и прогнать меня с председателей… Очень он был, на мой взгляд, ошибающийся в колхозном деле человек. О колхозе помнил, пока тот заготовки не выполнил, а потом ни тебе совета, ни помощи, ни сочувствия. Решил я тогда самостоятельность проявить. Созвал колхозных стариков, открыл заседание правления и шумели мы до самых петухов. И так несколько ночей подряд. Составили, наконец, точный план, как в два года поднять колхоз до передового уровня. Старики рассказали, на каких землях у них издавна хорошо греча шла, на каких – рожь, на каких – овсы. Посоветовали гусями заняться, поросят на заготовки постарше сдавать, луга у соседнего колхоза арендовать. Считаем мы день, считаем ночь, каждую копеечку на зуб пробуем, а я думаю – наконец-то у мужиков башки затрещали, дело, значит, будет. И решил я от нашего плана не отступать ни чуть-чуть. Голову, думаю, за него сложу… И едва не сложил, милый человек. Как водится, прислали мне из райсельхозотдела свой план, я его – в стол, потому, вижу, написано там по незнанию наших условий не то, что нужно. Конечно, с начальством у меня вышли из-за этого крупные разногласия. И сею-то, мол, я не то, пашу-то не там, и скот-то у меня ест не так, и севооборот-то я нарушил. Тут уж я, по правде сказать, не стерпел и в запальчивости, может, лишнего наговорил – не помню. Короче, оказался я саботажником, врагом передовой агротехнической науки, и с выговором из председателей был сдвинут. Обиделся я тогда крепко. К тому же, жинка в одночасье померла, и подался я с двойной тоски в город. Работаю вот на фабрике, обжился, привык… Так и от земли оттолкнулся…
Коркин опять сорвался с места и забегал по комнате.
– Это правда, правда, – быстро и сбивчиво заговорил он. – Все, к сожалению, правда… Вот, ведь, черт возьми, как глупо можно отпугнуть хорошего, настоящего, инициативного работника, истинного хозяина… – Он присел и снова попытался заглянуть Степану в глаза. – Ну, а теперь-то, Степан Григорьевич?
– Чего теперь?
Степан коротко сверкнул взглядом и снова погасил его под косматыми бровями, сутулясь над столом.
– Теперь много из того, что нам мешало, сметено. – Коркин для большей наглядности шаркнул по столу ребром ладони, точно сбрасывая сор. – Начисто сметено, так и знай, Степан Григорьич.
– Не все, – тяжело сказал Степан. – Ты бы вот походил в своем колхозе по избам, поинтересовался… Небось, заметил бы, что в тех семьях, где один-двое работают в городе, есть и приемник, и горка с красивой посудой, и прочие признаки деревенского благополучия, а в чисто колхозных семьях их встретишь реже. Понимаешь, к чему я говорю это?
– Отлично понимаю, – усмехнулся Коркин. – А ты бы, Степан Григорьич, тоже побывал в своем колхозе, поосмотрелся бы. В нынешнем году наш трудодень здорово потяжелеет, это всем видно, и некоторые отходники уже заколебались. И скоро, поверь, ездить за двадцать пять километров в город на работу не будет для них никакого смысла. Да и те, кто, вроде тебя, обосновался здесь, потянутся к нам. Я вот собрал адреса бывших колхозников, буду ходить, агитировать… К тебе для почину пришел… И знаешь, что я скажу тебе? Как бы там ни было, а сидеть в стороне – дело не геройское. Никто за нас хорошую жизнь не сделает, как подарочек к празднику. Наше это дело – ворочать жизнь наново. И повернем теперь, вот увидишь!
Незаметно для себя Степан поддался ревнивому чувству к Коркину: чужак, горожанин, а председательствует в его, овсяницынском колхозе.
– Ладно, кончим этот разговор, товарищ Коркин, – сказал он вслух. – Ты больше обо мне не старайся. Надумаю – сам явлюсь. Будь пока здоров.
А когда закрыл за Коркиным дверь и, крепко ероша волосы, зашагал в раздумье по комнате, все вдруг в нем возликовало от одной, окрыляюще отрадной мысли: «он стал нужен, о нем вспомнили и зовут обратно…»
И сейчас же его, как всегда, потянуло к людям – поделиться своей радостью. Нахлобучив шапку, он пошел в столовую, где обычно собирались знакомые мастера, сел к ним за стол и веско, спокойно, непреклонно заявил, как о деле уже решенном:
– А я, мужики, в деревню еду.
* * *
Теперь, расплачиваясь с шофером, он не преминул завести об этом разговор и с ним.
– На, милый человек, червонец, пользуйся… Я, между прочим, домой перебираюсь, в деревню, насовсем.
– Сейчас многих посылают, – сочувственно отозвался шофер.
– Посылают! – обиделся Степан. – Я, милый человек, добровольно. Потому имею на это причины.
Он встал на подножку грузовика, намереваясь поведать шоферу о причинах, побудивших его вернуться в деревню, но тот уже включил мотор и, давая газ, двусмысленно пожелал Степану:
– Смотри, не сорвись…
Машина умчалась по шоссе, а Степан и Антонина свернули на широкую луговую тропу, ведущую к реке. Там им пришлось долго ждать перевозчика. Пойму уже накрывали влажные осенние сумерки. Они приходили без теней, без красок – монотонно-серые, мутные, – словно рождались из темной воды реки и постепенно поднимались все выше и выше, к небу, которое долго еще оставалось светлым. Пойма была по-осеннему нема, лишь неотчетливая музыка доносилась с противоположного берега, где на взгорье, сквозь поредевшие кусты виднелась крыша дома отдыха.
– Се-о-ом-ка-а! – который раз взывал Степан охрипшим голосом и начинал нетерпеливо шагать вдоль берега по хрустящему песку, который в сумерках казался зеленоватым.
– Не иначе – в дом отдыха закатился, стервец, – ворчал он. – Теперь не жди его раньше ночи, когда заводские со смены пойдут, уж это определенно.
Больше чем потерянного времени, Степану было жалко своей радости, которая постепенно уступала место раздражающему ощущению чего-то неустроенного и неправильного. Он остановился против Антонины. Вот она сидит на огромном чемодане с висячим замком и угрюмо смотрит в песок – вялая, тупая и ко всему, кроме еды, равнодушная, – словно не его плоть и кровь. Лишь суровой родительской властью удалось оторвать ее от теплого места домашней работницы в семье престарелых, супругов – учителей, которые по природному добросердечию и застенчивости старались не обременять ее работой, и теперь Степан, ощутив внезапный прилив горечи за свое детище, уже без прежнего балагурства обрушился на дочь:
– Чего, спрашиваю, нахохлилась-то, а? Все твои мысли насквозь вижу, колода ты эдакая. Сказано – будешь со мной работать, а о другом и думать забудь. Ясно?
– Смотрите, батя, огонь какой-то на воде, – поднимаясь, сказала Антонина.
Вверху, кидая на прибрежные кусты неяркий отсвет, действительно тлела на воде крупная точка огня. Она медленно плыла по течению, то разгораясь, то снова бледнея и съеживаясь, до маленького рыжеватого пятнышка на темном фоне воды и кустов.
– С острогой едут… – полушепотом сказала Антонина.
– Нет, – так же тихо отозвался Степан. – Свет жидковат для остроги… Наверно, горящий пень столкнули.
Примирённые этой общей для них загадкой, они сели на чемодан, и Антонина прижалась к отцу плечом, жарко дыша ему в ухо.
Огонь медленно приближался.
– Плот, – сказала, наконец, более зоркая Антонина. – И человек на нем. Видите, батя?
Через некоторое время и Степан различил сгорбленную над огнем фигурку, освещенный скат палатки и еще какие-то угловатые предметы – не то ящики, не то поленницы дров.
– Эй, земляк! Дровишками разжился, что ли? – крикнул Степан, когда плот поровнялся с ними.
Человек, подняв голову, вгляделся в темный берег, потом негромко спросил:
– Закурить есть? С утра без табаку…
– Причаливай, закурим.
Степан принял поданый конец шеста и подтянул плот к берегу.
– Похоже – не дровишки, – сказал он, разглядев наваленный на плоте домашний скарб: стулья, табуреты, кухонный стол, два сундука и сложенную кровать с никелированными шишками. – Весь дом тут, как есть.
Человек, видно, не в шутку стосковался по табаку. Сначала он свернул толстенную цыгарку, с причмокиванием разжег ее и только потом ответил:
– В город перебираюсь. Избу разобрал и – плыву. Оно хоть и долго, зато дешево.
– Та-ак… Значит, оттолкнулся от земли? – спросил Степан.
– А что ж! Сыновья мои – в городе, на хорошей работе. Один – стеклодув, другой – литейщик. Хочу к ним прилепиться. Мне уж пора внуков нянчить.
– Ты сам еще работник, не иждивенец какой-нибудь, – сказал Степан, оглядев коренастую, с крутыми, сильными плечами фигуру собеседника. – Погодил бы в няньки-то записываться, милый человек.
– Ты говоришь – земля, – усмехнулся тот. – Я тебе по совести скажу, почему я оттолкнулся от нее. Не больно сытно она в нашем колхозе кормит. В прошлом году на четыреста трудодней отсыпали мне зерна – в кармане унесешь. Вот как нынче земля-то. Ну, и пришлось попоить председателя три дня, справку о выбытии из колхоза – в карман и – прощай.
– Так нельзя, – сказал Степан и, вспомнив слова Коркина, прибавил: – Кто же за тебя хорошую жизнь в твоем колхозе будет делать?
Но собеседник, поблагодарив его за табак, уже прыгнул на плот и отпихнулся от берега шестом. Рыжеватая точка огня поплыла вниз по темному зеркалу реки, а Степан с прежним ощущением какого-то непорядка и неустроенности зашагал по хрустящему песку.
Вскоре к перевозу стали подходить рабочие с чугунолитейного завода, с песчаного карьера, с фабрики – все те, кого подобно магниту притягивал к себе город из окрестных деревень. Семка – грубый крикливый парень в обвислом пиджаке – пригнал паром. На том берегу от причала, словно лучи, разбегались дороги, дорожки, тропинки, и по ним в тусклом свете звезд потянулись цепочки людей, удивительно похожих в это время друг на друга, потому что каждого из них сопровождала короткая, сутулая тень, и каждый нес в руке «авоську», набитую буханками хлеба.
«Экий круговорот получается, – подумал Степан. – Из деревни хлеб – в город, а из города – обратно в деревню… Дела!»
Подходя к родным Овсяницам, Степан незаметно для себя прибавил шагу. Деревня уже спала. Отражая холодный свет ночи, слепо поблескивали окна изб; ленивый лай сонных собак недружно сопровождал шаги ночных прохожих.
У своей избы Степан на минуту задержался. Наглухо заколоченная, она была темна, как сарай; крыльцо провалилось и вокруг него буйно разрослась полынь, в которой самозабвенно орали ночные коты.
За спиной у Степана шумно вздохнула Антонина. Ему вдруг стало жалко дочь, он обернулся и легонько потрепал ее по плечу.
– Будет уж киснуть-то. Пойдем, приютимся пока у Палаги.
Вдовая Степанова сестра Палага жила по соседству, в крепкой избе кондового леса, оставленной ей покойным мужем – хозяином хитрым, рассчетливым и себе на уме. Эти черты характера переняла у него и высокая, костлявая Палага, любившая жаловаться на всякие горести – мнимые и действительные. Пока Степан и Антонина пили молоко, она успела рассказать им, что по ночам у нее ломит поясницу и стынут ноги, что дочь ее Варька совсем отбилась от рук, что новый председатель, приехавший из города, заводит строгие порядки и будто бы хочет отменить на уборке картофеля дотацию.
Отмена дотаций особенно беспокоила Палагу.
– Ты, Степушка, попеняй ему, – попросила она. – Поскольку ты, слыхать, нашим бригадиром будешь, ты уж ратуй за нас перед ним. Не давай в обиду.
Степан ухмыльнулся про себя. Ему была знакома эта извечная забота людей в слабых колхозах, где старались работать на уборке картофеля не за трудодни, а за «дотацию», то есть за десятую часть убранного, и если теперь Коркин решился отменить ее, значит, действительно надеется на трудодень.
– Ты, Палага, не жадуй, это – к хорошему, – уверенно сказал он. – На трудодни получишь.
Из горницы в это время вышла Варька – девушка лет шестнадцати, с темно-рыжими волосами, ловкая и подвижная, словно огонь. Не смущаясь тем, что на ней была лишь сатиновая юбка да кружевная сорочка, открывавшая ее просмугленные солнцем плечи, она подскочила к Степану и радостно засияла своими ярко-зелеными русалочьими глазами.
– А, дядя Степан! Я думала, мне снится, что ты приехал, ан в самом деле.
Варька была любимицей Степана, у которого кровное детище не удалось ни красотой, ни умом, ни нравом.
– А я тебе подарок привез, – сказал он потеплевшим голосом.
– Подарок! – вмешалась Палага. – Ты бы вместо подарка помог ей на фабрику поступить. Спит и видит девка, как бы туда уйти.
– Ну, это вы бросьте, – твердо сказал Степан. – Будем все в колхозе работать. Такой нынче порядок.
– Дядя Степан, я же девка, мне нарядиться хочется. – Варька подсела к нему и заглянула, в глаза. – Наши, которые на фабрику пошли, посмотри, как оделись… В городе живут. А я что?
– И тут заработаем, – уверенно сказал Степан.
– Знаю, заработаем, – задумчиво согласилась она. – И буду я, как клуша, сидеть на своих сундуках. У нас тут и выйти-то некуда.
– Клуба нет, кино в овощехранилище кажут… – словно эхо отозвалась Антонина.
– Ну и врешь, толстая! – вскипая вдруг неподдельной обидой, крикнула Варька. – В. овощехранилище уже не кажут. Его под засыпку приготовили… Теперь в сельсовете кажут.
Степан рассмеялся и, обняв Варьку за плечи, притянул к себе.
– Погоди, Варюха, дай на ноги встать, развернуться – все у нас будет.
Он поймал ясный, доверчивый взгляд и отвел глаза. Обнадеживающее слово сорвалось нечаянно, но так или иначе, ответ на него придется держать. Степан посуровел лицом. Там, вдали от деревни, все казалось ему более легким и уже наполовину сделанным, а тут вдруг открылся непочатый край трудной, как подвиг, работы, в которую надо положить немало сил, терпения и сердца. Как звенья одной неразрывной цепи прошли перед ним и Антонина, и встречный плотогон, и рабочие y перевоза, и Варька с ее помыслами…
«Ну, что ж, – решил он, снова вспомнив, слова Коркина. – Кому, как не нам, ворочать, жизнь наново… Теперь повернем».
Утром он нашел в сарае у тетки Палаги старенький зазубренный топор, насадил его на новое топорище и пошел расколачивать свою избу.
Весенним утром
Желтой дымкой тальника окутан май. Еще не цвели сады, не гремела первая гроза, не посеяны яровые, и кумачовый флаг над правлением колхоза, обновленный к Первомаю, еще не побледнел от солнца и дождей…
С утра на крыльце правления сидели двое – молодой парень из соседнего села Венька, по прозвищу Дикарь, и местный колхозник Евсей Данилыч Тяпкин. Оба они по своим делам дожидались председателя, который еще вчера уехал в дальнюю бригаду.
О деле Евсея Данилыча легко можно было догадаться, взглянув на его спутанную бороду, мутные глаза и водянисто-синие оплывы под ними. Конечно, сам он прямо ни за что не выдаст своего затаенного желания и будет уверять, что деньги нужны ему на «карасин», на мыло, на олифу, но всякому, кто хоть немного знал Евсея Данилыча, было без слов ясно, что мужик находится, по его собственному выражению, «на струе» и пришел просить двадцать пять рублей из колхозной кассы, чтоб опохмелиться.
Куря Венькины папиросы, Евсей Данилыч часто поглядывал на свою избу. Делал он это неспроста, а потому, что, во-первых, опасался появления жены, а во-вторых, уж очень ветха была эта изба и, очевидно, говорила что-то неприятное остаткам его хозяйского самолюбия. Печально глядя на мир из-под осевшей крыши двумя мутными окошками, она словно собиралась вздохнуть и тихо пожаловаться неведомому сострадателю: «Тяжело мне, братец…»
И хотя ее ржавая крыша была увенчана высоченной радиоантенной, это отнюдь не свидетельствовало о благополучии в семье Евсея Данилыча, потому что самого приемника давно уже не было.
Однако по антенне можно было судить о том, что Евсей Данилыч знавал и лучшие дни. Теперь она всегда напоминала ему о том времени, когда он считался первым плотником в колхозе, играл топориком, как перышком, и не знал себе равных в искусстве выпиливать узорчатые наличники, которые каждому дому точно открывали широкие, ясные глаза. Тогда работа сама просилась в руки, и дом был – полная чаша. А потом (когда это началось, Евсей Данилыч и сам не углядел) работы стало меньше, получать за нее вовсе ничего не приходилось, и маленькое хозяйство Евсея Данилыча, как и большое – колхозное, быстро пришло в упадок. Другие мужики подались в город, на текстильную, на чугунолитейный завод, на песчаный карьер, а Евсей Данилыч, мужик застенчивый и неходовой, остался в колхозе и захирел совсем.
Вскоре после войны он было воспрянул, но не надолго. Тогда председателем выбрали бывшего фронтовика Степку Вавилова. Тот, казалось, повел дело с умом, а потом вдруг в чем-то не потрафил районной власти и, едва не попав под суд, тоже подался в город.
Сейчас о новом председателе, приехавшем недавно по своей воле из города, на селе опять упорно говорили, что-де больно хорош, что даже вот Степку Вавилова уговорил вернуться в колхоз, но лично Евсей Данилыч пока не видал от него ничего доброго и судить не торопился, желая еще посмотреть, даст он ему сегодня двадцать пять рублей или не даст.
– Вот какие, брат Венька, пироги, – вслух завершил он круг своих мыслей.
Венька ничего не ответил. Он сидел и, кося жгуче-черным глазом на дорогу, думал о своем. От успеха его переговоров с председателем зависело – останется он на все лето здесь, в Овсяницах, или ему придется искать работу в другом месте. Последнее было нежелательным для Веньки по двум причинам: во-первых, Овсяницы были близко от дома, а во-вторых, и это было главным, здесь жила Варька, которая за одну только прошлую зиму из долговязого конопатого подростка неожиданно для всех вымахала в ладную девку с темно-рыжей косой и зелеными русалочьими глазами.
Теперь Венька соображал, как ему лучше подойти к председателю. По слухам он уже знал, что новый овсяницынский председатель – мужик дошлый, копейки из рук не выпустит, а таких выжиг, как он, Венька, насквозь видит. Но с другой стороны, если человек всерьез задумал строиться – без Веньки и его «дикой бригады» ему не обойтись. Вот уже три года в ближних и дальних колхозах эта бригада рядилась строить коровники, телятники, хранилища, рвала за это жирные куши наличными, но работала, надо признаться, на совесть. Так зачем же, думал Венька, отказываться от дела, коли оно кругом, и нашим и вашим, выгодно? Нет, уломает он председателя, как пить дать!
– Вот, Данилыч, – подвел и он итог своим размышлениям.
Так они и сидели, не сознавая, что их уже разморило напористое весеннее солнце и что обоим не хочется ни говорить, ни думать, а только бы смотреть, как теплый ветер волнует новозданную зелень берез, да слушать, как пересвистываются в ней, словно разбойнички, работяги-скворцы.
Это блаженное состояние расслабленности и созерцания было нарушено появлением Варьки. Заметив Евсея Данилыча, она потопталась на месте и уже была готова повернуть вспять, но Венька окликнул ее:
– Ну, чего застеснялась? Иди, иди, не съедим.
Он бесцеремонно подвинул локтем Евсея Данилыча и, потянув за руку упиравшуюся Варьку, посадил ее рядом с собой.
– Куда ходила?
– На поле была, обмеряла. Сеют наши, – прерывисто дыша, сказала Варька и затеребила конец зажатого в кулачке платка.
В семнадцать лет ей все было внове – и Венькина рука, лежавшая на ее плече, и почему-то ставший теперь таким волнующим запах обыкновенного табака, исходящий от него, и сознание его власти над всем ее существом, и то, что бешеный весенний воздух, стоит только поглубже втянуть его ноздрями, так и пронимает ее всю, до тонюсенькой жилочки…
– Не говорил еще? – тихо спросила она Веньку.
– Не приезжал, ждем.
– На поле был. Я думала, сюда поехал. Знать, завернул куда-нибудь.
Она тихонько повела плечом, стараясь освободиться от ставшей слишком вольной Венькиной руки.
– Ну-ну, чего? – снисходительно проворчал он. – Чего ты меня до сих пор дичишься, не съем.
– Едет! – подскочила вдруг Варька. – Ой, побегу… Едет!
Поправляя сбившийся платок и оскользаясь на весенней грязи, она пересекла улицу и ударилась прогоном в поле, разогнав по пути гомонливое стадо гусей.
– Ну и бес! – с восхищением сказал Евсей Данилыч, но сейчас же постарался принять озабоченно-почтительное выражение лица.
К правлению на белоногом жеребце, запряженном в какой-то нелепый извозчичий тарантас, подъехал председатель Коркин. В полувоенной фуражке, какие давно уже не продают, а шьют только по заказу, круглый, плотный и быстрый в движениях, Коркин соскочил с тарантаса, бросил в него кнут и привязал жеребца к балясине. Пока он это делал, Венька с независимым видом стоял на крыльце, а Евсей Данилыч топтался вокруг коня и нахваливал его на все лады. Он охлопывал его круп, трепал по шее, процеживал сквозь пальцы давно не стриженную гриву и, наконец, дал прихватить губами свое ухо.
– Ко мне? – спросил Коркин, ступая на крыльцо.
– Ну, председатель, давай рядиться, – развязно говорил Венька, идя вслед за ним по темному коридору. – Слышал, телятник тебе надо строить. Коль сойдемся в цене – вот он, я.
Коркин открыл ключом дверь, и все трое вошли в маленький, загроможденный конторского вида мебелью и сплошь заваленный початками кукурузы кабинет. Не пучки пшеницы, ржи или ячменя, а именно эти восковато-желтые початки, как знамение времени, лежали на столах, подоконниках и в углах председательского кабинета.
«Не даст», – подумал Евсей Данилыч, смущенный столь деловой обстановкой, и сел в сторонке, решив подождать, когда уйдет Венька.
– Слушаю, – сказал Коркин.
– Так будем рядиться, Григорий Иваныч? – спросил Венька. – А то перебьют у тебя мою бригаду устюжские, будешь тогда локти кусать. По рукам, что ли?
Венька, как в конном ряду, выставил из-под полы пиджака руку и задорно сверкнул на председателя своими Угольными глазами.
– Двадцать тысяч дашь?
Евсей Данилыч восхищенно крякнул. Умеет же этот Дикарь обстряпывать дела… Эх, ему бы, Евсею Данилычу, такую хватку!
– Копейки не дам, – негромко отрезал Коркин.
– И правда! Ишь чего захотел… Двадцать тысяч! – сказал из своего угла Евсей Данилыч. – Да за двадцать-то тысяч, знаешь…
– Молчи ты, – огрызнулся на него Венька. – Смотри, председатель, промажешь. Восемнадцать – последнее слово.
Коркин засмеялся и пожал плечами.
– Не сойдемся. Ступай, мне некогда.
– Черт с тобой, двенадцать, – круто съехал Венька. – Пиши договор. Три – вперед. Да ты, видно, строить не хочешь! – усмехнулся он, увидев, что Коркин только махнул рукой. – Так бы и сказал сразу, нечего тогда тут лясы точить.
– Почему? Строить будем, – спокойно сказал Коркин. – Только нынче решили без дикарей обойтись. Довольно им колхозных денежек в карманы посовали. У нас свои плотники не хуже, и карманы у них не уже. Так, что ли, Данилыч?
– Известно! – встрепенулся тот и про себя радостно подумал: «Даст».
– Станут они тебе за трудодни ломить, – снова усмехнулся Венька. – Нынче дураки-то повывелись. Вон спроси его, – кивнул он на Евсея Данилыча, – станет он за трудодни строить? А коли и станет, так через пень колоду. Глядишь, года через три поспеет твой телятник… Ну, скажи, старик!
Евсей Данилыч приник и, не найдя, что ответить, забормотал невнятное.
– А что ему не работать? – загорелся вдруг Коркин. Он выдернул ящик стола, схватил какую-то книжку и, чуть не отрывая страницы, стал листать ее. – Вот. По установленным нормам на трудодни он получает? За качество получает? За досрочное выполнение получает? Если утвердим его бригадиром – премию получает? Чего же ему еще?
Он дернул к себе счеты и быстро застучал костяшками.
«Все дело, подлец, испортил, рассердил человека, – с укором подумал Евсей Данилыч. – Теперь не даст».
А Венька не унимался.
– На счетах-то у тебя ловко получается. Чего только дашь-то под эти костяшки?
– Дадим, – уверенно сказал Коркин. – Вот решили дать аванс на трудодни по два с полтиной. И каждый месяц давать будем. У тебя, Данилыч, сколько трудодней?
– Чего там! – махнул Евсей Данилыч рукой. – Семьдесят, не знаю, наберется ли.
– Ну, твоя вина, что мало. Получишь всего сто семьдесят пять целковых.
– Когда? – спросил Евсей Данилыч.
– Да хоть сейчас. Если у бухгалтера готовы списки, иди да получай.
– Ну да? – изумленно и недоверчиво спросил Евсей Данилыч. – Сейчас можно получить?
Коркин внимательно посмотрел на него.
– Да ты, я вижу, проспался только сегодня. Еще позавчера решили на правлении авансировать по два с полтиной. Весь колхоз знает.
Не сказав в ответ ни слова, Евсей Данилыч поднялся и направился к двери. Весь предыдущий разговор, и особенно упоминание Коркина о том, что его, Евсея Данилыча, могут утвердить бригадиром, требовал немедленного реального подтверждения.
Когда через несколько минут он вышел на крыльцо, там уже стоял Венька и зло расправлял исковерканную во время разговора с председателем шапку.
– Ну и жмот! – ища сочувствия, сказал он Евсею Данилычу. – Тугой человек, одно слово.
– Да уж точно! – охотно согласился Евсей Данилыч, но в голосе его слышалось скорей восхищение, чем сочувствие.
Проводив взглядом Веньку, напропалую топавшего по загустевшей грязи, он вынул полученные сто шестьдесят семь рублей, из них семнадцать тщательно упрятал за подкладку шапки, а остальные положил в карман.
К дому он подходил с лицом торжественным и лукавым. Сейчас он доставит себе маленькое удовольствие – покуражится, прикажет вздуть самовар, заставит чисто прибрать стол, откажется пить из надтреснутой чашки, а потом, когда жена будет доведена до предельного градуса и приготовится запустить в него какой-нибудь твердостью, вдруг объявит, что его хотят поставить бригадиром строительной бригады, и как бы в подтверждение этого бухнет на стол полторы сотенных… Знай, мол, наших!
А Венька между тем уже вышел за село и шагал по полевой дороге. Жаворонки трепетали в струящемся над полями воздухе, через дорожные колеи неуклюже перелезали еще сонные лягушата, рыженькая крапивница совершала свой первый полет, и Венька мало-помалу обмяк, захваченный и покоренный всеобщим праздником весны. Когда он нашел Варьку, то на лице его не было и тени прежней озабоченности и досады.
– Подрядился? – сияя своими русалочьими глазами, встретила его Варька.
– Куда там! – засмеялся он. – Такой тугой человек – не подступись. Придется в Устюжье ехать. Туда сами звали.
– В Устю-южье, – протянула Варька. – Да туда же сто километров…
– Сто десять, – поправил Венька. – Надо сегодня же подаваться, а то можно и упустить.
Он бросил на сухой закраек поля пиджак и предложил:
– Посидим.
Но Варька не двинулась. Опершись на свою рогатую мерку, она смотрела в землю, и по ее нахлестанным весенним ветром щекам блестящими струйками бежали слезы – слезы первого девичьего горя.








