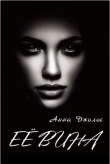Текст книги "Синеет парус"
Автор книги: Сергей Кишларь
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Глава 5
После того случая на катке что-то переменилось в душе у Арины. Она лежала целыми днями в постели. Мысли странные, противоречивые сшибались в её голове, а в довесок им – непонятное, выматывающее душу томление, заставляющее неустроенно ворочаться с боку на бок и в непонятном отчаянии вдруг зарываться головой в подушку.
Нога давно уж прошла, а Арина врала доктору Мережковскому:
– Да доктор, вот так… И так болит… Ой, доктор!
– Хм-м. – Доктор вращал в крепких волосатых пальцах её узкую розовую ступню, супил брови. – Странно. Вывих – так себе, не очень чтоб… Ну-с, попробуем вот что… – И пристроив на краю трельяжного столика лист бумаги, строчил перьевой ручкой очередной рецепт.
«Ай, как нехорошо, Арина Сергеевна, ай, вруша! – Арина стыдливо отворачивала голову к глянцевито блестящим рельефным изразцам уютно потрескивающей печи, и сама себе мысленно отвечала: – А вы знаете другой способ побыть одной, чтобы все оставили вас в покое, хотя бы на время?»
Едва уходил доктор, она в поисках оправданий искала у себя то признаки жара, то ступню выворачивала самым неестественным образом… Ай, как стыдно! Хотя, постой-постой! Хрустнуло что-то… Ну, конечно же, – не могла она врать.
А к четвергу вдруг поднялась на ноги. Боли как не бывало – она летала не жалея ног. Устраивала разносы прислуге. В этот четверг должен быть лучший из приёмов в доме Марамоновых.
В душе Арины царило праздничное ожидание. А вот чего она ждала? – в этом она не призналась бы даже самой себе.
Просто хорошее настроение. Что? Нельзя?
К вечеру от этого хорошего настроения не осталось и следа. Еле дождалась, пока разъедутся гости. Уже лёжа в постели, Арина сердито отворачивалась от Николая Евгеньевича, пришедшего пожелать ей якобы спокойной ночи, но конечно же не только за этим:
– Извини, Ники, – голова! Ты себе даже не представляешь, как разболелась… Да-да, спокойной ночи, целую.
И – под одеяло! С головой! Носом в подушку, чуть не плача…
Не пришёл, ну и не пришёл. При чём здесь Резанцев? Просто настроение поменялось. Имею право?
Утром Арина проснулась в сладкой истоме. Широко раскрыв глаза и боясь пошевелиться, смотрела в потолок, ошарашенная силой своего сновидения. Иногда сон оставляет след не только в сознании, но и душу переворачивает до самого потайного уголочка, и в теле отдаётся до самой дальней дрожащей жилочки.
Преступно хорошо, стыдно и немного страшно… Никогда, даже в мыслях, Арина не изменяла Николаю, а этот сон – почти явь. Всё так реально, так физически ощутимо…
Арина вместе с одеялом порывисто отбросила от себя эту преступную негу. Вскочила с кровати, упала перед иконой на колени: «Прости, Святая Дева! Ведь во сне же, не наяву!»
За завтраком она избегала смотреть в глаза Николаю Евгеньевичу. Сосредоточенно жевала, смущённо подносила салфетку к губам. И сразу после кофе уехала в Успенский собор – замаливать грехи.
Глава 6
Весна 1914 года.
Несколько месяцев о Резанцеве доходили только слухи, – то Ольга как бы между прочим вспоминала о нём, то Эльвира Карловна Бергман, знающая всё обо всех, рассказывала, что известная на весь город своей красотой Полина Вильковская пыталась отравиться из-за несчастной любви к нему, а он холоден к ней и к другим, добивающимся его любви женщинам, что тайно влюблён он в какую-то молодую особу и в обществе давно уже гадают – кто она?
Арина тоже гадала и злилась на саму себя. Что ей до какого-то Резанцева и до его таинственной пассии? Нет – жила в последнее время какой-то странной и непонятной обидой. Всё думала о той женщине – хоть краем глаза увидеть её. Это какой женщиной надо быть, чтобы так изменить человека? Гуляку с гусарскими повадками, презирающего любовь и признающего только флирт, заставить влюбится по-настоящему, замкнуться, не признавать других женщин.
Арина стала избегать общества. Слишком много мыслей было в её голове, а мысли эти требовали уединения.
Николай озаботился – здорова ли? Хандра напала? Засуетился, с доктором Мережковским советовался, подарки дарил, на Ривьеру летом обещал, – лишь бы его Ариша повеселела. Не понимал, что происходит.
А Ольга, похоже, видела Арину насквозь, но молчала. Лучшая подруга – роднее мужа, – а тема эта была у них – табу. О Николае, о Ромаше, об отношениях с ними – сколько угодно! Но об отношениях Ольги с Гузеевым – ни слова, ни намёка. Знала Ольга: Арина не одобрит, потому и молчала, хотя молчание давалось ей с трудом.
Однажды увидела у Арины на тумбочке «Анну Каренину», тонко улыбнулась, вскинула брови: «Интересуетесь?» Арина так выразительно посмотрела в ответ, что Ольга больше не иронизировала, и тему эту не затрагивала.
Объявился Резанцев неожиданно. Был очередной марамоновский четверг. В высоких греческих вазах стояли охапки цветущей сирени, в чёрном глянце высоких венецианских окон отражались хрустальные гроздья люстр. Пахло тонким ароматом гаванских сигар, французскими духами, сиренью. Гости по обыкновению спорили, пили шампанское, играли в карты. И вдруг – запоздавшие: Гузеев и Резанцев.
– Здравствуйте, Арина Сергеевна.
Светлые волосы Резанцева упали Арине на запястье, неприлично долгий поцелуй, сладким позором заклеймил руку, разбудил дремавший в щёках жар, а сердце, не разбирая дороги, уже понеслось по краю. По тому самому краю, с которого упадёшь и прежней тебе уже не подняться.
А что было потом?.. Потом мир потерял привычные очертания. Арина смутно помнила: подавали мороженое, пили кофе, и Эльвира Карловна без передыху доверительно жужжала на ухо:
– Аркадий-то наш, Бездольный, слышали?.. Нет-нет, не слухи – арестован. За связи с революционэрами. А я давно говорила, давно-о… А Роман Борисович! Только вам, Ариша, говорю. Это такой секрет, что… ну, в общем, вы меня понимаете, – переходя на заговорщический шёпот, Бергманша совала свой мясистый нос чуть не в ухо Арине. – Человек слишком либеральных взглядов. Мало того, что смутьянов в суде защищает, так ведь сочувствует им. По лезвию человек ходит. И ведь не скажешь по нём – такой душка.
Арина деликатно пыталась ускользнуть:
– Эльвира Карловна, голубушка, вы уж извините, – я на секунду отлучусь, распоряжусь насчёт… неважно, не буду вас обременять своими хлопотами.
И ускользнула! Подобрала над коленями подол белого платья, по ступеням сбежала с крыльца, спряталась в беседке над чёрным ночным прудом. Стояла окутанная душным неподвижным ароматом цветущей сирени, хмурила брови…
Где та умудрённая житейским опытом женщина, какой она была ещё два месяца назад? Где спокойная жизнь, которая казалась олицетворением тоски и скуки? Всё иллюзия. И жизнь, расписанная на будущее по годам, – тоже иллюзия. Что-то не запланировано в ней, чего-то не хватает. Главного! Того самого…
Спаси и сохрани, Господи! И думать нечего!
В сумраке заскрипела подсыпанная галькой дорожка… Несёт нелёгкая Эльвиру Карловну.
Арина с плохо скрытой неприязнью оглянулась и пальчиками растерянно потянулась к горлу, отступила, упёрлась в каменную балюстраду беседки.
Резанцев неторопливо подошёл, вынимая из портсигара папиросу.
– Не помешаю?
– Ради бога, с чего вы взяли?
Арина повернулась к нему спиной – смотреть на звёзды в пруду. Резанцев стал рядом, положив на широкую балюстраду серебряный портсигар.
– Кури́те, – разрешила ему Арина.
– Спасибо. – Он задумчиво мял в пальцах папиросу. – Мне кажется, вы целый вечер ищете возможность побыть одной. Я всё-таки не вовремя.
– Просто хотела на воздух, в доме душно.
– В самом деле – ещё только май, а душно, как летом.
– Да…
Пауза затянулась, и ворвалось в душу не замеченное раньше, – всё вокруг вибрирует от голосов сверчков: и серебристые лунные облака, и листья, и звёзды в чёрной воде.
– Странно, – усмехнулся Резанцев. – Так хочется говорить с вами, а впервые в жизни не знаю, что сказать.
Опустив голову, Арина гладила пальцами чуть шершавую, нагревшуюся за день балюстраду. Тонкая жилка отчаянно пульсировала на шее.
– Зачем тогда говорить, если не о чём?
Он смотрел, не отвечая, смущая Арину пристальным взглядом. Только спустя несколько долгих секунд, сказал вместо ответа:
– Вы так не похожи на других женщин.
Сердце Арины совсем ошалело. Ей бы повернуться, уйти, но она лишь отошла к другой колонне, стала к Резанцеву спиной. Он бесшумно шагнул вслед за ней, негромко вздохнул.
– С того самого дня, как увидел вас, места себе не нахожу…
И снова пауза. Арина боялась пошевелиться. Что он там? Смутно угадывалось – опустив голову, всё ещё мнёт папиросу… Ну же, говори!
– Я люблю вас, Арина Сергеевна.
А вот теперь бежать… Она порывисто обернулась, – поручик понял это по-своему: роняя из рук папиросу, схватил Арину ладонями за щёки, тёплыми мягкими губами помутил рассудок и торопливо отпустил, будто сам испугался своего порыва. Потеряв без его рук опору, Арина качнулась. Секунду ошарашенно стояла, наконец преодолела гипноз, – влепила размашистую звонкую пощёчину, задыхаясь, побежала к дому.
Сразу у дверей гостиной Арина попала в круг разновозрастных дам. Эльвира Карловна, ожесточённо обмахивая веером раскрасневшееся лицо, схватила её под руку.
– Всё выяснилось. Недаром говорят: нет ничего тайного, что не стало бы явным. – Эльвира Карловна опасливо оглянулась на компанию повязанных голубыми нитями табачного дыма мужчин, понизила голос: – Выяснилось, кто тайная любовь поручика Резанцева. Актриса Пичугова! Представьте – с ума от неё сходит! А вы видели её вблизи? Шея в складках, под глазами – круги. Возраст тщательно скрывает, но – лет тридцать пять, самое малое… Да что с вами, голубушка, – вы вся прямо не в себе!
– Всё хорошо, – Арина деликатно стала высвобождать свой локоть из руки Эльвиры Карловны. – На прислугу разозлилась. До чего нерасторопны – сил моих нет.
Рассеянно улыбаясь гостям и с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на бег, Арина поднялась к себе, бросилась грудью на застланную кружевами кровать. Минут пять она не могла унять дрожь в руках, потом села на краешек кровати. Отчего-то было страшно. Будто жизнь вот-вот покатиться в тартарары.
Николай Евгеньевич деликатно постучал в дверь, вошёл.
– Ариш, что случилось? Прошла мимо, даже головой на оклик не повела.
Арина рванулась к нему, обняла, словно призывая защитить.
– Ариш, да что с тобой? Ты вся дрожишь.
Муж прижимал её к себе, гладил по волосам, но его большие родные руки сегодня не могли успокоить, они потеряли свою обычную утешительную силу. Теперь никто не поможет – только сама! И Арина вдруг отстранилась от мужа – внешне спокойная, уверенная в себе. Поправила за ушами волосы.
– Обычная хандра, Ники. Пройдёт. Ты иди к гостям, я сейчас спущусь…
Ночью, когда гости разошлись, Николай Евгеньевич по обыкновению пришел пожелать спокойной ночи.
– Ариша, да что, в конце концов, происходит? Ты последнее время сама не своя.
– Ники, ты обещал, поедем на Ривьеру.
– Позже, котёнок, ты же видишь, какие у меня проблемы. Все планы изменились.
– Когда позже?
– Не раньше августа, золотая моя.
– Я устала, давай я поеду сейчас, а ты меня догонишь. Если я буду там, то и ты быстрее приедешь. Глядишь, раньше со своими делами управишься.
Николай Евгеньевич вместо ответа склонился, целуя её в губы. Арина поспешнее, чем позволяли приличия, отвернула голову.
– Нет, Ники, не сейчас. Я очень устала.
Ушла на зов сверчков, к раскрытому в ночь окну, стала в волнах обеспокоенной сквозняком занавески.
Николай Евгеньевич обиженно пожал плечами:
– Неделю назад ты говорила то же самое, и месяц назад. Если не сейчас, то когда? Через месяц? Через полгода? Через год?
Арина порывисто обернулась от окна:
– Ну почему у вас, у мужчин, всё сводится к одному? Неужели это самое главное?
– Ариш, когда два человека любят друг друга…
– Да-да, понимаю. Конечно! – Она схватилась пальчиками за виски, замерла, склонив голову. – Я просто расхандрилась. – Отбилась руками от взвившейся занавески, пошла к кровати. – Извини, мне нужно отдохнуть. Это само пройдёт.
Легла, свернувшись калачиком, жалостливо сложила у подбородка кулаки. Муж присел к ней на краешек постели.
– Может, тебе действительно поехать на Ривьеру одной? Супругам надо иногда отдыхать друг от друга. Месяц-другой отдохнёшь от меня, а там и я приеду. Давай-ка оставим это на завтра, котёнок. Утро вечера, как говорится… – И склонился, целуя в лоб. – Спокойной ночи.
Ушёл было, но вспомнил – просунул за дверную портьеру руку, выключил свет, осторожно прикрыл за собой дверь.
Глава 7
Лето 1914 года.
Известие о начале войны всколыхнуло сонный город. Шумными базарными толпами горожан крутило на площадях и перекрёстках. Несли блестящие на солнце хоругви, пели «Боже царя храни», бросались качать на руках встречного офицера, – бедняга ловил руками воздух, падала фуражка. Бесконечное «ура!» раскатывалось от площадей в каменные щупальца улиц и проулков.
Блестела медь военных оркестров, «Прощание славянки» до озноба пробирало души. В церквях служили молебны за победу русского оружия. В облаках знойной пыли со всех сторон стекались к городу сопровождаемые воинскими и полицейскими чинами серые колонны запасников.
А на вокзале уже дико свистели готовые к отправке паровозы, кидались к небу струи белого пара. Ветер сметал с заплёванного перрона на промасленные шпалы окурки и подсолнуховую шелуху, трепал углы небрежно приклеенных к стенам листков царского манифеста, хлопал над головой трёхцветным флагом.
Толпа увлекла за собой Любку, да девушка и не сопротивлялась, только сильнее прижимала к боку корзинку, прикрытую пучками купленной на базаре зелени. Здесь, на Мещанской, толпа была совсем не та, которую Любка видела полчаса тому назад перед Успенским собором, – та толпа была чинная, опрятно одетая и не кричала, не ругалась матом, – она сдержанно гудела. Та толпа была из хороших городских районов, а с этой, что взять? – Кривая Балка!
Вокруг Любки кричали, пихались локтями, толкались.
– К Бергману давай!
– Насосался русской кровушки!
– Громить его, немчару!
С трудом втискиваясь в узкий проулок, толпа густела, вязко перетекая с Мещанской на Немецкую. Зажатая со всех сторон, Любка и сама уже воинственно кричала, грозила кулаком, тёрлась о чьи-то спины. Она не видела лиц: перед глазами мельтешили только затылки, сальные воротники, небритые щёки, но все эти безвестные безликие люди уже казались ей давними знакомыми. И парень, чёрный масленый рукав которого всё время тёрся об её плечо, и насквозь пропитанная тошнотворным селёдочным запахом торговка из рыбного ряда, и обладатель хриплого немолодого голоса, который дышал Любке в затылок водочным перегаром и криком советовал кому-то в первых рядах:
– И Адольфа и его толстомясую немку голышом выпустить на улицу. Пусть потрясут салом, пусть покажут, сколько жира накопили на горбу русского народа.
Вставая на цыпочки, Любка глянула в первые ряды, и из всей толпы явилось ей первое лицо – Максим Янчевский. Плечом стала втискиваться между жаркими потными телами, выдёргивала вслед за собой корзину, из которой падали зелень и овощи. Хлюпали и брызгали семечковой мякотью раздавленные ногами помидоры. Юбка перекрутилась задом наперёд, кофта выбилась из-под пояса, платок калачиком скатался вокруг шеи.
Протиснулась. Потянула Максима за собранную под ремень косоворотку.
– А, принцесса с мусорным ведром, – улыбнулся парень. – И ты здесь? Не боишься?
– А чё бояться-то? – радостно кричала в ответ Любка.
– А ну как полиция заарестует? Вон, видишь, стоят.
Максим кого-то отпихнул плечом, покровительственно освобождая Любе место рядом с собой, постучал пальцем, показывая наколку на правой руке: кораблик клонится на ветру, парус надулся голубиным зобом, остренькие волны вокруг.
– Со мной не пропадёшь. Если что – на этот кораблик сядем и от кого хочешь уплывём. – Хитро улыбнулся, подмигнул. – Ладно, не боись, никого они не тронут. Если хотели бы, давно бы всех разогнали. Ведь знают, что идём магазин громить, а молчат.
– А чё за кораблик?
– Это не кораблик, Люба, – мечта. Человек без мечты – пустое место.
Из проулка вытиснулись на просторную Немецкую, свободно расправили плечи, хоругви на свободе взвились выше. Любка вместе со всеми истово крестилась на купола Дмитровского монастыря. Кто-то затянул гимн. Толпа подхватила тысячью голосов – мощно, сильно, до торжественного озноба. Любка безжалостно рвала охрипший голос: «Боже царя храни, сильный державный, царствуй на славу, на славу нам!»
Не успели ещё гимн закончить – кто-то с протяжным скрипом вырвал из стены табличку с названием улицы, бросил на булыжную мостовую вверх согнутыми когтистыми гвоздями, белыми от известкового порошка.
– Была Немецкая – стала Безымянная.
– Русская стала!
Грянуло нестройное «Ура-а!..», и в ответ ему на противоположной стороне улицы вырвали ещё одну табличку, обнажая на полинялой фасадной краске яркий девственный прямоугольник, отмеченный по углам отколотой штукатуркой и гвоздевыми отверстиями. Жестянки с номерами домов тоже полетели на булыжную мостовую, будто и в них было что-то немецкое. Пока баловались табличками, дошли до магазина Бергмана.
Откуда-то появились камни – горячие, гладкие, их передавали из рук в руки. Максим по-дружески сунул Любке в руку булыжник – как последним куском хлеба поделился.
На одной половине магазина прислуга уже успела опустить железные жалюзи, другая соблазнительно блестела зеркально чистой витриной. Яркое солнце вдруг раскололось в тяжёлом витринном стекле, рухнуло острыми краями.
Свист, звон, дребезг.
Оскалилась стеклозубая пасть разбитой витрины. Становясь друг другу на плечи, полезли сбивать вывеску магазина. Хрустя битым стеклом, ринулись в магазин, и только тут сшиблись в пронзительной перекличке свистки проснувшихся городовых. Любку оттёрли от Максима, и рядом с ней вдруг обнаружился обладатель хриплого голоса, который всю дорогу дышал ей в затылок водочным перегаром:
– Бергмана нам давай! Всё ему припомним!
В ответ кто-то кричал в другое Любкино ухо:
– Будет он тебя ждать! Давно сбежал. Говорят, у Марамоновых в особняке отсиживается.
Крики, гам, улюлюканье.
Свистки городовых и упоминание о хозяине отрезвили Любку. Она с ужасом заглянула в почти пустую корзину и, зло вклиниваясь плечом, стала пробиваться вон из толпы…
Дома Любка поставила под кухонный стол корзину, в которой осталась только морковь, да пара свёкл на дне, скривила в плаче лицо, захлёбываясь, стала рассказывать Глафире: мол, попала ненароком в самую толпу. Все какие-то бешенные. Налетели, на землю повалили, помидоры потоптали. Еле вырвалась.
Приврать приврала, а плакала искренне, от испуга. Пока шла домой, кураж исчез, и теперь ей казалось, что все уже знают о её участии в погроме, что ещё чуть-чуть – и наступит неминуемая расплата.
– Ладно, не хлюпай, – миролюбиво сказала Глафира. – Хорошо, что обошлось. К хозяину Бергманша приехала, до смерти перепугана. В магазине у неё погром, а Адольфа Карловича до сих пор нет. Уж и не знает, жив ли?
Любка обмерла, только робко облизывала солёные от слёз губы… Ой, не зря Бергманша приехала! Неужто прознала?
Едва Глафира вышла в столовую, Любка кинулась к иконе, бухнулась на колени: «Прости, Господи!»
Глава 8
Папироса, с которой Николай Евгеньевич делил своё нетерпение, полетела в урну.
– Извините, господа.
Оставив у входа в вокзал случайных своих собеседников – пристава и начальника станции, он пошёл навстречу прибывающему поезду. Горячий августовский ветер волок по людному перрону редкую рябь подсолнуховой шелухи, белой рванью рассеивал шипящий паровозный дым.
На втором пути провожали воинский эшелон. Сквозь чих паровоза слышны были переборы гармоники, топот ног, лихие частушки.
Арина заметила мужа издалека, – на голову выделялась в толпе его статная фигура. Замахала ему с подножки вагона ладонью. Поднимая над головой букет роз, Николай Евгеньевич пробивался к ней: обходил тележку грузчика, у кого-то просил прощения. Ему недоумённо смотрели вслед, удивляясь глупой счастливой улыбке, которая так не вязалась с обликом всесильного Марамонова.
– Ариша, родная. – Николай Евгеньевич склонился головой под широкие вислые поля белой дамской шляпы, целуя жену и в одну щёку и в другую. – Как я по тебе соскучился!
Арина устроила подбородок на его плече, крепко обняла, замерла, боясь потревожить исходящее от мужа ощущение родного тепла. Их толкали, извинялись, просили посторониться, а они стояли, не замечая никого вокруг.
Николай Евгеньевич наконец отстранил от себя Арину, суетливым от счастья взглядом изучая её лицо:
– А я неделю места себе не нахожу. Так переживал, похудел даже. Вокруг война, а ты – через всю Европу. Приезжаю на вокзал, – расписания поездов больше нет: отправляются когда хотят, приходят когда хотят. Не знал, что и думать.
– Рассказать тебе все мои приключения, дня не хватит, – рукой, затянутой по локоть в тонкую белую перчатку, Арина заботливо сняла с мужниной щеки упавшую ресницу, лукаво прищурила глаза. – Цветы мне?
Он спохватился, встряхнул букет, чтобы освежить его.
– Конечно, тебе. Извини, всё в голове смешалось. Твои любимые розы.
– Красивые.
– Вот приедем домой, уложу тебя на диване, сяду у твоих ног, и будешь рассказывать мне все свои приключения.
Широко раскрыв глаза, Николай Евгеньевич покачал головой, будто не верил такому счастью, склонился целовать Аринины пальчики, унизанные золотыми перстеньками поверх перчатки.
– Как я по тебе соскучился, – будто вечность прошла, а не каких-то два месяца. Я совсем уж было собрался к тебе ехать, а тут – эта война. Вчера только из Петербурга вернулся – будем на нашем заводе снаряды делать. Боже, как я по тебе соскучился… Ну идём, идём… Носильщик… будь любезен.
Николаю Евгеньевичу отдавали честь полицейские и военные чины, уважительно снимали шляпы штатские господа, – кому-то он отвечал, кого-то по рассеянности не замечал. Остался всё тем же – вся его уверенность в себе, вселяющий трепет взгляд, властность жестов, рядом с Ариной странным образом исчезали, и он зачастую выглядел растерянным как гимназист.
Прижимаясь друг к другу, пошли к выходу с перрона – через сутолоку, крики, гам. Вдоль стоящего чуть поодаль состава, голова которого терялась за пакгаузом, шевелились солдатские спины, наискось охваченные колёсами скатанных шинелей; отдельными группами стояли офицеры и провожающие их дамы.
Завыл паровозный гудок, зазвучали команды:
– Кончай пляску!
– Первая рота! По вагонам!
– Шевелись, шевелись, в Берлине допляшете!
Среди офицеров мельком померещилось Арине лицо Резанцева. Едва удержалась, чтобы не оглянуться. Усмехнулась, теснее прижимаясь к Николаю…
Всё сон! Забытый, никому не нужный сон.
Два месяца провела Арина на Лазурном Берегу, в одном из тех немногих заграничных мест, которые буквально пронизаны русским духом. Там на каждом шагу слышалась родная речь, звонили к обедне колокола православных церквей, а на набережных прогуливался весь петербургский свет.
Два месяца среди солнца, улыбок и чужого счастья. Даже чахоточные больные, которым жить осталось, может быть, считанные месяцы, и те казались счастливыми, а Арина – в тоске, будто рассталась не только с Николаем, но и с самой собой. А ведь всё было для счастья: молодость, красота, обеспеченность… Попробуй пойми саму себя и эту странную жизнь.
К июню, совсем измаявшись, Арина собралась ехать домой, но пришло письмо от Николая: заканчиваю дела, скоро буду в Ницце, жди. Потом случилось сараевское убийство, в Европе становилось неспокойно, а приезд Николая всё затягивался. И вдруг телеграмма: «Не жди. Срочно возвращайся домой». Срочно не получилось – попала в предвоенную европейскую суету, а домой добралась уже после объявления войны.
– Я, Ариша, вот что задумал, – говорил Николай Евгеньевич, когда они выбрались из толпы и вышли на привокзальную площадь. – Давай-ка переедем мы с тобой в наш городской особняк, а загородную резиденцию отдадим под госпиталь. Конечно, здесь в городе всё не то: и ветер не так свеж, и небо ниже, и звёзды не такие яркие, но надо жертвовать привычками и уютом. Война, судя по всему, затянется. Среди местных военных эйфория – полны решимости закончить войну в полтора-два месяца, а в Генеральном штабе поговаривают о годичном сроке, о возможных больших потерях и о том, что раненых – страшно сказать – будут десятки тысяч. Я и подумал, – ты у нас натура деятельная, рвёшься в дело, вот и возьми на себя хлопоты по организации госпиталя. Как тебе идея?
Арина прижалась к нему сильнее.
– Я готова. Прямо сейчас. Только…
– Не бойся, у тебя всё получится. Я тебе помогу.
Едва уселись в авто, расхлестался летний ливень. Шофёр в клетчатом английском костюме, в гетрах и кепке засуетился, поднимая откидной верх. И всё же успели промокнуть.
По кожаной крыше звучно секли струи дождя. На перекрёстках бросались под колёса трамвайные рельсы, дрожь пробегала по всему автомобилю. Босоногие мальчишки, вылизанные дождём, как новорожденные щенята, перебегали дорогу, заставляя шофёра яростно квакать автомобильным клаксоном.
Арина рассеянно смотрела на город, искажённый бегущими по лобовому стеклу потоками, а мыслями была уже дома – переставляла мебель, освобождала комнаты, прикидывала, где будут палаты, где операционная, где процедурная.
– Ники, а врачи? А сёстры?
– Узнаю тебя – уже загорелась новым делом. – Николай Евгеньевич со счастливой улыбкой человека, угадавшего в выборе подарка, обнимал её, щекотал усами шею. – Не волнуйся, врачи у тебя будут самые лучшие. А ещё я задумал организовать санитарный поезд, так сказать, госпиталь на колёсах. Сами будем раненых прямо с фронта привозить.
Арина благодарно потерлась щекой об шевиотовое плечо мужниного пиджака…
Как могла она не видеть, что любит этого родного человека? И что с ней было два месяца назад?.. Досадливо прикрыла глаза… Бред, чуть не стоивший ей семейного счастья.
Скоротечный гром укатился куда-то вперёд и как ни крути баранку шофёр, как ни квакай клаксоном – уже не догнать его. А вот и солнце выглянуло, отлило серебром последние капли дождя. Чёрный капот автомобиля заблестел, как крышка ухоженного рояля.
Умытая Александровская светилась мокрыми вывесками и витринами: кондитерская Карташова, аптека Фридмана, кафе «Монмартр», синематограф «Одеон». И радуга – скупая, линялая – где-то далеко за черепичными крышами упёрлась краем в золотые купола Дмитриевского монастыря.
Ах, скинуть бы туфельки, приподнять подол платья и – по лужам, вслед за мальчишками! Чтобы солнечные брызги из-под босых пяток летели выше головы.
Бывает же так хорошо!.. Даже далёкая, не осознанная ещё война, с её страшными десятками тысяч раненых, не в силах притупить этой безответственной, эгоистичной радости.
Арина поёрзала, втёрлась Николаю под мышку и, устроив у него на груди голову, счастливо улыбнулась.
Нет, всё-таки есть на свете счастье. Теперь точно известно – есть!