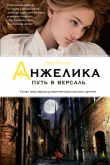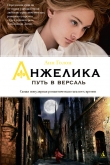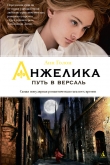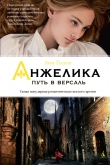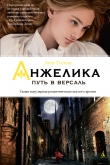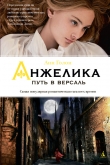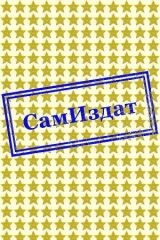
Текст книги "Супруги Голон о супругах Пейрак"
Автор книги: Сергей Щепотьев
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Конечно, нам, привыкшим к совершенно иной традиции исторического романа, кажется странным, почему супруги Голон не расставили всех точек над i, предоставив нам расшифровывать авторский замысел.
Но и это объяснимо. В среде трубадуров, как известно, существовало две манеры стихосложения: светлая, trobar leu, и темная, trobar clus, из которых последней свойственны изощренность и в значительной степени зашифрованность. Думается, авторы «Анжелики», отказавшись в своем романе от «авторского голоса», прибегают именно к этой темной манере, отдавая и таким способом дань старой провансальской литературной традиции.
Супруги Голон о супругах Пейрак. Ч.6
Итак, во Франции абсолютной монархии, во Франции католического фанатизма нет места Жоффрэ де Пейраку, лелеющему традиции древней провансальской культуры, нет места Пейраку – ученому, обогнавшему свое время в научном знании и неутомимых лабораторных опытах. Он вызывает раздражение собратьев по классу, включая первого дворянина Франции, – раздражение, которое приводит Жоффрэ к трагическому разрешению его конфликта с обществом.
И Анжелика – скромная воспитанница монастыря, познавшая сильную страсть к человеку, научившему ее любви, раскрывшему перед ней огромный мир знаний, духовно обогатившему ее, – Анжелика, соприкоснувшись благодаря супружеству с принцем Аквитанским с высшим светом Франции, вдруг стремительно падает на социальное дно, и единственной ее целью становится борьба за жизнь – свою собственную и своих обездоленных детей.
В «Пути в Версаль» приемы автора «Трех мушкетеров» уступают место приемам плутовского романа, изображающего одинокого героя во враждебном обществе.
И, подчиняясь схеме жанра, Анжелика в борьбе за существование проходит через разные ипостаси: то она за небольшую плату прислуживает в таверне, то унизительным для себя способом спасает жизнь своих сыновей, то благодаря шантажу получает необходимую сумму денег и патент, чтоб открыть шоколадную лавку, то, наконец, пользуясь все тем же шантажом, женит на себе Филиппа дю Плесси-Бельер и тем самым возвращает себе положение в обществе. Эта последняя ее авантюра также входит в «условия игры»: герой французского плутовского романа (в отличие от классического, испанского) готов воспользоваться случаем для того, чтобы снова начать добропорядочную жизнь.
Стиль Александра Дюма мы улавливаем, конечно, и здесь – особенно при пересказе исторической сплетни («У фаворитки короля, мадемуазель де Лавальер, рот был несколько великоват. К тому же она слегка хромала. Говорят, что это придавало ей особую грациозность, не мешая восхитительно танцевать, но факт был налицо: она хромала»). Однако в «Пути в Версаль» супруги Голон уже весьма далеки от следования его сюжетным схемам. Их внимание обращено не столько на пересказ исторических анекдотов (хоть описание исторических фактов отличается лаконичной точностью – как, например, при изложении смерти Мазарини), сколько на создание широкой панорамы парижских нравов. Так, история ареста Никола Фуке офицером мушкетеров д'Артаньяном, рассказанная Дюма в нескольких главах «Виконта де Бражелон», занимает в романе Голон несколько строчек. В то же время, вполне следуя логике развития сюжета и образа главной героини, авторы умело используют прием плутовского романа для изображения разнообразных слоев французского общества – преступного мира, торговцев, буржуа, парижских литературных кругов, придворных кутил, игроков и, наконец, королевской четы, причем вся эта пестрая толпа персонажей связана между собой не только образом самой Анжелики: на наших глазах происходит естественное их взаимодействие, полное конфликтов, непримиримых противоречий, борьбы[54].
Двор Чудес связан с королевским двором через посредство карлика королевы Баркароля, состоящего в банде Никола, не говоря уже о тайных нитях, связывающих высшее дворянство с мрачной компанией Катрин Лавуазен. Хорошо известно, что в годы правления Луи XIV разного рода отравления, как и отправления месс черной каббалы, стали своеобразным бичом, терроризирующим общество. Об этом свидетельствует серия процессов, имевшая место в Париже в 1680 году. Самым шумным из них был процесс Катрин Монвуазен, известной под кличкой Лавуазен (Соседка). В связи с этим процессом были арестованы несколько придворных, в том числе племянница Мазарини Олимпия де Суассон, образ которой – нелицеприятный, очерченный резко, почти до карикатурности, – находим в «Пути в Версаль». Самое же любопытное, что, хоть любовница короля Атенаис де Монтеспан и избежала ареста, начальник полиции Ла-Рени собрал против нее весьма неприглядные свидетельства: «Оказалось, что в течение нескольких лет мадам де Монтеспан добавляла без ведома короля в его еду и питье порошки, вызывающие эротическое возбуждение. Она также пыталась убить свою соперницу, молодую мадемуазель де Фонтанж, пропитывая ее одежду такими ядами, как арсеник, красная сера, желтая сера и аврипигмент, или же ее перчатки отваром персикового цвета»[55].
Союзник Лавуазен, Гибур, показал, что «в начале 70-ых годов, когда Монтеспан боролась против Лавальер, он... купил только что рожденного младенца за 1 экю для отправления черной мессы в присутствии мадам де Монтеспан – возможно, хотя он этого и не признала, над ее обнаженным телом. Он перерезал глотку младенца ножом и собрал кровь в потир. С кровью ребенка была отслужена первая месса; во время второй мессы в качестве святых даров фигурировали сердце и внутренности младенца для приготовления „порошков“ для мадам де Монтеспан. ... Мадам де Монтеспан пропитала арсеником или каким-то другим ядом петицию на имя короля о прощении для отбывающего тюремное заключение друга Лавуазен... Короче, движимая безумной ревностью, она зашла так далеко, что попыталась убить короля»[56].
Очевидно, что авторы «Анжелики» не выдумали ничего из описываемых ими злодеяний Лавуазен и ее пособников Лесажа и Гибура. Об этих фактах истории Франции писал еще Э. Гофман в рассказе «Мадемуазель де Скюдери». Среди уже названных имен там фигурирует и действующий в первом томе романа итальянский алхимик Экзили, и префект парижской полиции Ла-Рени, и его помощник Франсуа Дегре. Тот факт, что эти персонажи, помимо рассказа Гофмана, нашли отражение также в анонимном романе «Опасные пути», напечатанном в редактируемом А. Каспари русском альманахе «Родина» в 1911 году, позволяет предположить, что все они, в том числе и Дегре – личности исторические[57]. Тем более, что и в «Опасных путях» Дегре – бывший медик, из судейских, опальный из-за приверженности к некоему тулузскому дворянину, сожженному на Гревской площади.
Франсуа Дегре – один из ярчайших персонажей романа Голон.
Честный, ироничный, порою даже циничный, он отчаянно защищает де Пейрака на трагифарсе суда, а впоследствии «продал свою адвокатскую должность и посвятил себя более доходному и не менее полезному делу: охоте за злоумышленниками и дурно настроенными личностями. Хотя с высот красноречия погрузился в глубины молчания».
Став «сычом» – офицером парижской полиции, – Дегре сталкивается с Анжеликой во время ее пребывания в банде Никола, а затем – преследуя сочинителя памфлетов Клода Ле-Пти, которого скрывает женщина. Он достаточно изучил ее, чтобы сделать вывод: «Бросаться на мужчин – не ваш стиль» и заподозрить в ее попытках соблазнить его желание помочь поэту скрыться. И Анжелика с ужасом узнает, что напрасно удерживала полицейского: по его словам, он хотел не погубить памфлетиста, а выручить его…
Утраты, удары судьбы приводят Анжелику к желанию покончить с собой. Франсуа Дегре вовремя почуял недоброе. Он применяет для снятия ее стресса, так сказать, психологически-физиологический шок, попросту говоря – овладевает Анжеликой, причем овладевает грубо, обращаясь с ней, как с уличной девкой. «Они отчаянно дрались, она выкрикивала самую низкую ругань, какую могла придумать – Но, запрокинув голову, сама слышала, как она смеется, словно бесстыжая проститутка». И результат не замедлил сказаться; уже три часа спустя подопечная бывшего адвоката с недоумением вспоминает о своем недавнем намерении: «Убить себя? Что за дикая мысль! Да зачем же она хотела себя убить? Право же, не время».
Дегре помогает Анжелике получить патент на торговлю шоколадом. И дает совет: «Не оборачивайтесь на прошлое. Избегайте ворошить его пепел – тот, что развеяли по ветру. Ибо всякий раз, как вы подумаете о нем, вас потянет на самоубийство. А я не всегда буду рядом, чтобы вовремя встряхнуть вас».
Вскоре Анжелика сама приходит к выводу, что нет человека, прожившего полнокровную жизнь и не пожелавшего забыть хотя бы некоторые ее страницы. Но не только прошлое способно заставить ее думать о смерти. В третьей книге цикла желание уйти из жизни вновь приходит к героине в момент мнимого бессилия перед обстоятельствами и могущественными врагами. Мадам де Монтеспан подсылает ей отравленную рубашку. Это доказательство покушения на ее жизнь оказывается в руках Дегре. Вместе со своим патроном, Ла-Рени, он учиняет Анжелике допрос. Анжелика не называет имен. И, оставшись наедине с «сычом» Франсуа, зовет смерть. Дегре, «встряхивая ее, будто желая разбудить от дурного сна», произносит жаркий монолог: «Вы не имеете права так говорить! И умирать права не имеете! Куда девалась ваша воля? Ваш боевой дух! Ясный ум! При дворе их, что ли, отняли у вас?..» К женщине возвращаются воспоминания «о том осеннем дне, когда в маленьком домике на мосту Нотр-Дам он таким удивительным образом выхватил ее из лап отчаяния и вселил в нее новую надежду». Ситуация повторяется, правда, не в том, вульгарном, духе. «Дегре говорит нежности? Дегре сложил оружие? Немыслимо! Его темные, горящие глаза преданно смотрели на нее... и в охватившем ее любовном опьянении она подумала, что Дегре – единственный любовник, который жалел ее... Он один владел искусством правильно обращаться с женщиной в любви. С ним она не чувствовала себя ни презираемой девкой, ни обожаемой возлюбленной».
И вновь его напутствие – казалось бы, последнее:
«– Мой путь мне предначертан, и мне нужна холодная голова, чтоб я мог им следовать, – продолжал Дегре. – Ты вовлекла бы меня в безумие, я не хочу тебя больше видеть»[58].
Однако их встреча происходит на первых же страницах следующего тома: женщина в маске бросается к карете лейтенанта полиции, пытаясь проникнуть внутрь. Но Дегре, узнав Анжелику, колотит тростью по ее пальцам: «Я же сказал, что не хочу вас больше видеть!»
Потому ли, что он, «благообразный мужчина, принадлежащий к лучшему обществу», хотел, как полагает Анжелика, «мучить себя, обрекая свою любовь к ней на полное забвение»? Или потому, что, отвечая на предъявляемые к нему обществом претензии, решился «обзавестись подругой, взяв в жены дочь какого-нибудь честного, рассудительного, бережливого торговца» – он, по собственным его словам, привыкший «к таверне и бардаку», видевший в женщине лишь «хорошее крепкое животное, уютную бабенку, с которой можно делать все, что хочешь»?
Вскоре читатель вместе с героиней романа понимает в высшей степени благородные мотивы его поведения. Спустившись с крыши и войдя в дом Анжелики через окно, Дегре разъясняет, что встречаться открыто им нельзя: король приказал установить за ней слежку, и «очень высокий офицерский чин лично ответствен за ваше присутствие в столице. – Кто это? – Сам помощник месье де Ла-Рени, некто Дегре. Слышали, вероятно?»
Он старается доказать «неукротимой Анжелике», что ее любовь к Жоффрэ – самовнушение, что ни Пейрак, каким она его любила, ни она сама уже не те, что прежде. Анжелика спорит: страстно и с той степенью открытости, какая допустима лишь в разговоре с близким другом. И, прощаясь, Дегре тоном то ли друга, то ли любовника – во всяком случае, человека, преданного настолько, чтобы предупредить об опасностях неверного шага, просит ее не поступать опрометчиво, но не находит в ней понимания: «Упряма, как мул, – вздохнув, сказал он. – Что ж, отныне предстоит выяснить, кто сильней». И Анжелика пускается в очередной поединок с судьбой.
А судьба сталкивает их снова – на сей раз в Ла-Рошели, куда Дегре «стремглав бросился»: не столько потому, что ему поручили «отыскать и изловить» бежавшую туда Повстанку из Пуату, сколько затем, чтоб освободить ее от лап президента королевского комитета по делам религии, Бомье, который «пугал Анжелику больше, чем Дегре. Даже когда Дегре выворачивал ей руку, допрашивая о квартирной краже, между ними было взаимное физическое влечение, которое многое упрощало. При одной мысли о том, чтоб нейтрализовать напористость Бомье собственным обаянием, Анжелика испытывала тошноту. К тому же все его удовольствие состояло в том, чтоб издеваться над жертвой… Одним росчерком пера он мог решить судьбу человека, и в этом состояло его удовлетворение».
Несмотря на приказ, Дегре не намерен арестовать Анжелику. Более того, он дает ей двадцать четыре часа, чтоб она помогла спастись своим друзьям-протестантам. И между делом сообщает об аресте «величайшей отравительницы того времени, а может быть, и всех времен, маркизы де Бренвилье», приподнявшем «завесу над знаменитой драмой отравлений, следы которой обнаружены были у самого подножия трона»[59].
Анжелика укажет ему эти следы и назовет имя Монтеспан в письме из далекого Нового Света, куда будет для выяснения ее личности направлен, стараниями Дегре, влюбленный в нее Никола де Бардань.
Ее письмо «мрачный сыч» благоговейно целует, «чтобы почувствовать ее нежные тонкие пальцы, складывавшие письмо, которое еще хранит аромат ее духов».
Словно не существует разделяющего их океана. Словно только вчера он произнес при прощании в Ла-Рошели:
«– Я люблю вас... Теперь я могу это вам сказать, потому что это уже не имеет значения».
Естественно, что парадоксальный склад характера этого незаурядного персонажа заставляет Анжелику делать парадоксальные сопоставления: «Дегре, Замызганный Поэт – она немного смешивала их в своих мыслях, охотника и жертву: оба были сыновьями Парижа, оба острословы и циники, пересыпавшие низменный жаргон латынью». И, поразмыслив, мы понимаем, что полицейский и сочинитель стишков, оскорбляющих величие короны, – действительно, две стороны одной медали…
Это становится очевидным, когда в Канаде Анжелика получает весточку от Дегре, в целях конспирации анонимную и умело стилизованную под стишки Замызганного Поэта.
П. Декс со ссылкой на профессора Сорбонны, автора пятитомной «Истории французской литературы XVII века» А. Адана, пишет: «В августе 1662 года двадцатитрехлетний парижский адвокат Клод Ле-Пти был приговорен к смерти судом Шатле за то, что написал „стихотворные произведения, содержащие неуважительные отзывы о властях и официальной религии“»[60].
Клод Ле-Пти – один из тех, о ком писал Поль Лафарг: «... были все же писатели, не поддающиеся влиянию... салонов и Академии, за что их клеймили прозвищами либертенов, грязных писак, краснорожих поэтов. Обладая пламенным темпераментом, мятежным духом и большой философской смелостью, они продолжали пользоваться неочищенным языком и писать ходовым буржуазным слогом. Писали они для мещанского общества, состоящего из образованных буржуа и группы независимых дворян, не подчинявшихся установленным правилам»[61].
Образ Замызганного Поэта – Клода Ле-Пти, логически и в соответствии с исторической правдой противостоит в романе приверженцам придворного претенциозного стиля.
Дополняя эту антитезу, незримой тенью присутствует в романе и великий насмешник Поль Скаррон, вдова которого – урожденная Франсуаз д'Обинье, будущая морганатическая супруга Луи XIV, маркиза де Ментенон – один из заметных персонажей трех первых томов романа.
Что до самой Франсуаз де Ментенон, авторы показывают нам ее в период, когда она была еще далека от того, чтобы вытеснить из жизни короля Атенаис де Монтеспан, хотя намек на будущее подруг дан ими еще в первом томе, в сцене въезда монарха в Париж 24 августа 1660 года, который героини наблюдают с балкона Кривой Като де Бове: «Луи XIV проехал мимо трех женщин…, совершенно не подозревая, какую роль они сыграют в его жизни».
В «Пути в Версаль» подруги посещают Катрин Лавуазен, чтоб узнать, суждено ли Атенаис завоевать сердце короля. Гадалка всем трем клиенткам – Атенаис, Франсуаз и Анжелике – предсказывает любовь монарха, и раздражительная Атенаис, возвращаясь от предсказательницы, брюзжит: «Жалкого су не стоит слово этой женщины. В жизни не слышала подобного вздора… Всем одно и то же говорит!»
Да, Франсуаз пока не достигла вершин своей судьбы. Она еще не мадам де Ментенон, она только вдова Поля Скаррона, родившаяся от Констана д'Обинье, заключенного в тюрьму за участие в заговоре Гастона Орлеанского и женившегося на дочери коменданта тюрьмы Жанне де Кордильяк. Названная по имени крестного отца, Франсуа де Ларошфуко, она родилась в тюрьме и выучилась читать по тому Плутарха, а гусей пасла с книгой поэта и моралиста минувшего века Ги Пибрака под мышкой. Поль Скаррон учил жену языкам и искусству стихосложения. Умирая, поэт сказал жене: «Прощайте, вспоминайте иногда обо мне. Я не оставляю вам богатств; и хотя добродетель не приносит их, я все же уверен, что вы всегда будете добродетельны»[62].
Именно добродетель Франсуаз Скаррон позволяет ей увидеть в Анжелике «то, за что многие красавицы отдали бы жизнь, но чего они никогда не получат» – душу.
Тем не менее, «Анжелика с удивлением отмечала, что не находит в ней теплой, доверительной дружбы, какую ей дарила Нинон де Ланкло»[63].
Блестящая парижская куртизанка, салон которой посещали Ларошфуко и Мольер, а также шведская королева Кристина, – остроумная и образованная женщина, один из сыновей которой стал военным министром, а другой – застрелился от трагической любви к собственной матери, Нинон де Ланкло (по утверждению Вольтера, дочь профессионального музыканта), выступает в романе Голон умным и верным другом Анжелики, «наперсницей ее затей», несмотря на то, что она на много лет старше героини романа. Она рассказывает Анжелике историю несчастной любви Сен-Марса к Марион Делорм, которая была всего на три года старше ее самой, и Анжелика просит: «Нинон, не говорите со мной, как бабушка, это вам не идет».
Добродетельность Франсуаз Скаррон – замкнута. Интеллигентная доброта Нинон де Ланкло открыта для дружбы. Этим она и дорога Анжелике.
Супруги Голон о супругах Пейрак. Ч.7
В «Анжелике и короле» авторы отступают от формы собственно авантюрного романа, все более прибегая к приемам романа нравоописательного. Они погружают нас в атмосферу полной противоречий эпохи Луи XIV – времени, когда «двор представлял собою только сборище врагов и соперников»[64], когда «король, окруженный своим двором, охраняющий привилегии дворянства перед буржуазией, а с другой стороны, обеспечивающий буржуазии прочность ее торговых операций, – этот король становится центром национальной жизни, повелителем, нации в целом»[65].
Что привлекает супругов Голон в этом времени?
Вернувшийся на пост президента после двенадцатилетнего перерыва в результате голосования в парламенте, последовавшего за алжирским путчем 13 мая 1958 года, генерал де Голль взял курс на политику режима авторитарной власти. Право назначать председателя Совета министров и распускать Национальное собрание де Голль получил с принятием 28 сентября 1958 года Конституции Пятой республики. Конституции, которую видный деятель Франсуа Миттеран уже в период обсуждения ее проекта назвал «республикой в монархическом корсете»[66].
«В этот период, – указывал Ф. Миттеран спустя четыре года, – это был голлизм, не стесняющийся в средствах... В результате последних выборов мы вступили в новую фазу, которую я назвал бы законоподобной. Но, тем не менее... голлизм был и остается... обреченным на авантюру, равно как и на диктатуру»[67].
Монархические замашки Шарля де Голля распространялись, впрочем, не только на внутреннюю или колониальную политику в Северной Африке, но и на внешнеполитический курс в Европе. «Трибюн де насьон» писала в мае 1962 года: «Придя к власти, де Голль сразу же попытался установить самые тесные связи с Аденауэром. В ноябре 1958 года он встретился с канцлером в Бар-Крейнцихе... Видя, что Франция сегодня не так сильна, как во времена Людовика XIV или Наполеона, хозяин Елисейского дворца решил, что единственным способом вернуть стране ее былое величие может быть воссоздание огромного государства, подобного империи Карла Великого, руководство которым принадлежало бы Франции. Этот нелепый план глава Французского правительства изложил в третьем томе своих мемуаров: „Добиться политического, экономического и военного объединения стран, расположенных в районе Рейна, Альп и Пиренеев, превратить эту организацию в третью могущественную силу на земле, а если понадобится, то и в арбитра между советским и англосаксонским блоками... Именно в этом мой долг“»[68].
Таким образом, вопросы об отношении личности и государства, о централизованной «монархической» власти – диктатуре, захвате этой власти «при поддержке путчей, баррикад, конституционных переворотов» (Ф. Миттеран)[69] были актуальны для Франции рубежа пятидесятых-шестидесятых годов и, понятно, нашли отражение во французской литературе той поры. Именно эти вопросы волновали Мориса Дрюона, писавшего в те годы серию романов «Проклятые короли», в которой за авантюрным, столь презираемым литературным «бомондом», пластом стоят проблемы роли личности в становлении единой Франции и ее независимого положения на международной арене.
Глубокой ошибкой литературоведов представляется нам противопоставление историческим романам Дрюона, Арагона, Шаброля книг Анны и Сержа Голон. Ибо и этот «роман-поток», особенно в первых его частях, теснейшим образом связан с событиями времени его написания.
«Анжелика и король» – книга, воссоздающая историческую картину Франции XVII века до мелочей точно, в то же время поднимает современные ее появлению проблемы централизации власти, роста предпринимательства и гибельного положения народных масс.
Советский литературовед Ф. С. Наркирьер, хоть и с оговорками, усматривает в повествовании М. Дрюона «глубокое противоречие между прогрессивным по своему объективному характеру процессом и тем непреложным фактом, что происходил он за счет народных масс»[70]. Но роман супругов Голон представляется ему, увы, лишь апологией «мелкотравчатого ницшеанства» Жоффрэ де Пейрака в сочетании с «мещанской добродетелью куртизанки» – Анжелики[71]. Приходится, не вдаваясь в сомнительность терминологии автора этих звонких определений, пожалеть, что серьезный критик, автор статей о А. Доде и Э. Ростане в академической «Истории французской литературы», вычитал в многотомном произведении Голон только мотив «бесчисленных измен» Анжелики, не замечая, что авторы дают в своих книгах широчайшую панораму французского общества XVII века от подонков Двора Чудес до венценосных особ.
М. Яхонтова, специализировавшаяся на исторической теме в литературе, иронизировала по поводу «хорошего знакомства авторов с костюмами, прическами и меблировкой комнат в придворных залах и аристократических салонах той эпохи»[72], тогда как, на мой взгляд, писательская чета достойна лишь благодарности за детальное воспроизведение материального антуража времени. Ведь история материальной культуры – это часть истории культуры вообще, стало быть – часть истории развития человеческого общества!
Пространные описания декора выполнены авторами «Анжелики» мастерски, как и жанровые зарисовки в сценах охоты и многочисленных придворных церемоний, и живописно сочные натюрморты, и дивные по яркости пейзажи, и поразительно точная анималистика.
В «Анжелике и короле» мы опять сталкиваемся с недюжинным мастерством авторов в психологической характеристике действующих лиц.
Взять хотя бы образ Филиппа дю Плесси, который поначалу кажется нам нарисованным одной краской, но в дальнейшем предстает необычайно сложной, даже трагической фигурой. В начале повествования – надменный юноша, в дальнейшем – холодный и до садизма жестокий человек, за которого выходит замуж Анжелика, Филипп раскрывается здесь не только как фанатично преданный королю вассал, но как жертва царящих при дворе нравов и сложных чувств, вызванных его запутанными взаимоотношениями с Анжеликой. На наших глазах происходит длительная борьба героини за свою независимость, против тирании мужа. Но вот Филипп спасает жену от свирепого волка, и один из доезжачих говорит Анжелике о «смертельной бледности» ее мужа при виде лошади, вернувшейся с пустым седлом... А потом мы вместе с Анжеликой неожиданно узнаем из уст самого Филиппа о внезапной и короткой любви, испытанной шестнадцатилетним маркизом, в детстве побывавшим в постели месье Кульмера, а в отрочестве – в постели мадам дю Креки. О любви к кузине-Замарашке, которая заставила его понять, что он «мужчина, а не игрушка». Воспоминания об этой встрече вызывают в супругах дю Плесси чувство острой ностальгии. Их беседа передана авторами на какой-то щемяще пронзительной ноте, а упоминание о сорванном юным Филиппом в подарок кузине Анжелике яблоке апеллирует к библейским мотивам перволюбви, тем более, что, по своему обыкновению, авторы проигрывают эту ситуацию дважды: Филипп срывает яблоко в подарок жене вторично уже в версальском парке, райский декор которого скрывает множество тайн куда более инфернального характера, чем восходящее к первогреху познание друг друга супругами дю Плесси. Неотразимый красавец, предмет вожделения придворных дам, Филипп пытается преодолеть собственную испорченность: он просит жену научить его настоящей любви. Анжелика отвечает на его порыв и открывает мужу неведомый ему дотоле прекрасный мир. Но слабым росткам этого чувства не суждено принести плоды. Цинизм двора растоптал их.
Гибель Филиппа неизбежна. Если бы ему не снесло голову вражеским ядром в бою под Табо, он потерял бы ее еще где-нибудь, так же нелепо, повинуясь одному намеку своего сюзерена: не зря ведь Луи XIV вспоминает, как еще в дни их юности Филипп безрассудно кинулся под вражеские пули, чтоб вернуть королю сбитую пулей с его головы шляпу.
Но гибель его произошла значительно раньше: его душу общество убило в детстве, и вся его короткая последующая жизнь, в сущности, была лишь предсмертной агонией.
Помимо Филиппа, в этом томе перед нами проходит целая галерея персонажей. Это и истеричная фаворитка Луи XIV Атенаис де Монтеспан, и терпеливо выжидающая свой звездный час Франсуаз Скаррон, и цинично деловитый Кольбер, и порочная мадемуазель де Бриенн... Страницы книги пестрят точными зарисовками и миниатюрными портретами, составляющими нелицеприятную картину королевского двора, живущего по принципу «мало быть, надо еще казаться», сформулированному самим Королем-Солнцем, – придворного общества, которое Анжелика ставит ниже общества обитателей Двора Чудес.
Однако смело можно сказать, что в центре внимания авторов находится образ самого Луи XIV. Здесь, по сравнению с предыдущими томами романа, перед нами уже выпуклый образ неограниченно могущественного монарха, неуклонно шествующего к вершине своего деспотизма – отмене Нантского эдикта, и в то же время – влюбленного мужчины, причем и в той, и в этой ипостаси ясно видны его величие и слабость.
«Дергающий нити марионеток» король считает нужным как можно чаще видеть своих вассалов при дворе, чтоб у них поменьше времени оставалось на то, чтобы плести заговоры, в провинциях. Так вся жизнь Версаля становится политикой – вся, включая совещания, охоту, завтраки, обеды, ужины, спектакли и всевозможные церемонии. Король сам спит не более трех часов в сутки, но и с остальных не спускает глаз. «Ночью я становлюсь человеком, – сознается Луи Анжелике. – Я люблю... думать, зевать, разговаривать с собаками, не задумываясь о том, что все, сказанное мною, фиксируется для истории... Да, ночь лучший друг королей». Если даже сделать скидку на кокетливость этих слов, то и тогда в них останется правда непростой жизни главы государства; правда, которой не противоречит, впрочем, и упомянутое кокетство, которое с годами выльется, по выражению немецкого историка литературы и искусства Германа Т. Геттнера (1821-1882), в «напыщенное холодное высокомерие, надменную власть, которая надевает на себя длинный парик, чтобы его длинными локонами походить на Юпитера, и которая в этом лживом величии насильственно подчиняет все движения сердца мертвящему однообразию этикета»[73].
Правда, в «Анжелике и короле» тридцатилетний Луи XIV еще не научился сдерживать движения сердца. Его объяснения с Анжеликой полны жарких признаний и горечи, вызванной ее неприступностью. Влюбленный тиран не прочь прощать очаровательной дворянке дерзости, но лишь до поры, до времени. Завершающий эту книгу диалог Анжелики и короля раскрывает во всей неприглядности отталкивающую капризную сущность тирана.
«Как же мой муж угрожал спокойствию вашего величества?» – спрашивает Анжелика и получает исчерпывающий ответ: «Самим фактом своего существования. Выдающиеся всегда были и остаются моими злейшими врагами». Здесь образ Луи, нарисованный Голонами, смыкается с образом Короля-Солнца, каким его дал в своих произведениях о Мольере Михаил Булгаков.
Критика много иронизировала над участием Анжелики в дипломатической жизни Франции. Но авторы романа приводят историческую справку: интеллигентных женщин использовал для своих политических целей еще Ришелье. А влияние женщин при дворе Луи XIV общеизвестно! К тому же, история подписания договора Франции с Персией, описанная в романе, лишь косвенно относится к героине: она только вела с персидским послом переговоры, которые помогли избежать досадного недоразумения.
Текст книги не содержит сведений о том, что Анжелика подписывала этот договор.
Другое дело – вполне понятное желание занять какой-нибудь официальный пост, чтоб узаконить свое положение при дворе. Не чужда ей и жилка предпринимательства. И вот она становится держателем акций основанной Ришелье и расширенной Кольбером Французской Ост-Индской компании, а затем покупает у мадемуазель де Бриенн должность консула Франции в Канди. Исторически это вполне правдоподобно. Луи и Кольбер всячески старались привлечь дворянство к торговле и рекомендовали дворянам становиться пайщиками различных компаний. «На собрании Ост-Индской компании в Тюильри в 1668 году Луи заметил, что изучил список тех, кто взял назад свой пай, не желая рисковать какой-то малой суммой ради столь важного дела для королевства. Дела, столь дорогого для короля. Он сказал, что предпочел бы не помнить этих имен, но память у него слишком хороша, чтоб их забыть. Между тем сам он сделал подписку еще на 500 тысяч Фунтов»[74].