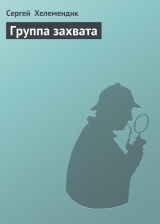
Текст книги "Группа захвата"
Автор книги: Сергей Хелемендик
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Висевшая на шее Феликса портативная рация запищала. Его вызывал Андрес.
– Феликс, что там такое? Что за стрельба? Ты слышишь меня?
– Слышу…
– Феликс, я ничего не понимаю! Там машина! Они кричат, чтобы я пропустил их в убежище!
– Кто они?
– Из нашего батальона! Они на обычном грузовике. Кричат, что хотят вместе с нами в убежище…
– Андрес! Слушай меня внимательно. Разверни машину так, чтобы она прикрыла дверь в убежище, и открой мне люк. Если кто-нибудь попробует приблизиться, стреляй не раздумывая. Я сейчас иду. Разворачивай машину…
Феликс поднял винтовку.
– Молиться вас учили?
– У меня бабушка молилась, я помню… – пробормотал один из них. – Сейчас вспомню, подожди! Она говорила… Подожди, сержант. Мы с тобой защищать их будем, слышишь! Мы лучше будем их защищать…
Феликс выстрелил в каждого по два раза. Разрывные пули тем хороши, что каждое попадание смертельно.
– Мужчины есть? – обратился он к людям.
– Мужчин они увели в подвал и расстреляли сразу! Сказали, что дадут им оружие, и увели! – из толпы вышла худая некрасивая девушка.
– Тогда слушайте! Вот ты, – он обратился к девушке, – ты будешь здесь старшей, и все вы будете слушать ее. Я оставляю рацию. Наверху наша машина, я иду туда. Была фронтальная нейтронная атака, и, может быть, таких кровожадных много… Оружие этих пусть возьмут те, кто умеет стрелять. Нас наверху только двое. Я и мой друг. Он получил семьсот нейтрон… Так что я один…
– Давайте сюда вашего друга, – предложила девушка, получившая от Феликса рацию. – Я врач, и здесь есть еще врачи. Мы поможем ему.
Феликс кивнул.
– Я поднимусь и скажу, когда можно будет. Две женщины покрепче и ты заберете его. И… девочку, там, у двери… Сделайте ей укол! Она не выживет… – Феликс резко повернулся и направился к выходу.
«Наверное, эти убитые ее мать и дед…» – подумал он, кинув взгляд на лежавшие неподалеку от девочки тела. Она была еще жива и продолжала еле слышно, нестерпимо жалобно стонать…
Андрес был совершенно белым. Он сидел в кресле боевого пульта и двумя руками держался за поручни. В салоне стоял тяжелый, тошнотворный запах рвоты.
– Ну, что они? – Феликс закурил, чтобы перебить запах.
– Вон смотри сам… Приехали еще две машины. Но они ничего пока не говорят. Просто стоят… Мне плохо, Феликс… Я умираю. Сейчас, уже скоро… Расскажешь моим… Что там внизу?
– Там Боров, подсвинки и еще пара таких же подонков устроили резню. Не нашли пленных и решили отыграться на своих. И я боюсь, что эти на машинах хотят того же. – Феликс поднес к губам микрофон и сказал: – Эй, как тебя зовут, давайте сюда, быстро!
– Сейчас идем! Меня зовут Кэрол. А вас? – вопрос девушки показался ему нелепым.
– Феликс… Скорее забирайте его! – он подтащил Андреса к люку и передал в руки Кэрол и двух женщин. – Это врачи. Они помогут…
– Не оставляй их… – прошептал Андрес. – Я бы твоих ни за что не оставил…
– Все будет в порядке… – Феликс говорил чужим голосом.
Бортовая рация машины замигала. Это означало, что на связи кто-то из их дивизии.
– «Убийца-113В», вас вызывает командир батальона! – Феликс узнал голос майора.
– Старший сержант Вагнер слушает вас!
– Что вы делаете, Вагнер? – злым голосом спросил майор.
– Весь экипаж получил большие дозы! Мы направились искать полевой госпиталь, но наткнулись на это убежище. Здесь несколько подонков устроили такое, что страшно рассказывать. Короче, они начали убивать своих, потому что не нашли пленных…
– А вы?
– Я перебил их…
Майор надолго замолчал. Затем заговорил задыхающимся голосом:
– От лица командования я благодарю вас, Вагнер! Вы поступили как настоящий солдат! Вы будете представлены к ордену Благородного Легиона.
– Я уже полный кавалер…
– Тем лучше! А вы, какую дозу получили вы?
– Триста пятьдесят.
– Не теряйте времени, Вагнер! Отправляйтесь в госпиталь! Ваше место уже в Зоне Безопасности! Я лично подам рапорт генералу о вашем благородном поведении. Сейчас подъедет машина, и езжайте! Об охране убежища мы позаботимся сами…
Феликс улыбался во весь рот. Он был счастлив. Ожидать можно было чего угодно. Бог знает, как могли отнестись в штабе дивизии к тому, что он перебил Борова и всех остальных. А если майор сам направит рапорт, это снимает все вопросы…
– Сейчас мой адъютант примет у вас боевую машину, и поезжайте! – нетерпеливо повторил майор.
В микрофоне послышалась какая-то возня, и Феликс услышал пьяный голос:
– Сейчас приму машину… Слюнтяй же ты, Вагнер! Щенок сопливый! Из-за тебя мы потеряли уже полчаса! Кретин! Вылазь из машины к чертовой матери и убирайся!.. – пьяный голос оборвался, и Феликс снова услышал майора:
– Не обращайте внимания, Вагнер! Тут у нас один раненый в машине. Сошел с ума! Захватите заодно и его в госпиталь! А лучше знаете что, Вагнер, оставьте машину на месте и идите к нам! Мы сейчас подъедем… – голос майора начал пресекаться. Он задыхался от волнения.
– Сколько у вас, майор? – тихо спросил Феликс.
– Чего сколько?
– Сколько нейтрон? Только не лгите, майор. Или вам это будет дорого стоить! – майор молчал. – Я вас понял, майор. Вам тоже захотелось… А если где-то здесь рядом режут на куски ваших детей? Что тогда, майор! – Феликс перешел на крик.
– И пусть режут! Идиот! Мы все подыхаем! Если ты не уберешься, мы разнесем на куски машину вместе с тобой! Чего ты добиваешься? Получил свои триста пятьдесят – и отвали! Твое место в Африке, под солнцем! А у меня шестьсот пятьдесят! У меня всего три часа, не больше! – майор громко дышал в микрофон.
– Ладно, я ухожу… – медленно произнес Феликс. Он приник к электронному прицелу. – Но я уйду вместе с машиной – так безопаснее! – скорострельная ракетная установка «Смерч» была готова открыть огонь в режиме самонаведения.
– Майор, он целится! – донесся крик из микрофона, и Феликс нажал кнопку. Стая ракет превратила машины в пылающие обломки. Феликс вывел «Убий-цу-113В» на перекресток, остановился и равнодушно посмотрел туда, где только что стояли машины.
«Воевать против родной доблестной армии тоже можно…» – подумал он, и растерянная улыбка искривила его губы. Теперь самое разумное спрятаться в госпитале. Феликс бросил взгляд на плакат – такие плакаты в обязательном порядке размещают в салонах боевых машин, ибо они поднимают дух. «Зона Безопасности – цель настоящего солдата!» – говорил, широко улыбаясь, белозубый мужчина, сфотографированный на склоне зеленого холма в Африке, окруженный смеющимися детьми. Феликс был уже почти у цели. «Трансплантация! Как можно скорее трансплантация!» – он е неожиданной тоской посмотрел на часы: полтора часа с момента поражения уже прошло. Ждать нельзя. Ни минуты!
Он переключил бортовую рацию на связь с Кэрол.
– Что там происходит? – спросила она.
– Ничего! Как Андрес?
– Я уколола ему наркотик. Он отходит… Еще несколько минут… Жалко. У него хорошее лицо.
– Послушай меня, Кэрол. Я останусь на перекрестке еще пятнадцать минут и прикрою вас, но только пятнадцать минут! Мне тоже нужно… У меня есть дети… Потом я уйду. Вы должны разбежаться и спрятаться! Ты поняла? Объясни это всем! Разбегайтесь! Вместе вы будете приманкой…
– Я поняла вас, Феликс! Мы так благодарны…
Феликс выключил рацию и повернулся к панорамному перископу. Пока все отлично. Вокруг никого. Скорее, пусть они скорее выбираются! Из двери убежища показались люди. При свете дня он смог хорошо рассмотреть их. Старухи, дети и несколько молодых женщин. Потом вышла мать с младенцем на руках. Она отошла несколько шагов от двери, остановилась и начала махать рукой в сторону боевой машины «Убий-ца-113В».
Феликс заулыбался и вдруг зарыдал коротким, похожим на лай, плачем. Как они могли… Он убивал бы Борова снова и снова…
Перед глазами Феликса появился Мартин. Как умеют улыбаться полугодовалые, беззубые малыши! Словно они точно знают, что весь мир любит их, готов носить их на руках, целовать, восхищаться ими! Словно они могут одарить весь мир такой же нежностью… Мартин почти не знал отца. За те короткие часы, которые Феликсу удавалось украсть у войны, Мартин не успевал к нему привыкнуть и каждый раз, встречаясь с отцом глазами, отворачивался и улыбался застенчиво и нежно. Где он сумел научиться так нежно улыбаться, беззубый малыш?.. Десять тысяч раз убить Борова! Загрызть зубами!
Кэрол вышла последней. Она держала в руке портативную рацию. Феликс услышал ее голос:
– Феликс, подождите немного! Можно мне залезть в вашу машину? Мне нужно сказать вам что-то важное!
– Хорошо, я открываю люк! – Девушка проворно влезла и, сев на кресло рядом с боевым пультом, тихо произнесла:
– Тут рядом, в двух кварталах отсюда, другое убежище. Там мой ребенок. Это по дороге в госпиталь. Я вам покажу…
Феликс изумленно смотрел на девушку. Потом выругался и заорал:
– Ты спятила, дура! Ты что, решила, что тут появился рыцарь, который будет спасать всю нацию от ее же солдат? С меня хватит!
– Вы меня не поняли, Феликс! Просто подвезите меня! Так будет быстрее… И можно, я возьму это… – она потянулась к лежавшей на полу винтовке Андреса.
– Показывай дорогу! – прорычал Феликс.
Боевая машина «Убийца-113В» понеслась по мертвым улицам. Вход в убежище они увидели издалека. Два «Убийцы» и один грузовик стояли у искореженной взрывом двери. Девушка мелко задрожала, схватила Феликса за руку и потребовала:
– Притормозите! Я выскочу, а вы скорее уезжайте! Я думаю, они все внутри… – Кэрол взвела затвор винтовки и бросилась к люку. Феликс молча открыл люк и выпустил ее. Девушка спрыгнула на землю и побежала к входу в убежище. Он проводил ее взглядом. Потом вдруг страшно выругался и побежал следом. Он услышал крики детей, и страх покинул его. Десять тысяч раз убивать Борова! Загрызть его зубами!
«А ведь машины нашего батальона…» – это была последняя мысль, которая родилась в его голове.
Они были убиты одной очередью. Лежавший внизу у входа в основной отсек часовой доживал последние минуты. Его оставили у двери, вложили винтовку в холодеющие руки. Падая на ступеньки, Феликс всем телом надавил на кнопку «семейной» рации. Он был уже мертв, когда из его кармана донесся тревожно-радостный голос жены:
– Феликс, наконец-то! Где ты? По радио передают такие страшные вещи! Что с тобой? – и взволнованный голос старшей дочери Люси: – Папочка, ты где! Па-а-а-п! Мы так боимся! Мама плачет даже…
А там внизу, в убежище, заглушаемый криками детей, суровый голос предупреждал по городской радиосети:
– Внимание, внимание! Военный комендант передает экстренное сообщение! На нашем участке Линии Фронта произошла беспрецедентная за всю историю войны нейтронная атака! Эти варвары вероломно нарушили Договор, и тысячи наших солдат получили смертельные дозы радиации. Возникла угрожающая ситуация, известная под названием «психоз обреченных». Военный комендант рекомендует населению города рассредоточиться. Избегайте публичных убежищ! Постарайтесь спрятаться! Командованием принимаются меры с тем, чтобы вернуть контроль над ситуацией. В городе находятся военнослужащие, охваченные кровожадными намерениями. Генеральный штаб перебрасывает по воздуху войска, и в ближайшие несколько часов город будет очищен! Призываем к осторожности!.. Внимание, внимание! Военный комендант передает предупреждение…
* * *
– Вы в самом деле надеялись это напечатать? – спросил учитель.
– Да… – признался я. – Мне казалось, что в рассказе нет ничего крамольного. Кстати, его чуть не напечатали. Правда, главный редактор потребовал, чтобы я написал, что так жестоко ведут себя представители вконец разложившихся империалистических государств, погрязших в кровавых войнах. Стыдно признаться, но я пошел на это, сделал вступление, в котором именно этими словами написал все, что хотел этот чиновник. Знаете, что он сказал? Сначала он похвалил вступление, а потом запричитал:
– Нет, мы не можем так пугать наших читателей! Получается, если выжили империалисты, то нас, мира социализма уже нет! Зачем мы будем пугать своего читателя такой перспективой!
– Но это вы сами велели написать, что они империалисты! – возразил я – и вообще, какая разница, как это называть! Они просто люди, которые дошли до логического завершения того пути, по которому идет человечество сегодня…
– Ну, знаете! – завопил он. – Я думал, вы про империализм, а это уже пахнет черт знает чем!
Он струхнул, что чуть было не напечатал это. Я забрал рассказ и перестал с ним здороваться. Но логика этого литературного фельдфебеля и сейчас сводит меня с ума. Это логика проститутки, испугавшейся вдруг, что может не угодить старому клиенту.
– Конечно, я не критик и не возьмусь даже судить о литературных достоинствах, но… – учитель запнулся. – Ваш рассказ когда-нибудь напечатают, поверьте мне.
– Вы меня утешаете! – рассмеялся я. – Этот экземпляр я забрал из почтового ящика, когда уезжал сюда. Вернули из еще одного журнала с рецензией.
– А вы не позволите взглянуть? – попросил учитель. – Любопытно, что они пишут!
Я протянул ему смятый листок грязно-серой дешевой бумаги, на которой рецензент настучал свою отповедь. Учитель быстро пробежал глазами и возмущенно затряс головой.
– «…царит бессмыслица, кровавый хаос, – процитировал он. – Спрашивается, каким образом писатель, «питомец муз», овладеет хаосом, если в описываемой реальности и нет духовных опор?» Что за странные вопросы задает этот человек? – воскликнул учитель. – Кому в нашем мире дано овладеть кровавым хаосом? И может ли писатель претендовать на это, даже если духовные опоры есть? – на лице учителя появилось брезгливое выражение. – «Он живописует кошмар, где идеальные начала сдались на милость инстинктам: инстинкту разрушения, садистской жажды мучить и наслаждаться зрелищем чужого страдания. Проблески человечности оставлены центральному герою, но и он звереет в общем кошмаре!» – учитель снова покачал головой.
– И заметьте, как у нас любят обижать животных! – сказал я. – «Звереет» – считается ругательством высшей пробы, хотя звери никогда не додумывались и, надеюсь, не додумаются до подобного.
– Да не в этом дело! – раздраженно произнес учитель. – Вы цепляетесь к слову, а дело в том, что этот критик ничего не понял. Что значит «проблески человечности»? Ваш герой жертвует не просто своей жизнью, а, может быть, жизнью своих детей единственно ради импульса помочь другим, чужим истязаемым детям! Хотя помочь он им не может! А рецензент ваш пишет, что герой тоже звереет. Он или тупица, или рассказа не читал. Ваш герой романтик, Дон-Кихот. Вы хорошо назвали рассказ…
Я подошел к учителю и взял у него из рук грязно-серый листок с рецензией.
– «В самом человеке автор не находит никаких гарантий против расчеловечивания. И не ищет! Оттого рассказ, вроде бы заостренный против милитаризма, оказывается злой карикатурой на человека». Ублюдок! Он плетет из словечек, как кажется ему самому, очень хитрую паутину: «гарантии против расчеловечивания». Эти словоблуды, эти обиженные богом недоучки, которых наша скорбная судьба вознесла на литературное поприще, утопят нас в своем дерьме! Если бы в образованном русском обществе сто лет назад услышали подобный бред, непременно решили бы, что написал это обученный грамоте лакей, Смердяков, которого научили писать политические доносы. Вот смотрите, как он заканчивает: «Боюсь, что, напечатав этот рассказ, мы создадим опасный прецедент: и другим повествователям может показаться заманчивым сочинять версии новейшего Апокалипсиса». Он никогда не читал Апокалипсиса! Иначе бы знал, что, если бы я в самом деле умел сочинить новую версию, меня можно было бы ставить в один ряд с Иоанном Богословом! Сочинять Апокалипсис не надо никому, потому что он уже сочинен…
* * *
С улицы донесся громкий треск. Мы бросились к окну и увидели, как распахивается сломанная калитка и во двор входит Николай Волчанов с ломом в руках. Следом за ним шел Геннадий Волчанов – на этот раз я хорошо рассмотрел его: худой, бледный подросток, весь в угрях. Лицо маленькое, плоское, как маска. Очень подвижные, живые глаза. Было видно, что он, несмотря на юный возраст, сложнее и умнее своего свирепого краснорожего брата. Последним шел сержант милиции. Он нес перед собой на вытянутых руках телефон, за которым тянулся по земле провод.
– Телефон… – прошептал учитель.
Я бросился к входной двери и столкнулся с дедушкой Гришей, который так зло посмотрел на меня, когда я сунулся вперед, что я тут же пропустил его, вернулся к печи, поднял чугунную кочергу и пошел следом за ним в сени. Снова совсем рядом раздался страшный грохот: Николай Волчанов ударил ломом на этот раз уже во входную дверь. Дедушка Гриша открыл дверь и гневно закричал:
– Ты что делаешь, подонок! Ты зачем калитку сломал, сукин сын? – он двинулся на Волчанова. – Тоже мне, милиция! Тебе кто право дал двери ломать!
Николай Волчанов словно не слышал его. Он картинно оперся на лом и смотрел на меня, изучал, как можно изучать железнодорожное расписание. Потом вполголоса сообщил:
– Отец велел телефон вам поставить. Говорить будет с тобой! – предупредил он меня и сплюнул на клумбу с ноготками, которую дедушка Гриша разбил под окнами. – На пушку нас берешь, падло! – хрипло произнес он. – Отец все не верит, а я сразу усек – испугать хочешь ежа голой жопой! Козел… – он выругался просто и свирепо.
Я не выношу, когда меня ругают матом. Сегодня подобное заявление звучит как вызов, как покушение на сами основы нашего общества, но любое ругательство в мой адрес вызывает у меня непобедимое желание ударить обидчика. Первый порыв был ударить Николая Волчанова кочергой по голове. Но это означало раскроить ему череп, что было бы слишком жестоко. Я отступил на шаг и швырнул кочергу ему в ноги, как швыряют биту в «городках». Он свалился на землю, истошно заорал и схватился за ногу двумя руками.
Затем я подскочил к младшему Волчанову, схватил его за грудки, поднял и швырнул на бревенчатую стену дома. Он сильно стукнулся всей спиной и затылком, но остался на ногах и неожиданно прытко отскочил к забору. Толстый парень с бычьими губами в милицейской форме, с телефоном на вытянутых руках испуганно пятился в сторону сломанной калитки. Волчанов-младший подлетел к нему, рывком вытащил у него из кобуры пистолет, и снова, второй раз за этот день, пистолет Макарова смотрел на меня пустым черным глазом. На этот раз мне было страшно: я видел, как Волчанов-младший решает, стрелять или нет. Эта борьба отражалась в его глазах.
Николай Волчанов перестал орать, поднялся на ноги и, прихрамывая, кинулся ко мне. Этот дегенерат с тупой квадратной рожей кирпичного цвета бросился на меня, ослепленный болью и жаждой мести. И я встретил его. Это был один из прекрасных моментов в моей жизни, который я буду с гордостью вспоминать до конца своих дней! Я встретил его ударом кулака в нос. Удар был безупречно красивый, точный. Все восемьдесят килограммов моего веса были в тот миг на острие удара. Я услышал хряск, Николай Волчанов как бы взлетел в воздух, широко раскинув руки, а затем грохнулся на землю. Его лицо залила кровь такая темная, что на миг показалась мне черной.
– Ну, что ты не стреляешь, щенок! – закричал я, обращаясь к Геннадию Волчанову. Но тот не собирался стрелять, он расслабленно опустил руку с пистолетом и улыбался.
Во двор, топая толстыми ногами в сапогах, вбежал Филюков. Увидев Николая Волчанова на земле, он изменился в лице и бросился его поднимать. Филюков не смотрел в мою сторону, он боялся встретиться со мной глазами.
– Оставь телефон и пошли! – прокричал он сержанту. Тот послушно поставил телефон на землю. – Помоги… – неожиданно энергично выругался Филюков, и сержант подскочил поднимать Николая Волчанова, который пришел в сознание и захрипел: «А-а-а…»
Волчанов-младший не участвовал в этих хлопотах. По его бледному лицу продолжала скользить улыбка. Как я понял потом, избиение брата доставило ему такое удовольствие, что он боялся пропустить хотя бы часть сцены. Он покинул двор последним, пятясь задом и не переставая слегка помахивать пистолетом. Был какой-то артистизм в его движениях.
Телефон одиноко стоял на траве, провод от него тянулся за калитку. Я подошел и взял телефон в руки. Это был примитивный аппарат без цифрового диска, дедушка современных телефонов. По таким говорили, наверное, одетые во френчи предшественники Волчанова в тридцатые годы. Я снял трубку, приложил к уху и услышал голос прокурора Волчанова:
– Алло… – голос звучал так ясно, словно Волчанов стоял рядом со мной.
– Добрый день! – приветствовал я его. – Как уши?
– Ничего…
– Слава богу! Кстати, ваш сын сейчас получил по носу.
– Ничего, ему это на пользу! – с оттенком отцовской нежности в голосе ответил Волчанов.
– И вам тоже очень полезно! – поддержал его я. – Уши не покраснели?
– Нет! – голос Волчанова налился яростью. – Хватит болтать! Вам поставили телефон на три часа. Если через три часа не примете наши условия, все будет кончено…
– Все будет кончено раньше! – заорал я. – Наши люди уже в городе!
– Какие люди? Что ты несешь? – и снова я отчетливо услышал в его голосе страх. – В городе никого… Ты нам за это заплатишь! Шкуру с тебя снимем!
– Приходи и снимай! – пригласил я. – Мне уже ждать надоело. Твои ублюдки целый день грозят мне оружием, а стрелять не стреляют. Не умеют, наверное! Или чувствуют, что тебе труба, и не хочется им вместе с тобой к стенке…
Я услышал короткие гудки.
* * *
После чая я пошел вслед за учителем в его комнату, чтобы взять какую-нибудь книгу. Учитель молча лег на кровать. Он был очень бледен, на лице проступили мелкие капли пота.
– Вам нужен врач.
– Ничего серьезного, уверяю вас! – он говорил с заметным усилием. – У меня нездоровая печень, да и весь я нездоров, но это неважно. Не обращайте внимания… Знаете, я начинаю думать, что вы родились в сорочке. Когда Геннадий Волчанов добрался до пистолета, я решил, что все кончено. Я даже глаза закрыл, честное слово! Он должен был выстрелить. Он самый страшный из них, он убьет не задумываясь.
– Вероятно, отец запретил стрелять.
– Они плевали на отца! Нет, тут что-то другое. Вы представить не можете, насколько он злопамятен.
Он весь – комок злобы… А тут у него был пистолет – и он не выстрелил. Я чего-то здесь не понимаю…
– И слава богу, что не выстрелил! Я пойду в горницу, а вы поспите!
– Вы говорите, как земский врач… – улыбнулся учитель.
Я взял томик Бунина и вышел в горницу. Дедушка Гриша был на кухне, там лилась вода, и было слышно, как он что-то напевает себе под нос. Я тихо подошел к двери на кухню – дедушка Гриша пел: «День победы, как он был от нас далек, как в огне потухшем таял уголек…» – я рассмеялся и сразу задавил свой смех ладонью, чтобы он не услышал. Продолжая улыбаться, я подошел к окну, посмотрел на пустую улицу и взялся за Бунина.
«– Позвольте, господа! Вот вы говорите – свобода… Вот я служу письмоводителем у податного инспектора и посылаю статейки в столичные газеты… Разве это его касается? Он уверяет, что он тоже за свободу, а между тем узнал, что я написал о ненормальной постановке нашего пожарного дела, призывает меня и говорит: «Если ты будешь, сукин сын, писать эти штуки, я тебе голову отмотаю!» Позвольте: если мои взгляды левее его…
– Взгляды? – альтом карлика вдруг крикнул сосед молодого человека, толстый скопец в сапогах бутылками, мучник Черняев, все время косивший на него свиными глазками. И, не дав опомниться, завопил:
– Взгляды? Это у тебя-то взгляды? Это ты-то левее? Да я тебя еще без порток видал! Да ты с голоду околевал, не хуже отца своего, побирушки! Ты у инспектора-то ноги должен мыть да юшку пить!
– Кон-сти-ту-у-ция, – тонким голосом, перебивая скопца, запел Кузьма…»
Этот диалог поразил меня, когда я был еще совсем юн и полон веры в добро и красоту. Я не мог понять, кто из них хуже, – скопец со своими глазками или либеральный письмоводитель. Тогда во мне зародился неотчетливый протест, против чего – я еще не понимал. Сейчас понимаю…
Какие взгляды могут быть у нищего! Почему этот вопрос не задавали у нас в школе, когда толковали «На дне»… Ведь это просто: у нищего может быть только один взгляд, если только он в самом деле нищий, а не странствующий философ, которыми всегда была богата Россия. Взгляд нищего таков: нужно поесть! Он голоден, ему негде спать, и нищий готов разделить взгляды любого, кто его накормит и приютит. Готов ноги мыть и юшку пить, готов повторить любую гадость, мерзость, потому что он знает: за этим пустым словоповторением последует вкусная горбушка и, может быть, даже место в теплом хлеву. На целую ночь!
Значит, если ты хочешь, чтобы твои взгляды разделяли все, нужно сделать всех нищими! И не надо будет никого убеждать. И ничего не надо будет доказывать. Все будут по сто раз на день повторять, что их взгляды заключаются в том, что они все вместе как один человек считают свои взгляды самыми добрыми, а себя самыми счастливыми… К этой простой, хотя и парадоксальной мысли, я пришел уже взрослым человеком. Но ведь кто-то сделал этот великолепный вывод намного раньше меня!
Когда человек голоден постоянно, когда голодными росли его отцы и деды, нет ничего легче, чем внушить ему: все беды мира от тех, кто сыт. Ты нищий потому, что сыты они! Тут даже внушать не надо, голодный человек непременно сам додумается до чего-нибудь такого. А уж идею о том, что движение человечества в веках определяли интересы желудка, голодный воспринимает не иначе как аксиому. А как же по-другому? А о чем еще думать?
И тут ему легко подсказать новый, простой, как грабли, идеал: будем убивать сытых, жирных, пухлых! Они разъелись на наших хлебах. И хотя нищий в жизни никогда не работал, своего хлеба не добывал, он с восторгом встречает этот новый светлый идеал: вырежем всех сытых и пухлых! Это можно сделать очень быстро и приятно. А тогда он непременно сделается сыт! Но увы, увы, увы…
Потом годами, десятилетиями, веками, может быть, эти нищие и их потомки будут петь, сглатывая слюнки: «Ах, какие мы сытые, ох, как нам тепло в наших норах!» Но сытыми они не станут – песня о сытости заменит им саму сытость. Ибо убийство сытого не делает голодного сытее. Оно делает его убийцей, порождает ненависть и страх мести, заставляет убивать еще и еще. Но сытым не делает! Потомки этих нищих будут уже по привычке тоскливо и безнадежно призывать убивать сытых, и будет казаться, что так будет уже всегда, что всех сытых рано или поздно вырежут, и все станут восхитительно голодны и равны…
Но, к счастью, это не так! Стоит накормить нищего, накормить раз, два, три, может быть, пять раз – и, странное дело, начинает на глазах увядать святая идея ритуального убийства сытых, великий идеал, гласящий: убив своих сытых, мы сделались счастливее всех в мире и призываем тех, кто пока еще голодает под игом своих толстяков, немедленно вырезать этих мерзавцев! Ибо они – существа другой породы, не люди – сытые свиньи, и, чем больше их убиваешь, тем милее ты всемирному нищенству…
Эта стройная идейная конструкция улетучивается, как утренний туман, стоит только накормить нищего! Стоит дать ему вволю наесться хотя бы три раза, а лучше – пять… Нищий забывает о еде, начинает читать, писать, смотреть видео и вдруг с ужасом ловит себя на том, что он тоже сытый! Что его, именно его вместе со всеми домочадцами и нужно вырезать согласно его же любимой идее! И вот тогда, оказавшись в опасности, он лихорадочно открывает множество древних и новых книг и, ухватившись за первую подходящую фразу, жалобно вскрикивает: «Нет! Здесь был перегиб! Не только голодное брюхо направляло людей во все времена! Было что-то еще, была любовь, красота, нравственность, – он пока еще не знает, что это за слова, пока просто хватается за них, как за соломинку. – Все это было вместе с брюхом конечно. Без брюха никуда не уйдешь, оно – главный двигатель прогресса, но выпячивать только одно брюхо – антинаучно! Это скотство натуральное!» Так кричит вчерашний нищий, слюна брызжет у него изо рта, он буйно радуется: он открыл путь к спасению! Но он открыл лишь то, что хорошо знали люди тысячи лет назад, в том числе и его прадеды, нищими не бывшие…
* * *
Телефон ожил и резко затрещал. Зазуммерил, как говаривали в годы первых пятилеток. Я снял трубку.
– Алло! – это снова был голос Волчанова.
– Hola, Comemierda!*– ответил я по-испански. Волчанов молчал.
– Алло! – повторил он наконец. – Вас не слышно… – У уо te oigo muy bien, mariconcitol**– я засмеялся.
– Ну ты… – Волчанов выругался матом. – Ты у меня сейчас допрыгаешься.
– Будешь грубить, оборву шнур! – ответил я. Угроза возымела действие. Волчанов помолчал и с тревожной, заискивающей интонацией спросил:
– И что же теперь? – он не верил, до сих пор не хотел поверить окончательно, что я блефую. Осознав это, я возликовал как ребенок и подмигнул дедушке Грише, который появился в дверях горницы и с удивлением смотрел на меня.
– Теперь – все! – сказал я. Мои слова ранили слух Волчанова, я ощутил это всей кожей.
– Что – все?..
– Все – это значит все! Группа захвата в городе. Мы ждем людей из области. Как только они приедут, все будет кончено! – насчет области я переборщил.
– В городе нет никакой группы… – медленно произнес Волчанов. – Ты все врешь! Нет никого, мы весь город перерыли!
– А чего же вы тогда ждете? – заорал я. – Чего вы в штаны наложили и воняете на всю округу? Давно пора голову мне свернуть, а вы все писаете себе в компот! Телефон принесли… – я сделал паузу. – Страшно, убивец ты наш? Страшно?.. А я хочу попросить, чтобы тебя не стреляли, а отдали родителям убитых детей. Чтобы они сами тебя…
– Ладно, хватит… – пробормотал он. В его голосе появилась решимость.
– Хватит так хватит! – согласился я. – Конечно, насчет группы захвата я пока преувеличил. – Я круто изменил тон и стал серьезен и строг. – Но человек мой в городе есть. Тут ты не зря волнуешься. Я не стал бы один без страховки в ваше дерьмо залазить! И если хочешь говорить серьезно, то говорить надо со мной и с ним…
– Так давайте пригласим его и вместе спокойно обсудим обстановку! – Волчанова подменили: в его голосе появился былой шарм, былая приветливая готовность услужить. Это снова был старый добрый Волчанов, с которым вместе так легко пился французский коньяк.
– Если договариваться, то только вместе с ним… – я замялся. – Он деловой человек, и, думаю, с ним можно будет…
– Конечно, договоримся! – пропел Волчанов. Он снова клевал. – Договоримся! Ведь вы умный человек. Честное слово, у меня к вам с самого начала ничего, кроме симпатии. Я не понимаю, зачем вы так, какой вам смысл? Вы не представляете себе, что здесь за народ. С ним нельзя по-другому! Думаете, я не пробовал? Еще как пробовал. Они добра не понимают. С ними только строго можно! – Волчанов сыпал словами все быстрее, словно боялся, что телефонистка прервет наши переговоры, – Все это сказки насчет детей, вы этому не верьте! Это все Рихард Давидович! Нет, вы не подумайте, я его искренне уважаю. Мы с ним беседовали не раз, убеждали, спорили. Он кристальный человек, но выдумщик…








