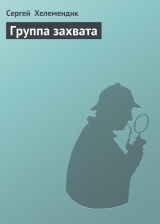
Текст книги "Группа захвата"
Автор книги: Сергей Хелемендик
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
– Отвезу вас… Ничего! Не долго им осталось!
Я подхватил учителя с другой стороны, и мы медленно двинулись в сторону ворот. Когда мы подровнялись с неподвижно лежавшим на асфальте юным красавчиком, тот застонал и пошевелился. Бульдог сразу остановился, затем кинулся и схватил красавчика за шиворот.
– А, очухался! – радостно пробормотал он, легко отрывая тело вожака от земли.
Но тот закатил глаза и томно обмяк, как будто снова потерял сознание от страха. Бульдог жестоко потряс его и отшвырнул в сторону. И тут красавчик стремительно ожил и бросился бежать. Бульдог удивленно проводил его взглядом и сплюнул.
– Вот лис! Я его мордой в унитазе полчаса держал, когда он к Наташке, дочке моей, пристал, – пояснил он, вращаясь ко мне. – Да, видно, не помогло! Утонить надо было!
Выражение ярости сменилось на его лице презрительной насмешкой. Он подхватил учителя и быстро понес к воротам. Я пытался ему помогать, но скоро понял, что только мешаю. Бульдог нес учителя, прижав его к себе одной рукой, без каких-то заметных усилий. Когда мы отошли достаточно далеко, директриса вновь подала голос:
– Убийцы! Бандиты! – кричала она, но в ее крике не было уверенности.
– Кричи, кричи, крыса! Недолго тебе осталось… – пробормотал Бульдог.
Мы вышли за ворота и остановились. Возле помятой канареечной машины, которую я сгоряча отобрал у Филюкова, появился большой груженый грузовик, а за ним – еще одна канареечная машина, рядом с которой стояли Николай Волчанов, бледно-желтый Филюков и хрупкий юноша, лицом удивительно похожий на Волчанова-старшего. Без сомнения, это был Волчанов-младший.
Немая сцена продолжалась не меньше минуты. Затем Николай Волчанов двинулся вперед, за ним, легко ступая на носки, его брат. Последним шел Филюков, смотря себе под ноги, и было видно, что идти вперед ему очень не хочется. Шагах в десяти от нас они остановились. Николай Волчанов сосредоточенно ощупал взглядом учителя: его, видимо, интересовал тот же вопрос: не ударили ли учителя ножом. Затем он положил руку на клапан кобуры и перечислил бесцветным милицейским тоном:
– Угон служебной машины. Нападение на милиционера. Организация массовых беспорядков… – он обращался ко мне, но смотрел куда-то в сторону.
Я достал из кармана ключи от канареечной машины с изысканным брелком в виде волка в трусах, курящего сигарету, пару раз подбросил на ладони и изо всей силы запустил в Филюкова. Я метил в голову, но тот увернулся, и ключи упали в траву.
– Тебя еще не забрали? – спросил я Николая Волчанова.
Множество раз я возвращался потом к этим дням и часам. Как, откуда возникла во мне эта способность блефовать так серьезно и убедительно? Воистину, в каждом из нас дремлет Хлестаков. Ни Гоголь, ни даже мы сегодня еще не оценили по достоинству это великое открытие: Хлестаков – не герой, а принцип!
Они боялись меня. Я видел это. Они боялись низкорослого, большеголового мужчину по кличке Бульдог, отца прекрасной девочки Наташи.
– Труба вам! – страстно заорал Бульдог. – Труба, суки! Труба!
Он двинулся вперед, и мы с учителем, который стоял уже самостоятельно, устремились за ним. Мы шли на Николая Волчанова, компания расступилась и пропустила нас. Когда мы достигли грузовика, Бульдог обернулся и еще раз ликующе выкрикнул:
– Труба вам! Козлы!…
* * *
Мы доехали до дома дедушки Гриши в кабине грузовика. По дороге учителя рвало кровью. Он расстроился, ужасно побледнел и все время извинялся за то, что испачкал сиденье. Бульдог громогласно успокаивал его и свирепо скрипел зубами, извергая ругань в адрес Волчановых.
Мы внесли учителя в дом на руках. Дедушка Гриша открыл нам дверь и, ни о чем не спрашивая, прошаркал вслед за нами.
– Надо врача! – сказал Бульдог, когда учитель уже лежал на кровати.
– Не надо! Это пройдет! Били по печени… Но ничего… Знаете, там были два мальчика из моего класса, и оба закрывали лица, отворачивались… Я не ожидал даже… У одного были слезы… А врача не надо. Главврач больницы дружит с Волчановым. Не надо… Мне уже лучше, и таблетки есть! Если вам нетрудно, достаньте на полке…
Я бросился к полке, а дедушка Гриша за водой. Мы молча смотрели, как учитель глотает таблетки. На лице Бульдога была детская надежда, словно он ждал, что сейчас, немедленно учитель выздоровеет.
Учитель сел на постели, и дедушка Гриша принес ему очки. Только теперь я заметил, что учитель был без очков, очевидно, старые разбили. Эти, запасные, были ужасно старомодные. В таких очках изображают Добролюбова на школьных портретах.
– Василий Петрович! – обратился учитель к Бульдогу. – И вы тоже… – он повернулся ко мне и дедушке Грише. – Я прошу вас, умоляю, не теряйте ни минуты! Они вот-вот придут! Они решились, понимаете? Заберите Наташу и супругу вашу, и все вместе на машине поезжайте в область!
Василий Петрович – Бульдог изумленно открыл рот. Он смотрел то на учителя, то на меня – и не понимал.
– Как! – промычал он наконец. – Почему в область? А как же… А где эти?.. Где ваша группа? – хрипло спросил он меня.
– Группы нет…
– Но в городе говорят, что здесь все уже обложили! Что Волчановых вот-вот возьмут! – вскричал Бульдог. Я молчал, не зная, что ответить.
– Вам нужно уезжать! – повторил учитель. – Сейчас же, немедленно, и очень кстати, что у Василия Петровича машина… Потом все образуется! Там, в области, сразу пойдете в прокуратуру, свяжетесь с Москвой…
– Почему бы и вам не поехать с нами? – спросил я.
– Я останусь… Чтобы они не поняли. Я покажусь на улице… Я уже все обдумал: это легко можно устроить! Вы с дедушкой спрячетесь в кузове, вас не заметят…
– Я не поеду! – сказал дедушка Гриша.
– Да как же это? – взорвался Бульдог. – Все неправда, что ли? Все вранье? Вы-то, вы-то сами хоть из Москвы? – закричал он. Его большие зеленые глаза налились кровью.
– Я из Москвы! Но я тоже никуда не поеду. Вы – тот человек, который отправлял мою телеграмму?
– Да, отправлял!
– Я просил о помощи, и нам должны помочь. Когда, я не знаю, здесь ничего уже от меня не зависит. Но помочь нам должны! – они смотрели на меня все трое. – В Москве у меня есть друзья. Это серьезные люди, и сейчас, в эти минуты, они должны быть уже в дороге…
– Вам нужно уезжать… – упавшим голосом повторил учитель. – Василий Петрович! У меня огромная просьба к вам. Видите ли, все это начали мы. То есть я и… – он назвал меня по имени-отчеству. – Нам это и расхлебывать. А вы забирайте Наташу, вашу жену и, как можно скорее, уезжайте! Вы в опасности…
– Черта с два! – выкрикнул Бульдог и решительно взмахнул черной ладонью. – Я этих живодеров гонял и буду гонять! Пусть только сунутся! Просто… Как же так? Все говорят, что за ними приехали, а выходит – нет, все вранье!
– Ничего пока не выходит! – вмешался я. – Должны приехать! Рихард Давидович говорил, что у вас дома есть оружие.
– Есть, два ружья!
– Вот и отлично. Зарядите их и сидите дома. Я думаю, Волчановым сейчас не до вас. Хотя… – я замялся.
– Да вы не бойтесь! Я Наташку с утра отвез к леснику, в сторожку. Туда они не доберутся! Лесник – друг мой, да они и не полезут в лес, побоятся, кишка тонка! В лесу я их, как рябчиков… А леснику сказал: сбереги, говорю, девчонку. Да он и сам знает, что тут у нас делается.
Учителю словно дали отпить живой воды. Его глаза ожили, заблестели.
– Слава богу, слава богу! – воскликнул он. – А я сижу и думаю, вот мы здесь, а они в любую минуту могут выкрасть девочку… Вы умный человек, Василий Петрович! Право же, это лучшее, что вы могли сделать. Вы увезли ее с утра?
– Какой с утра – ночью! Ни одна душа не видела! Сели на мотоцикл – и к Пахомычу! Это километров двадцать отсюда, – объяснил он мне. – Машина туда не дойдет. Да и мотоциклом знать надо, как ехать, а то в болоте увязнешь. Туда им слабо добраться! – заключил он.
ЧАСТЬ II
На обед снова была яичница с жареной картошкой. Дедушка Гриша, по его собственному признанию, готовить не любил, о еде никогда не заботился и объяснял это особенностями своего мировоззрения.
– Я, собственно говоря, с детства был философ, – сообщил он мне на кухне, когда мы вместе чистили картошку. – Все это суета: тряпки, жратва… Хотя, конечно, когда жрать нечего… Помню, до войны, как середина месяца, так бежишь в ломбард. А там очередюга часов на восемь! Выстоишь, потом на эти деньги купишь буханку хлеба на рынке – и домой. Там дети голодные, глазки блестят… Как они этот хлеб встречали… «Папочка! Хороший! Хлебушка принес!» И все целовали меня. Кажется, никогда так не радовался я, как тогда. Было время… Хлеба нет, зато водка везде за гроши, считай, за бесценок – пей, хоть залейся!
До обеда учитель лежал у себя в комнате и, как он уверял нас потом, даже вздремнул, во что ни я, ни дедушка Гриша не поверили. Но к обеду учитель вышел в свежей рубашке, галстуке и жилете. Старик насмешливо посмотрел на него:
– Что это вы при параде! Что за праздник?
– Просто… Просто так.
– Как вы себя чувствуете? – спросил я.
– Благодарю вас, все в порядке! Вы спасли меня! – торжественно произнес он.
– Эти сукины дети! – выругался дедушка Гриша. – Я все думаю, в кого они такие уродились! Чтобы в наше время ударить учителя! Подумать никто не посмел бы! Это же учитель! А такого, как Рихард Давидович… Его тут все любят! Старушки даже почитают, вроде как святого: «Сам – кожа да кости, волосы и бороду не стрижет, точно схимник!» – дедушка Гриша уморительно передразнил местный окающий говор, и мы все засмеялись.
– Нет, вы мне ответьте! – распалялся дедушка Гриша. – В кого они такие осатанелые? Юнцы эти! С чего они так злобятся? Ну с чего? Войны нет, все сыты, одеты, обуты! Сами они никогда не работали и, как я вижу, не будут. Не нравится им работать! Им по пятнадцать лет, а у каждого мотоцикл. Выжали, выдавили из родителей! Живем с каждым годом лучше! Вот телевизор я смотрю: сколько всякого добра у нас! Народ все богаче живет. Откуда жестокость эта? Вы мне скажите, откуда это прет? Почему юнцы стали сбиваться в стаи и охотиться за старыми, детьми, за слабыми? Я и в городе видел: вечером стоят у выхода из магазина и смотрят, на кого бы напасть. Сопляки совсем еще, дети!
– Что значит – откуда? – я вдруг вышел из себя. – Вы что, в самом деле не понимаете? Эти юнцы – ваши внуки! Это вы их воспитали! Вы с вашей философией: добыть буханку хлеба, забиться в свою нору – и нет в жизни большего счастья! А теперь вы сердиться изволите: откуда, мол, эти ублюдки!
– Сукин сын! – вскричал дедушка Гриша и сильно покраснел. – Вырос на всем готовеньком, а теперь издевается! Ты видел людей, от голоду опухших? Ты трупы детей на улицах видел?
– Еще увижу! Может быть, еще и вы увидите!
– Вы неправы… – тихо сказал учитель, обращаясь ко мне. – Нельзя сразу всех обвинять. Это несправедливо.
– Извините… Я не хотел обидеть вас, дедушка! Честное слово. Просто вы попали в больное место. Я давно об этом думаю! Перекроют реку, затопят десятки тысяч гектаров прекрасной земли, погубят леса на сотни километров вокруг, а потом, когда вода в этой большой луже загниет, начинают дружно удивляться: ну откуда эта вонь? Почему воняет? Повторяется это десятки раз, но каждый раз удивляются заново. И не учатся ничему!
Мои извинения старику не понравились. Он молча ушел на кухню и начал там греметь посудой.
– Я прошу вас не обижать дедушку Гришу! – твердо сказал учитель. – Это его дом, и мы с вами тут только гости, не более того. Он дал нам приют, убежище именно сейчас, он очень рискует и понимает это…
– Вы думаете, он рискует? Вы думаете, он понимает? Да нас с вами выволокут у него на глазах и повесят тут же, на воротах, а он будет приговаривать: так их, критиканов! Помяните мое слово, он открестится от вас, я уже не говорю о себе.
– Вы озлоблены! – вспыхнул учитель. Вам стыдно будет! Я знаю дедушку лучше вас! Это человек удивительный, в нем достоинство есть!
Послышались шаркающие шаги, дедушка Гриша возвращался с кухни с чайником. Учитель замолчал. Старик поставил чайник на стол, искоса посмотрел на меня и проговорил:
– Вы меня старого простите… Обругал вас… Простите, бога ради! Мне скоро помирать, ругаться грешно… Просто сгоряча вырвалось. Я жизнь прожил, людей вижу! И вас вижу. Вы не болтун, вы делаете то, что говорите. Я к вам всей душой! Простите…
– Да бог с вами! Это вы меня простите! – я подошел к дедушке Грише и осторожно погладил рукав его голубого трикотажного костюма.
* * *
– …И вот, как только началась война, прихожу я в военкомат. А меня спрашивают: ты танкист? Нет, говорю, снайпер. Ну ничего, говорят, мы танковую бригаду формируем, будешь танкистом. Так я танка в глаза не видел, говорю. Тут военком подошел и сказал: «Раз он снайпер, пусть идет в конвойный полк». И законопатили меня в этот полк…
После обеда учитель ушел в свою комнату: ему стало хуже – схватил живот и снова вырвало кровью. Мы остались в горнице вдвоем с дедушкой Гришей. Он продолжил свою одиссею:
– Погрузили мы этих врагов народа в эшелон, в голове и хвосте состава пулеметы, две группы преследования с собаками – все, как положено, и повезли. Куда везем – не знаем. Это, говорят, секрет. Отъехали километров сто от Киева, попали под бомбежку. Тут началось такое, не приведи господь! Командир роты отдает приказ: ложитесь, говорит, на крыши вагонов, берите в руки по штыку и смотрите, если кто из зэков полезет в окно, штыком его в рожу. Хорош приказ, нечего сказать! А сам приказ отдал и в кювет залег. Полезли мы на крышу. А там, в вагоне, ор стоит, самолеты на нас пикируют, воют! В головной вагон бомба угодила – разнесло в щепки. Те, кто там в вагоне остались живые, повыскакивали, а их охрана из пулемета перебила. Приказ такой: если из вагона вылезут, значит, открывай огонь… Я, честно говоря, на время налета с крыши слез. Бог с ним, думаю, забрался под откос, пересидел. Как только отбомбились, вылезаю назад, смотрю: напарник мой, что на крыше остался, лежит плашмя и блюет. Я к нему, мол, что такое? А он блюет и воет как собака. Я не понял ничего, потом смотрю: штык у него в крови. Оказалось, зэку в глаз попал. Чудак какой-то со страху в окно полез – а он его сверху… Зэки бунтуют, в двери стучат, а напарник мой аж белый весь, трясется, говорит, что убил! И точно: убил он зэка. Штыком в глаз. Вытащили мы покойника, старик совсем, седой, породистый такой, чего его к окну потянуло… Доложили начальству. Пришел начкараула. Напарник мой трясется, а тот его успокоил. Молодец, говорит! Исполнил свой воинский долг! Будешь представлен к ордену. Этот дрожит, скулит, головой мотает: не хочет ордена. А все равно через неделю представили его и вручили…
Ох, и натерпелись мы с этими зэками! До самой Астрахани везли. Степь, жара, в теплушках духота. Воды нет, они мочу друг у друга пили. Жрать не дают, там, говорят, покормим, на месте. Нас так еще кое-как прикармливали, а на них и продуктов никто не давал. Мерли как мухи… Старики особенно. Привезли их, загнали за проволоку. И тут же полк наш сняли и в двое суток перекинули на фронт. И тоже бестолково так. Прямо на поезде в окружение нас привезли. И бросили к чертовой матери! – дедушка Гриша досадливо махнул рукой. – Кричали все: война, война! Ворошиловский залп, сталинский удар! А я войны так и не увидел.
И немцев не видел, пока в плен не попал.
– Как не видели? – удивился я.
– А вот так! Выгрузились мы из вагонов, и сразу приказ: совершить марш-бросок, к утру полк должен прибыть в Тарасовку. А Тарасовка оказалась уже занятой. То есть и близко до нее мы не дошли. Командир полка уехал на машине выяснять обстановку и сгинул. Командир батальона поехал его искать – тоже сгинул. Под утро, как рассвело, смотрим: по шоссе колонна танков немецких прет, штук сорок. Мы – в лес! Два дня в лесу сидели, весь НЗ слопали. Потом стали двигаться на восток. Командир роты у нас был сволочь редкая! Такой же вот, как Волчанов: морда такая же паскудная, в угрях вся. Он с тридцать четвертого зэков охранял, отъелся, и ухватки у него были, как у палача настоящего. А воевать пришлось, так сразу обделался…
Был такой случай, уже накануне полного нашего окружения. Шли мы, шли на восток, по ночам в основном. Видим, за нами группка немцев пристроилась! Человек десять, отделение, должно быть. Идут день, второй. Как будто пасут… У нас рота полностью отмобилизована, четыре пулемета, винтовки, гранаты. На второй день остановились мы на привал, немцы у пас на хвосте, метрах так в четырехстах. Тоже остановились, сидят, курят. Я ротному говорю: вон бинокль блестит – наблюдатель ихний. Давайте сниму. Ведь рядом, всего-то метров четыреста. Мы в команде снайперов на восемьсот цель поражали, маленькую такую, как крыса. Стрельба по перебежчикам – так упражнение называлось, самое трудное, между прочим. Бежит маленькая крыса в окопе за восемьсот метров, и надо ее на ходу сбить. Но я попадал! Мне сам Буденный тогда на контрольных стрельбах приз вручил – трусы сатиновые! Такие тогда призы давали…
И вот, говорю я ему: давай сниму! Нагло прямо сидит фашист, в бинокль нас рассматривает. А ротный на меня как разорется! Ты что, кричит, позиции наши хочешь демаскировать! А что там демаскировать… Он, ротный этот, подлюка, нас на привал в овраге разместил, в яме, считай, а они там наверху сидят, лопаю г из котелков и хохочут. Пальцами на нас показывают: дураки, мол, сами в яму залезли… Так и не дал он мне наблюдателя снять. Самовольно, говорит, выстрелишь, я тебя на месте расстреляю за нарушение приказа. Ну, я плюнул. А на следующий день взяли нас в плен. Вышли мы к дороге, и немцы за нами. И давай палить! Да не в нас, в землю стреляли из автоматов. Стреляют в землю и ржут… Ротный первый и побежал, только видели его. Разбежались мы группами, кто куда, так нас потом и повылавливали…
– И как вам там в плену?
– Рассказывать не буду, душу себе травить не хочу. Да я недолго был, всего недели три. Потом они специалистов набирали для работы на заводе, паровозы ремонтировать, сварщики нужны были, вот меня и взяли…
Наступила пауза. Я размышлял, как бы уйти от этой темы, чтобы не обидеть дедушку Гришу, но он задумался, будто забыл обо мне, а потом неожиданно произнес:
– Не пошел бы работать, остался бы в лагере. А оттуда одна была дорога – в ров… А так всю оккупацию и провел на заводе. Потом, когда наши подошли вплотную к городу, немцы эвакуировали всех подчистую, а я спрятался и не поехал с ними.
– А когда пришли наши?..
– Вот то-то же… – покачал головой старик. – Вы еще молоды, не знаете, как тогда с бывшими пленными обращались. У нас нет пленных, есть одни предатели! Так Мехлис сказал, и все повторяли. Смершевцы задавали людям вопрос: почему не покончил с собой? Отвечать надо было так: патроны кончились! И не дай бог философию разводить – они этого не любили. Если патроны кончились, получи свой червонец – и на Север! Я сам не знаю, как меня бог миловал… Пришли наши – я сразу в военкомат. Военный билет хранил. Меня спросили, кто я по специальности, и, как узнали, что сварщик, сразу же направили на восстановление Крещатика. Трест такой был тогда специальный, Крещатикстрой. Немцы всю улицу взорвали, и решено было строить новую. Там на меня в этом тресте сразу бронь оформили. А «Смерш» до меня так и не добрался! Прозевал! Странное это дело… Я после войны много лет жил в ожидании: вот-вот придут и заберут. Столько народу тогда прибрали! Мой сосед по коммуналке из немецкого лагеря освободился – сразу в наш угодил. Там, у немцев чудом выжил, весил сорок килограммов. Наши пришли, обнимали-целовали. А потом потащили на допрос к смершевцу: почему не застрелился? А сосед тогда еще ходить не мог. Шутка ли, сорок килограммов, высокий был парень! Он рассказывал, что когда смершевец второй раз спросил, почему не застрелился, он ему прямо в рожу плюнул. Это он так рассказывал, а на самом деле, кто знает, как оно было. Только до пятьдесят пятого года он сидел, десять лет после войны. Потом пришел, месяца три пожил у жены своей в комнатенке и ноги протянул.
Я как увидел все это после войны, пить начал страшно. Потому что думал, все равно не сегодня-завтра возьмут… Трудно жене было со мной, виноват я перед ней очень. Стыдно, ох как стыдно. Но она понимала. А потом год проходит, два, три. Что такое, думаю, не берут! И вдруг на работе подходит ко мне кадровик и говорит, что меня зовет военпред. Перетрухнул я тогда, прихожу, дрожу весь, а он – мужик молодой, фронтовик, заметил и смеется: ты, говорит, не трусь, мы тебя не на Колыму посылаем, а поближе, в Львовскую область. Уполномоченным будешь, говорит, по рабсиле.
Мобилизовать нужно было рабсилу, Крещатик новый строить. Вот тебе деньги, говорит, вот наряды на вагоны – езжай! Сколько завербуешь – все твои. Я от радости сам не свой, хватаю эти наряды, деньги хватаю руку ему жму. Доверие, говорю, оправдаю!
Приезжаю во Львов через два дня. Красивый город такой, все чисто, прибрано, как на картинке. Назначают мне район, где рабсилу вербовать, и тут же в горкоме автомат вручают. Это зачем, спрашиваю. А они посмотрели па меня как на идиота. Я автомат взял и с истребительным отрядом – так тогда особые войска назывались – двинулся к этим бандеровцам… Как я тогда живой остался, сам не знаю! В каждое село с боем входили. Хохлы, они клятые, да и не привыкли они тогда еще, чтобы задаром работать. Честное слово, бог, видно, уберег, потому что из этого истребительного отряда с вербовки вернулась половина личного состава. Остальных бандеровцы перебили. Ох, насмотрелся я там…
– И много завербовали? Старик саркастически усмехнулся:
– Да уж! Навербовался на всю жизнь! Когда через неделю вернулись мы во Львов, было у нас с собой двенадцать человек: три беременные бабы, несколько стариков и подростки. Загнали мы их в теплушки, и начальник караула говорит мне: ну что, будем рабсилу принимать? Я ему: какая же это рабсила? А он подмигивает, бери, говорит, пока другие не оттяпали. Тут, говорит, еще один уполномоченный из Тамбова вертится, ты не возьмешь – он возьмет! Я плюнул и отказался. А мужичок-то этот, из Тамбова, взял. Всех принял! Даже деда, который, когда начальство к нему подходило, сразу штаны снимал и грыжу показывал. Грыжа знатная такая была, до пола…
– И что, их увезли в Тамбов?
– Куда там! – махнул рукой старик. – Вот послушайте. На другой день рано утром смотрю, у вагона, где этот уполномоченный тамбовский, целая ярмарка. И все шумят, все этого прохвоста тамбовского упрашивают. «Кум! – дедушка Гриша без усилия перешел на украинский язык. – Кум! Тут ваши ястребкы, – так истребительный отряд называли, – тут ваши ястребкы Ивана Лопату злапылы!»…
– Как «злапылы»? – не понял я. – Иван – это же мужчина?
– Да нет, не то! – раздраженно отмахнулся дедушка Гриша. – Захватили, значит! Уполномоченный головой крутит, а мужик ему – мешок и говорит: «Ось тут у мешку порося!» – А этот лениво так берет мешок, заглядывает и кивает. И тут же солдат вагон отпирает, зовет Ивана Лопату. Так он к обеду всех выпустил – а у самого полный вагон живности! А вы знаете, что такое в сорок восьмом году поросенок? Не знаете! Куда вам сейчас с вашими «Жигулями»! Поросенок – это было ого-го! – дедушка Гриша снисходительно посмотрел на меня и добавил: – А меня солдаты дураком потом дразнили. Ты же, говорят, с нами ходил, ты же их сам вербовал! А пенку тамбовец снимает… Вот так-то! Эх, время было, времечко… Не дай бог, вам такое…
– Не дай бог! – повторил я.
* * *
Предполагая, что учитель спит, я вошел в его комнату на цыпочках и вздрогнул, услышав его голос:
– Располагайтесь, я не сплю!
Учитель сел на кровати и надел очки. Я подошел к столу и увидел раскрытую книгу. Это было редчайшее в наши времена издание – «Несвоевременные мысли» Горького. Мой взгляд упал на подчеркнутый абзац:
«Порицая наш народ за его склонность к анархизму, нелюбовь к труду, за всяческую его дикость и невежество, я помню: иным он не мог быть. Условия, среда которых он жил, не могли воспитать в нем ни уважения к личности, ни сознания прав гражданина, ни чувства справедливости, – это были условия полного бесправия, угнетения человека, бесстыднейшей лжи и зверской жестокости. И надо удивляться, что при всех этих условиях народ все-таки сохранил в себе немало человеческих чувств и некоторое количество здравого разума».
– Вот как законный отец соцреализма о народе выражался! Недурно! – сказал я. – А те, кто подхватили и развили этот великий метод, не подозревают, какую крамолу писал патриарх еще в начале восемнадцатого. От них скрыли это! Чтобы не смущать, чтобы Горького в диссиденты не записали. Поэтому сегодня наши так называемые ученые повторяют, как попугаи, все наоборот: вместо анархизма – коллективизм, вместо дикости и невежества – мудрость, вместо жестокости – доброта. Я говорил вам, меня когда-нибудь сведут с ума крики о том, какие мы добрые… Вот вам позиция русского интеллигента в чистом виде: он обзовет свой народ как угодно, а потом скажет, что виноваты во всем условия! Но, черт возьми, кто же создал эти условия? Двести лет мы спишем на татар, а потом? Ведь Горький просто признает свой народ диким, больным, ущербным!
– Вы не правы. Конечно, Горький был человеком слабым и заблуждался, как все мы. Но когда вышла «Деревня» Бунина, он был среди тех единиц, кто понял, оценил масштаб этого произведения…
– Да, конечно, «понял, оценил»! И уехал писать рассказы об Италии… Не помните вы такое понятие у Достоевского: «русская широта»? Он много писал об этом! – учитель кивнул. – Так вот Горький – пример широты бескрайней. Он со всеми хотел дружить. После революции он писал неплохой роман, который к методу, им изобретенному, не имеет никакого отношения.
Но его наследники развили этот фантастический метод, которым как удавкой задушили всех, кто отказывался лгать. И даже тех, кто лгал вяло, без огонька, или некстати.
– Вы удивляете меня! – неожиданно горячо воскликнул учитель. – Горький был старый, больной человек, который хотел умереть в России. Его загнали в угол, понимаете! Неужели вы не видите еще, как легко загнать в угол любого! Не было бы этого слова, которое вас так бесит, было бы другое. Или убивали бы просто без слов…
– А великий пролетарский писатель освятил это убийство своим присутствием и своим именем!
– Да нет же! Я убежден, он не видел и не понимал всего. Это вам сейчас легко: посмотрели – 1934 год – и сразу приговор Горькому. Он был добрым человеком…
Пауза затянулась. Я был растерян: меня выбила из колеи новая интонация в голосе учителя. Он решительно и твердо порицал меня за что-то.
– А знаете что я могу вам предложить, – обратился я к нему. – Я могу дать вам почитать мой новый рассказ. Правда, такие рассказы нельзя читать на ночь…
– С удовольствием прочту! – оживился учитель. Я полез в свою сумку, достал рассказ и протянул учителю. Он осторожно взял листки, поджал под себя ноги и начал читать.
Этот рассказ обошел все московские редакции. Его читали два главных редактора толстых журналов, но печатать отказались. Если бы я мог, я издал бы его за свой счет, потому что считаю, что такие мысли человек не вправе скрывать. Наша фантазия опирается на реальность, вырастает из нее. Значит, все фантастическое есть или будет, вопрос только когда!
Учитель читал, а я подошел к книжному шкафу. Это чувство знакомо всем авторам: когда при вас читают ваше произведение, вы испытываете какой-то особый вид неловкости. Чтобы отвлечься, я достал томик Бунина и открыл «Деревню».
Бог мой, когда мы отучимся от этой бессовестной манеры печатать только то, что нравится никому не известному, засекреченному чиновнику, а остальное скрывать так, словно этого нет в природе. У нас уже тридцать лет публика наивно считает, что ей известен весь Бунин, в то время как огромная часть написанного им после революции скрывается. Эту часть знает и читает весь мир, все, решительно все, кроме нас, хотя о вас и для нас это было написано! Когда же наконец мы отберем у кучки недоучек позорное право поправлять наших гениальных творцов, быть их посмертными цензорами?
Я люблю Бунина, читал его всего. Какой вой поднялся, когда он написал «Деревню»! Как негодовали эти ублюдки, не бывавшие дальше литературных кафе Москвы и Петербурга. Как они злобно тявкали на Бунина, выросшего в деревне и знающего ее, как, пожалуй, ни один писатель России. И «напуганный барин», и «мракобес», и «помещик»… Ведь тогда, уже тогда было все поставлено вверх ногами. Уже тогда кто-то привычно кричал: «Ох как мы добры!», и крику этому начали верить. Уже тогда никто не хотел видеть правды, никому не нужна была правда – нужно было кривое зеркало. И тех, кто нарушал правила, ждал жестокий террор под флагом либерализма…
Я пролистал «Деревню» и быстро нашел то место, которое искал. Это нужно читать каждый день нашим новым русофилам, печатать на открытках и рассылать по их адресам. Чтобы оторвались от своих видеомагнитофонов и послушали, что писал умный человек, последний писатель России.
«– Вот ты и подумай, есть ли кто лютее нашего народа? В городе за воришкой, схватившим с лотка лепешку грошовую, весь обжорный ряд гонится, а нагонит – мылом его кормит. На пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалеет-то, что пожар али драка скоро кончились! Не мотай, не мотай головой-то: жалеет! А как наслаждаются, когда кто-нибудь жену бьет смертным боем, али мальчишку дерет как Сидорову козу, али потешается над ним. Это-то уж саман что ни на есть веселая тема…».
Или вот это:
«– Да-а, хороши, нечего сказать! Доброта неописанная! Историю почитаешь, волосы дыбом встанут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство… Былина – тоже одно удовольствие: «распорол ему груди белые», «выпускал черева на землю»… Илья, так тот собственной родной дочери «ступил на леву ногу и подернул за праву ногу»…
А прибаутки наши, Тихон Кузьмич! Можно ли выдумать грязней и похабней! А пословицы! «За битого двух небитых дают»… «Простота хуже воровства!…»
Когда «Деревня» увидела свет, Бунин остался в одиночестве. Он нарушил правила, посягнул на священный для русского либерала образ народа-богатыря. Горький в самом деле был одним из немногих, кто его подбадривал и писал, что «Деревня» поставила разбитое русское общество перед строгим вопросом: быть или не быть России». Правда, писал Горький об этом в частном письме…
А через двадцать лет, ровно через двадцать лет кто-то срывал одеяльце с горячего тельца ребенка и выгонял на лютую смерть. А выходец из народа Горький в это время мирно почивал в Италии, занятый сочинением своего романа века, заткнув уши и прикрыв глаза. И я не прощаю ему этого, пусть учитель назовет меня жестоким. Горький мог возвысить свой голос против массовых убийств. Одно слово его, одно честное слово могло спасти жизни, ибо его знал мир, а убийцы боялись огласки…








