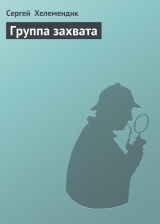
Текст книги "Группа захвата"
Автор книги: Сергей Хелемендик
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
– Это всемирный заговор! Они хотят извести русский народ и занять нашу землю! – назидательно произнес дедушка Гриша.
– Да что вы говорите! – возмутился учитель. – Они уже сорок лет не могут поделить клочок земли с арабами в Палестине. Зачем им наша земля? Это вздор!
– Потому что они паразиты! – продолжал доказывать дедушка Гриша. – Они как цыгане, даже хуже: работать не хотят, только дурачат всех направо и налево.
Учитель беспомощно развел руками.
– И что, Вол чанов – тоже еврей? – спросил я.
– Да нет, он русак.
– Значит, здесь у вас эту грязь с кровью замешали все-таки не евреи? Или все равно они виноваты?
– Они народ испортили, – не сдавался дедушка Гриша. – Споили, развратили. Вот и лезет наверх всякая мерзость…
– Да, черт возьми, ну почему же они развратили именно русских? Что за корысть такая! Развратили бы англичан или шведов – все понаваристей было бы!
– Они и их развратили! – угрюмо, но твердо заявил старик. Он смотрел на меня, как смотрит посвященный на профана. – Вы не знаете, а они уже весь мир под себя подмяли. Только мы одни остались…
– Ну, подмяли так подмяли, – я выдохся. – Вы мне еще повторите сейчас тезис этой вашей любимой книги, что вторую мировую войну евреи затеяли исключительно с целью вынудить самих себя собраться в Палестине.
– И повторю! – с вызовом ответил дедушка Гриша. – Было в этой книжке такое, и я верю!
– И для того, чтобы напугать самих себя, они дали немцам уничтожить чуть ли не половину нации. Это в то время, когда их и без того мало. Вам не кажется, что такой вывод – это уже бред чистой воды?
– Накладка у них вышла… Они от Гитлера такой подлости не ожидали! – охотно пояснил дедушка Гриша. – У них договор был такой, чтобы Гитлер всех евреев в Палестину перевез, а остальное их не интересовало. Гитлер сам был евреем! Наполовину-то уж точно.
– Давайте поговорим о чем-нибудь другом, – предложил учитель. – Уверяю вас, мы с дедушкой Гришей спорили на эту тему до хрипоты. Он даже упрекнул меня в том, что я не имею права называться немцем, поскольку так благодушно отношусь к еврейскому вопросу.
– Давайте! Меня вот что интересует! – я обращался в основном к дедушке Грише, так как у него был очень обиженный вид. – Задумывались ли вы когда-нибудь, какие чувства преобладают в нашей жизни, какие главные импульсы направляют наши поступки? Ведь это главный вопрос – вопрос вопросов! Я тоже как-то прочитал одну книгу и подобно дедушке Грише стал смотреть на мир по-другому. Есть такой роман – «1984 год»…
– Вы читали его? – глаза учителя заблестели. – Я читал все, что смог, об этом романе, но сам текст мне недоступен. Даже если бы я знал английский, его нет у нас в библиотеках…
– Это не совсем роман, скорее, трактат. Но в нем создана фантастически проницательная модель новейшего деспотического общества. Главная мысль такова: если христианская цивилизация в основу своего развития пыталась поставить любовь и из этого ничего не получилось, то новое общество, которое якобы развилось в Великобритании к 1984 году, в основу своей цивилизации положило чувства противоположные – страх и ненависть. Касаясь истории этого нового английского государства, которое возглавляет Старший Брат, герой-идеолог признает, что в своей новой модели общества они опирались в основном на фашистов и коммунистов. Отсюда, вероятно, и сделали наши критики вывод, что этот роман – гнусный пасквиль на нашу прекрасную родину. Однако действие в нем происходит в Англии, и поэтому есть больше оснований назвать его антианглийским… Роман этот знаменит. Культурных людей, не читавших его, можно встретить разве что в нашей стране. Я узнал о нем и прочитал впервые, когда попал за границу, в прелестную, солнечную страну, населенную беспричинно веселыми, счастливыми людьми. Тогда я впервые поразился тому, как мало места, по сравнению с нами, занимает в их жизни страх, а значит, и ненависть. Я убежден: страх родился раньше ненависти. Древнему человеку некого было ненавидеть. Он боялся врага, а ненависть была его оружием и против врага, и против страха. Только с развитием цивилизации ненависть обрела некоторую самостоятельность. Появились отдельные особи, научившиеся получать от ненависти радость, наслаждение. Может быть, от этих особо злобных и повелось в мире зло…
– А народ сатанеет… Что правда, то правда, – задумчиво произнес дедушка Гриша. – А почему, не знаю. Мы с женой-покойницей сюда двадцать лет назад переехали, оставили сыну в городе квартиру, купили этот дом, думали пожить спокойно на природе. Здесь только считается, что город, а так деревня деревней. Так вот, когда приехали мы сюда, лучше был народ, добрее. Особенно старики. Но здесь-то еще не так заметно, а вот летом я к сыну в город ездил… До того лет десять у него не был, сын сам наезжал. И прямо в глаза мне бросилось: словно с цепи все посрывались! Везде – и на улице, и в трамвае, и в магазине… Я сына спрашиваю: что случилось? Он не понимает, говорит, мол, всегда так было, ничего особенного. А я думаю, нет, не всегда! После войны особенно народ добрее был, милосерднее. Голод был страшный в сорок шестом. Не знаю уж, почему так вышло: страна-победительница, страна-освободительница, а голодали как собаки. Пол-Европы завоевали, а на хлеб не заслужили! Но чтоб в трамвае тебя так пинали, не припомню. Нет, не было такого! Ну, место старым не уступают – ладно. Они, молодые, нынче хилые растут, болезненные, им сидеть все время хочется. Но чтобы толкаться так, чтобы злобно так лаяться… Понимаете, не в том даже дело, что мат. Я как-то захожу в трамвай в первую дверь, передо мной мужик. Палку аккуратно так держит сбоку, не видно ее, начал уже подниматься, а там какая-то старуха выходить замешкалась, и они в дверях столкнулись. Тот увидел, что она прет, и назад скорее. Как она орала! «Мужчина молодой, и в переднюю дверь! Расстреливать вас надо! Расстреливать!» – дедушка Гриша словно перевоплотился в эту злобную старуху, и я увидел ее, жирную, трясущуюся от злости.
– Я опешил прямо! С чего, почему вдруг? У мужика, может, ноги нет, хромой, может! Он ничего ей не сделал! Но орет, да так, что только дай ей что-нибудь стреляющее – убьет на месте.
Или зашел в этот их, в универсам, – дедушка Гриша саркастически хмыкнул. Было заметно, что слово его раздражает. – Покупать нечего, взял кирпич хлеба, бросил в тележку, оплатил, собрался уходить, стоит, вижу, еще нестарая женщина, руки в боки и орет:
«А коляску кто будет отвозить на место?» – «А где же место?» – «А вот тут!» Показывает в двух шагах от нее. «А зачем вы тут стоите?» А, она снова в крик: «Не твое собачье дело!» Я думал, она глаза мне выцарапает, до того осатанела. Я тоже рассердился и говорю ей: «Заткнись, сучка недо… – тут дедушка Гриша лихо завернул словцо с самым любимым нашим корнем. – Может, тебе еще и пол помыть? Стоишь тут, понимаешь, рычишь на людей, сука цепная!» Она задохнулась аж вся. И давай милицию звать! То есть это я вовремя сообразил, что она за милицией – молча так бросилась куда-то в подсобку. Я скорей к выходу, думаю, нора ноги уносить, пока цел…
Телефон, стоявший на полу, заверещал. Я подскочил к нему и взял трубку.
– Да! – сказал я. В трубке молчали.
– …Меня поражает покорность наша необъяснимая! Здесь у вас, стоило пойти на открытое сопротивление, и все было бы по-другому! Эта система террора могла быть сломлена даже выступлением одиночки. Ведь сейчас не тридцать седьмой год! Стоило бы кому-нибудь поехать в область и устроить там голодовку протеста! Да вот вы сами, все пишете, пишете, а нужно было просто ранить или убить Волчанова, если только вы в самом деле готовы на жертву, а не просто любите красиво говорить.
– Я не могу… – ответил учитель. – Я думал об этом тысячу раз. Но я не могу убить. Я слаб, жалок…
– Ну хорошо, а Бульдог – отец Наташи? Почему он терпит?
– Здесь все сложнее. Ее пока не трогали. Точнее, попробовали, но он так расправился с этими подонками, что те навсегда запомнили. Он их загнал в туалет и каждого купал в унитазе. Сначала носом об стену, а потом головой в унитаз… Это подействовало. Затем он к Волчанову пришел в кабинет и сказал, что если с дочерью что-нибудь случится, он вырежет всю семью Волчановых под корень. Так и сказал: уйду, говорит, в лес, выслежу вас по одному и убью! И убьет. Все в городе это знают. Поэтому его не трогают.
– Значит, Бульдог заключил сепаратный мир! Хотя, как пишут в наших мудрых учебниках, политика сепаратных сделок с фашизмом привела мир к катастрофе. Но вы ведь дружны с ним, вы не могли убедить его объединиться еще с кем-то? Ведь были же у убитых девочек отцы! Да будь вас хотя бы двое, трое, готовых драться…
– Вы думаете, я не говорил с Василием Петровичем? Думаете, не предлагал? А знаете, что он говорит? «Я против властей не бунтую!» Вот так вот! Волчанов – власть, и все тут! Если, говорит, они Наташку тронут, всех перебью, пусть мне вышка будет. Но они же не трогают! И что же, говорит, я получаюсь вроде бунтаря? Они с другими мерзости творят, вот пусть эти другие и выступают. А то что я буду, говорит, всякой бочке затычка… Поверьте мне, в этом вся загвоздка, вся трагедия наша. Еще восемьсот лет назад каждый князь ждал татар в своем пределе и с соседями объединиться не умел. И втайне надеялся, что татары разорят соседей, а его не тронут.
– Да какие татары! – раздраженно воскликнул я. – Вы что же, не понимаете, что эти Волчановы – психопаты? Я ручаюсь, любая экспертиза докажет это. Получается: убийца-маньяк крадет детей по очереди, а все попрятались в норы и ждут. И остановить его некому! Этого я не понимаю. Покорность должна иметь предел!
– А что вы сами предлагаете? Что сделали бы вы? Вы приехали к нам и отчаянно блефуете. И блеф ваш с минуты на минуту раскроют! И что дальше? Вы ведь пугаете Волчановых не самим собой, а от имени неведомой и потому страшной для них власти! А если бы этой власти не было? Что тогда? Представьте себе: нет вашего журнала, нет ваших знакомств, нет ваших друзей – есть только этот город, и в нем царит Волчанов! Вот все и сидят по норам, как вы изволили выразиться. И ждут: авось пронесет! А те, кто посмелее, спешат заключить сепаратные сделки. Чему вы удивляетесь? Так всегда было и отнюдь не в России одной. И хотел бы я посмотреть на вас, если бы вы выросли здесь и дальше области не ездили. Вам бы в голову не пришло бунтовать! Точно так же сидели бы в норе…
– А я не желаю больше сидеть в норе! – вскочил со стула дедушка Гриша. – Я всю жизнь за шкуру свою дрожал! Понимаете вы это? Сидел в норе, рыл другую нору про запас и дрожал. И все мы так! Шкуры спасаем, а нас режут по одному…
Сразу после войны был у меня друг Сашка. И забрали его. У всех на глазах… В обеденный перерыв приехала машина, двое в штатском подошли к нему и говорят: «Следуйте за нами!» А здоровый парень был, смелый! Любили его на заводе. Он оглядывается, а все сгрудились, стоят, смотрят, и я смотрел, а потом отвернулся… Я, мразь такая, отвернулся! – слезы показались в глазах дедушки Гриши. – Его забирать пришли, он на меня смотрел, сказать хотел что-то, а я отвернулся! Так он что устроил? Этих двоих измутузил! Они, плюгавые, драться не умели, он одному заехал в ухо, другому – и бежать! Тут уж за ним вся толпа гналась. Вот ведь стыд какой! Сначала начальник цеха заорал: «Держи его!» Потом еще кто-то. Погнались, так и не дали уйти. Свои же смершевцам и выдали…
– Успокойтесь! – попросил учитель. – У вас сердце! Нельзя так…
– К черту сердце! Вы мне сказать дайте! Если бы я тогда не стоял да не смотрел, как его увозят… Если бы вступился, кто-то бы еще вступился, все по-другому было бы! Ведь так получается! Пусть бы нас перебили, но еще где-то люди выступили бы, на другом заводе, на третьем. Не было бы этой бойни! Я сам этих зэков возил – страх это божий, никакого ада не надо. Со скотиной в тысячу раз лучше обращаются… Стоило только вступиться мне, еще кому-то, и уничтожили бы не миллионы, а, может, только тысячи. Ведь вот в чем дело! – дедушка Гриша положил правую руку на сердце и тяжело вздохнул.
– Вот вы говорите: Бульдог, – продолжил он. – Если бы этот хорь прыщавый, Волчанов, сразу на Бульдога напоролся! Не было бы такого! Выходит, он прав, – дедушка Гриша указал на меня пальцем. – Я думал, он все вздор болтает, а он прав! А вы – нет! – старик резко повернулся к учителю. – Вы все письма да письма пишете, разве что в ООН не писали. А тут не писать надо… Волк на вас нападет в поле, вы что, письмо будете писать охотникам? Так он вас и задерет!
– До сегодняшнего дня вы не говорили ничего подобного, – тихо ответил учитель.
– Да, не говорил! – яростно закричал дедушка Гриша. – И потому я первый сейчас скажу, что я мразь! Слышал, что здесь творится, а сидел у себя в норе, молчал в тряпочку! На велосипеде поеду на озеро, рыбки наловлю, ухи наварю. Тишь да гладь кругом! А то, что детей убивают, вроде как и мимо меня проходит. Вроде как неправда это! Вроде бы и не поймешь, убивают или нет. Мертвые есть – это видно. А врач в газете районной пишет: несчастный случай. И сидишь себе и думаешь вот так подло: может, в самом деле несчастный случай? Ведь знаешь, что вранье, а все равно сам с собой в поддавки играешь. Вот это и есть подлость! Они нам как будто кость кидают – вот вам подавитесь! Хотите убийство несчастным случаем назвать, мы вам поможем! А мы цепляемся за эту кость как шакалы. А они ухмыляются и выбирают, кого резать завтра.
Знают, завтра тоже все тихо будет. Один раз опаскудились – назад дороги нет. Так и превращают людей в трусливое быдло… Но хватит!
Дедушка Гриша поднялся с места, стремительно направился к старинному гардеробу, распахнул обе створки, повозился какое-то время и достал большой продолговатый сверток, тщательно обвязанный веревкой.
– Вот! – проговорил он и быстро освободил предмет от упаковки. Это была густо смазанная винтовка, от которой шел тягучий запах машинной смазки.
– Ого! – изумленно воскликнул я. – У вас и патроны есть?
– А на черта мне винтовка без патронов! – сварливо огрызнулся он. Учитель молча смотрел на нас. Удивленная улыбка застыла на его лице. – С войны храню. Сам не знаю, зачем… Снайпером был, оружие любил очень. Стрелял отлично! На восемьсот метров вот– такую крысу поражал, мишень называлась «перебежчик»… После войны подобрал, сохранил. Зачем, не знал даже… Теперь знаю!
– И зачем же? – осторожно спросил я.
– Завтра увидите! – яростно пообещал дедушка Гриша. – Не один Бульдог тут смелый… Мне терять нечего!
– Постойте! Давайте подождем! – учитель подошел к старику и взял его за локоть. – Их все равно теперь возьмут. Чуть раньше или позже…
– А я не хочу ждать! И вы мне не указывайте! – рассвирепел дедушка Гриша. – У меня с этим мерзавцем свои счеты. Он на ротного нашего похож – один к одному! И вообще, какое ваше дело! Говорили тут про Англию, я все уговаривал вот его, чтобы он помог! Потом всю ночь спать не мог от стыда. Срамота какая! Шут старый! В Англию ему, козлу старому, захотелось! А здесь… Здесь детей убивают. Драться надо! Понимаете вы это? Драться! И раньше драться надо было, тогда, небось, не слушали бы сейчас про Англию как бедные родственники. Сами бы жили как люди!
– В кого вы хотите стрелять? – спросил учитель.
– В Волчанова! – не задумываясь, ответил дедушка Гриша. Учитель покачал головой.
– Не то… – прошептал он. – Не то, дедушка… Это ничего не изменит…
– Мы устроим демонстрацию! – осенило меня. – Как в Гайд-парке, там, где вы, дедушка, хотели показать англичанам кузькину мать. Завтра, то есть сегодня уже, воскресенье, народ не работает. Напишем какой-нибудь сильный лозунг и выйдем на площадь. Не станут же они стрелять при народе! Тем более, что у нас теперь есть винтовка. В случае чего дедушка Гриша будет поражать их, как мишень «перебежчик». Они вполне заслуживают.
– Вы шутник, – заулыбался дедушка Гриша. – Черт знает, когда вы так шутите, весело становится! – сказал он, и я покраснел от удовольствия. Никогда в жизни чья-то похвала не приносила мне такую радость, как эта.
– Но как же ваши переговоры? Они окончательно поймут, что вы блефуете! – возразил учитель.
– Ну и пусть! Ситуация изменилась, с нами теперь дедушка Гриша с винтовкой. Я не удивлюсь, если Бульдог тоже захватит свое ружье и присоединится к нам. Тогда они ничего не будут стоить со своими тремя «Макаровыми». Заметьте, это при условии нейтралитета масс! А вдруг массы выступят в поддержку нашего сильного лозунга?
– Попробуйте придумать такой лозунг…
* * *
Поначалу дедушка Гриша проявлял незаурядный темперамент, отстаивая свой лозунг «Вся власть Советам!»
– Они самозванцы: украли власть, превратили город в скотный двор, а сами хозяйничают, как волки! Вот и нужно, чтобы власть вернулась народу, то есть Советам народных депутатов!
– Это тем самым депутатам, которых Волчанов держал в страхе, – спросил я.
– Неважно! Тех прогоним, выберем других! – горячился дедушка Гриша. – Главное, чтобы власть была законная!
– Нет, это не то! – поддержал меня учитель. – Народ не поймет, чего мы хотим. Многие до сих пор считают, что Советы – это их власть. Сначала убедить надо, объяснить. Нет! Лозунг должен быть прост и доступен. Вы помните – «Даешь Варшаву!». Это было понятно всем… Давайте просто напишем то, что думаем.
– «Волчановы – убийцы!» – предложил я.
– Да нет же! – воскликнул учитель. – То, что они убийцы, знают здесь все. Это будет не лозунг и даже не новость – простая констатация факта. Сомневаются лишь в том, имеют ли Волчановы право убивать. И мы заявим, что такого права у них нет. Мы напишем так: «Не убивайте наших детей!»
– А что! – оживился дедушка Гриша. – Прямо в лоб.
– Согласен! – сказал я. – Но еще лучше – «Не смейте убивать наших детей!». Так будет видна наша оценка. Будет понятно, что они совершают нечто, чего не смеет совершать никто.
– Вы хорошо сказали это! – произнес учитель. – Так будет лучше: «Не смейте убивать наших детей!». Это ярко, об этом будут думать… А на чем мы напишем? Нужен большой лист или старая простыня.
– Почему это старая? – возмутился дедушка Гриша. – Листа у нас нет, а простыню возьмем новую, чистую! Краска у вас была…
– Да-да, у меня есть красная гуашь! – вспомнил учитель. – Но не слишком ли будет вызывающе, если красным по белому? – обратился он ко мне.
– Почему? Это именно то, что нужно. Красные буквы на белом. Так испокон веков писали русские.
Дедушка Гриша достал из шкафа простыню, мы втроем развернули ее. Она была широкая, почти квадратная, и пришлось разрезать ее пополам.
– Я эту простыню на похороны себе берег, – признался старик. – Вместе с костюмом в шкафу держал, на видном месте, чтобы похоронили по-человечески. Конечно, дети приедут, не дадут зарыть как собаку, но и им будет приятно, если и костюм, и простыни – все готово. Да это всё пустое… Кто умеет писать большие буквы?
Учитель молча покачал головой. Я тоже никогда в жизни не писал плакатным пером. Да и пера у учителя не было, была только жесткая кисточка для клея.
– Я когда-то красный уголок оформлял на заводе! – нерешительно произнес дедушка Гриша. – Один раз писал заголовок. Но у меня руки дрожат…
– Это неважно! – подбодрил его я. – У вас получится! Мы сделает так: сначала карандашом и линейкой напишем буквы, а потом раскрасим. Главное – буквы ровно написать…
Работа по выполнению лозунга на куске белой простыни поглотила остаток ночи. Мы безнадежно запороли первый кусок, и, только опираясь на свежий опыт, сумели изобразить свой призыв на втором. На улице было уже светло, когда дедушка Гриша закончил приматывать материю тонкой белой бечевкой к двум черенкам от лопат. Потом мы с учителем развернули наше знамя, старик отошел на несколько шагов и горделиво посмотрел на него.
– Ничего для первого раза! – произнес он.
Я попросил его подержать черенок лопаты, ставший древком знамени, и отошел на его место. Надпись получилась убедительной, хотя с самого начала строка забирала вверх. Я слышал, что если человек в хорошем настроении, написанные им строчки ползут вверх, если в унынии, то вниз. Воодушевление, с которым дедушка Гриша создавал это произведение, заставило последние буквы взмыть к самому верхнему краю полотнища.
– Отлично! – сказал я. – Вы можете большие деньги зарабатывать на таких плакатах!
– Что? Деньги? – усмехнулся дедушка Гриша. – За такие вещи срок дают, а не деньги…
Мы все замолчали. Мы молчали и молчали, и я понял внезапно, почему мы молчим. Нас настиг страх, от которого отвлекала работа. Затем дедушка Гриша кашлянул и осторожно сказал:
– А может быть, не надо нам демонстрации? Как-то непривычно это. Народ нас не поймет. Я тут двадцать лет живу, ни одной демонстрации не припомню! Разве что на первое мая да в ноябре, но то совсем другое…
– То есть как не надо? – удивился учитель.
– А вот так! Позвоним Волчанову, подманим его к дому и… – дедушка Гриша указал на винтовку, стоявшую в углу. – Я его срежу! Главное – старшего снять, а эти молокососы сами разбегутся.
– Как срежете? Застрелите? – дрогнувшим голосом спросил учитель.
– Ну, а вы что думали! – раздраженно воскликнул дедушка Гриша. – Вы полагаете, я шутки тут шутить буду? Я старик, мне терять нечего! Пусть посадят потом, плевать!
– Но этого не нужно! Вы просто убьете его, а нужно совсем другое! Как вы не хотите понять! Потом его же именем улицу назовут…
– Я думаю, часа через полтора мы можем идти, – сказал я. – Дойдем до площади и остановимся напротив собора, где книжный магазин. Посмотрим, что будет дальше! Они не тронут нас…
– А винтовка? – недовольно спросил дедушка Гриша. – Вы что же, предлагаете оставить ее дома?
– Конечно.
– А как мы будем защищаться?
– Не знаю… Мне кажется, защищаться нам не придется. Наоборот, мы атакуем. Винтовку нужно оставить. Иначе это уже не демонстрация, а что-то иное. Люди будут смотреть не на наш лозунг, а на винтовку.
И потом, у Волчанова появится повод открыть огонь, – я выдержал паузу. – И вообще, я подумал, может быть, дедушке Грише оставаться в доме? Чтобы было кому прикрыть нас на случай отступления…
Это была уловка. Мне хотелось как можно скорее прекратить спор о винтовке. Я боялся, что упрямый старик и в самом деле потащит винтовку за собой, и тогда эти шакалы не упустят своего и перестреляют нас как куропаток.
– Кто, я останусь дома? – воскликнул дедушка Гриша и посмотрел на меня так, что, казалось, сейчас он возьмет меня за грудки. – Я тебе покажу «дома», сукин сын! – разъярился он и в самом деле взял меня за ворот рубашки…
* * *
Солнце стояло уже довольно высоко, когда мы вышли на улицу. Наш сильный лозунг был свернут и выглядел как две свежеоструганные палки, обмотанные белой тряпкой, сквозь которую просвечивало что-то красное. Со стороны могло показаться, что белый материал испачкан в засохшей крови.
Солнце взбодрило нас, внушило радость и веру. Я жил в тропиках и хорошо знаю, что значит каждый день видеть солнце и высокое голубое небо. Это счастье, которое можно оценить, лишь утратив его. Мы медленно шли по улице и посматривали по сторонам. Было тихо и подозрительно безлюдно.
– А что, там на колокольне есть колокол? – обратился я к дедушке Грише. Хотелось о чем-нибудь говорить.
– Старухи говорят, что колокол есть, – неохотно отозвался тот. Он тревожно оглядывался по сторонам и был явно не расположен к разговорам. – Говорят, снимать поленились и оставили висеть, а язык ему просто вырвали.
– Вы уверены, что колокол там? – переспросил я.
– Там! – подтвердил учитель и с интересом заглянул мне в глаза. – Василий Петрович рассказывал: их как-то на субботник в собор пригнали. Там склад минеральных удобрений, вот они там и работали, мешки таскали с одного места на другое. Он сам поднимался на колокольню и видел колокол. Говорит, огромный такой и весь зеленый. Показался ему похожим на лешего…
– Мы поднимемся на колокольню и ударим в набат! – сказал я.
– Там закрыто! У колокола нет языка. И вообще… Что за странная идея! Вы хотите славы Герцена? Так ведь он из Лондона в колокол звонил, это было безопасно и легко, а мы тут… – учитель замялся, подыскивая слова.
– А что! Это будет здорово! – воодушевился дедушка Гриша. – Колокольный звон – это красиво! Я сто лет уже не слышал, но помню: это красиво. Особенно если большой колокол.
– Но там закрыто! – повторил учитель. – Там замок и, может быть, даже сторож. Хотя нет, сторожа нет…
– Нужно что-нибудь тяжелое, – сказал дедушка Гриша.
– Зачем? – встревожено спросил учитель.
– Чтобы в колокол ударить!
– Это мы найдем! – сказал я.
Мы подходили к площади, над которой, окруженный безобразными бетонными коробками, возвышался собор. Город словно вымер. По дороге нам так и не встретилось ни одной живой души. Не было и канареечных машин, появления которых я ожидал со страхом и злобой.
– Что-то пусто тут совсем… – пробормотал дедушка Гриша. – Зря старались только.
– Да нет же, так не может быть! – заволновался учитель. – Люди должны быть! Воскресенье сегодня…
Мы остановились напротив собора. Мы были одни на залитой солнцем площади.
– Что будем делать? – спросил дедушка Гриша. – Я же говорил, винтовку надо было брать. Сейчас бы пошли к Волчановым! – брюзгливо добавил он.
– Может быть, подождем? – неуверенно предложил учитель.
Я молча развернул часть нашего знамени и протянул учителю другой черенок. Он взял. Буквы на солнце стали рубиново-красными, ткань похоронной простыни дедушки Гриши сияла белизной. Наше знамя показалось мне замечательно красивым.
Какое-то время мы топтались на месте, не зная, в какую сторону обратить наш лозунг. Потом, не сговариваясь, повернули его к собору. Дедушка Гриша отошел на несколько шагов, полюбовался на свою работу и сказал:
– Вот так и будем стоять как дураки! Народ по углам разбежался и ждет, когда приедут и Волчановых заберут. Говорил я, не надо этого ничего! Тут отродясь демонстрации такой никто не видел…
Он осекся, потому что из-за угла здания книжного магазина «Восход» стали появляться люди. Их было человек тридцать, такая небольшая толпа, которая, словно по команде, высыпала из-за угла. Учитель показал мне глазами на толпу, я слегка кивнул. Дедушка Гриша тоже увидел людей и преобразился: приосанился, стал выше, застегнул все пуговицы на строгом черном костюме.
– Я поговорю с ними! – сказал он вдруг и, не дожидаясь нашего ответа, направился к магазину.
Я, пораженный, смотрел, как строго и в то же время молодцевато, будто на параде, шагает дедушка Гриша. Он подошел к толпе, остановился, кивнул и сделал изящный точный жест рукой в нашу сторону. Слов не было слышно, но я видел, как люди постепенно, шаг за шагом, стали подходить к дедушке Грише и вскоре обступили его со всех сторон. Затем послышался гул, и из-за угла магазина вывалила уже настоящая толпа. Люди шли и шли, словно там, за углом, прорвалась какая-то запруда. Я увидел, как дедушка Гриша поднимается на крыльцо магазина и продолжает что-то говорить, как он красиво и точно жестикулирует руками. Когда старик сошел с крыльца, толпа расступилась перед ним, и он направился к нам триумфальным шагом победителя.
– Все в порядке! – громко сообщил он. – Там с ними этот самый Бульдог, друг ваш! – отнесся он к учителю. – Сказал, что сейчас к нам подойдет… Но народ! – дедушка Гриша развел руками. – Волчановы вчера слух пустили, что, мол, в городе прячется какой-то уголовник, из зоны сбежал. Под этим соусом они, кстати, весь город обшарили – искали, значит, вашего напарника! И всем советовали по домам сидеть. Но народ знает, что вы здесь, и ждет, очень даже ждет, когда начнут Волчановых брать.
– А вы им что сказали?
– Я им сказал: сидите по норам своим как суслики, а надо на демонстрацию выходить. Сказал им, что терпеть Волчановых – позор для человека. Вот, говорю, из Москвы специальный товарищ приехал, демонстрацию у нас организовал, чтобы весь народ организованно этих подонков свергнул! Они все про лозунг спрашивают, интересуются, про каких это детей? Я говорю – про тех, которых убивают. Молчат… Я им под конец врезал: овцы вы трусливые! Вот, говорю, хоть на меня посмотрите! Я старик, еле ноги таскаю, а вышел на демонстрацию. Потому что нельзя терпеть это паскудство! Друг ваш, Бульдог, один кричит: «Правильно!», а все остальные помалкивают. Ну ничего, мы их расшевелим! Да вон они, идут!
Я вздрогнул. Толпа разделилась, и к нам направлялся авангард, человек пятнадцать. Возглавлял его Василий Петрович, известный в городе как Бульдог. У него было красное, растерянное лицо. Делегаты подошли вплотную, и Бульдог, не здороваясь, обратился к нам:
– Вы нам прямо разъясните! Народ волнуется! Народ знать хочет. Я им говорю, что Волчановым труба! Говорю, что сам видел человека из Москвы, и другие вот-вот подъедут. А они не верят! Скажите им!
Я потерял дар речи. Я ждал, все время ждал чего-то подобного, но в то же время страстно верил, что этого не будет, что мне не придется стоять лицом к лицу с толпой и объяснять им то, чего я не могу объяснить даже себе самому.
– Ну, что же вы? – повысил голос Бульдог. – Народ правду знать хочет! – уже с угрозой добавил он.
Эта угроза меня спасла. Я не люблю, когда мне угрожают. Мне кажется это унизительным. Угроза в голосе Бульдога разбудила во мне злость.
– А что, народ правды не знает? – спросил я.
– То есть как? – не понял Бульдог. – То есть я-то знаю, я-то с вами в школе был, сам видел, как вы их гоняли… Но они-то не видели и сомневаются!
– Кто сомневается?! – с угрозой спросил я. Все молчали. – Видите, никто не сомневается! – повернулся я к Бульдогу, и снова слово «Хлестаков» возникло у меня в голове. – Иди сюда! – повелительно сказал я ему,
а Бульдог подчинился. – Держи! – я передал ему в руки древко. – И ты! – я подозвал невысокого рыжего мужчину лет пятидесяти в дорогом костюме и галстуке, с каким-то большим значком на лацкане пиджака. Как выяснилось потом, это был депутат городского Совета. Он подошел с дурашливой улыбкой на лице. Учитель понял меня и передал ему другое древко. Тот опасливо взял его в руки и, обращаясь к публике, пояснил:
– Я так понимаю, сейчас с телевидения приедут! Чтобы, значит, видно было, как весь народ… Как весь народ требует… – он снова запнулся. – В общем, народ хочет, чтобы Волчановых убрали! – испуганно закончил он. – Что же, мы готовы! Раз надо демонстрацию, мы всегда готовы…
– Да, сейчас с телевидения приедут! – повторил я его слова и тронул учителя за рукав. – Мы с вами на колокольню, – тихо сказал я.
– Но там заперто! – прошептал он.
Неподалеку от магазина на краю большой ямы я заметил лом. Рядом лежали две совковые лопаты. Очевидно, трудолюбивых копателей конец рабочего дня застал врасплох, и они, зная о всенародной собственности средств производства, бросили тяжелые инструменты там, где копали. Наверное, они догадались, что в понедельник все равно пришлось бы тащить их назад, и решили облегчить свой труд… Лом оказался кстати, я подобрал его и кивнул учителю. Мы вдвоем направились к собору.








