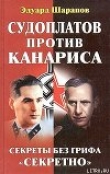Текст книги "Путь Грифона"
Автор книги: Сергей Максимов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Доводилось видеть.
– Я сам, что требуется, Ивану Харлампиевичу скажу, а он уже тебе подскажет, как умнее поступить. Он Сашкой занимался. Иди к Бедову. Я дождусь начальника Генштаба и тоже подойду. И ещё раз спасибо за немецкие бумаги. Тоже, надо полагать, дело непростое было…
Суровцев то ли утвердительно кивнул, то ли так поклонился.
– А вообще, часто бывших сослуживцев по царской армии встречаешь?
– Со многими приходится работать.
– А вот тот, что с нами в разведку ходил… Пулков, кажется. Не встречал? Противный был офицер.
– Этот противный офицер теперь финский генерал.
– Вот оно как, – не слишком и удивился такому известию маршал. – Ты где такую фуражку пошил? – вдруг спросил Жуков, повертев в руках генеральскую фуражку Суровцева, которая была не уставной – с небольшой тульей и округлым козырьком.
Уставные генеральские фуражки того времени были большего размера с громоздкими, почти четырёхугольными козырьками. Эта же была почти полной копией головного убора генералов царской и белой армий.
– В специальном ателье НКВД. Адрес дать? – ответил и сразу же предложил Суровцев.
– Не надо. Найду себе мастера в другом месте. И подешевле…
Через полчаса Суровцев знал всё, что касалось жизни Соткина за последние два года. Самым неожиданным оказался тот факт, что после недавнего тяжёлого ранения Александр Александрович находился на излечении в одном из госпиталей далёкого Томска. Ещё через полчаса Сергей Георгиевич беседовал с Судоплатовым. Павел Анатольевич оказался одним из тех работников наркомата внутренних дел, которым форма нового образца была решительно к лицу. Удивительное дело – такая, казалось бы, не слишком значительная деталь военной формы, как погоны, заставила людей невольно развернуть плечи. Ещё было забавно наблюдать, что опущенное правое плечо бывших гражданских начальников и партийных аппаратчиков, оттянутое за многие годы ношением в правой руке тяжёлых портфелей, при наличии погон выдавало их недавнее бюрократическое прошлое. А ещё твёрдые вставки в погонах старших офицеров вступали в противоречие с самой гражданской привычкой сутулиться.
– Таким образом, – не скрывая облегчения, продолжал Судоплатов, глядя на Суровцева, – никаких препятствий для изъятия и передачи ценностей больше нет.
– Так точно. Не найден только один человек: дочь заместителя начальника Томскасинлага Железнова – Мария. Мария Железнова, – уточнил Суровцев.
Да, дорогой читатель! Суровцев, используя своё нынешнее положение, разыскивал дочь Аси – Марию.
– Если она осуждена, то рано или поздно найдём. Когда планируется акция изъятия и передачи золота?
– Сразу, как только смогу лично выехать в Сибирь. Нам всем сейчас предстоят жаркие месяцы и потому сложно что-то планировать.
– Я думаю, что товарищу Берии будем докладывать вдвоём.
– Вам необходимо зафиксировать сам момент выполнения вашей части задания?
– А как вы думали? С одной стороны, хорошо, что этот вопрос в компетенции высшего руководства, но с другой – из-за этого и я до сих пор не мог себе позволить забывать о нём. А у меня своих дел, извиняюсь, по горло. Вот что ещё мне пришло на ум… Вы что-нибудь слышали о Нафталии Ароновиче Френкеле?
– Конечно. Как все сидевшие в тюрьмах и лагерях…
– Вот как. И что говорят о нём в тюрьмах и лагерях?
Суровцев ответил не сразу. Это оказалось совсем не просто – даже приблизительно систематизировать мнения об этом человеке.
– Зэки отзывались о нём со смешанным чувством восхищения и ненависти. Тюремное и лагерное начальство чаще всего со страхом, переходящим в ужас, – ответил он на поставленный вопрос.
– Хороша характеристика, – рассмеялся Павел Анатольевич. – Насколько я знаю, теперь и военные не могут определиться со своим мнением о Френкеле. Что-нибудь о строительстве железной дороги во время Сталинградской операции слышали?
– Разумеется. Но детали не знаю.
– Восемьдесят два километра железнодорожного полотна за десять дней работы были проложены под руководством Френкеля. Он откуда-то из Забайкалья и шпалы и рельсы притащил и чуть больше чем за неделю построил новую дорогу. У вас сложная биография, а у Нафталия Ароновича и вовсе не биография, а один большой приключенческий роман. Есть в ней и два смертных приговора, и зэковское прошлое, и нынешняя должность, почти равная должности заместителя наркома. Если человек, которого мы не можем найти, имел отношение к руководству строительством железной дороги, то следы такого человека нужно искать в Главном управлении лагерей железнодорожного строительства НКВД СССР. Это значит у Френкеля. Я вам точно говорю.
Сергей Георгиевич, как все довоенные и зэки, и чекисты, знал легендарную историю строительства бани на Соловках, осуществлённого строителем по диплому Френкелем за двадцать один час вместо испрошенных у лагерного начальства полных суток. Всех удивлял и поражал сам подход, как и категорическое требование тогда заключенного Френкеля. «Мясной пищи и спирта для строителей», – нагло потребовал у лагерного руководства Нафталий Аронович. Бригада его состояла из пятидесяти человек, из которых тридцать, здоровых, были владеющие топором и пилою бывшие моряки-кронштадтцы. С ними двадцать больных доходяг – лагерных старцев из числа духовенства и научной интеллигенции.
Как байку пересказывали историческую речь «бугра» о том, что «если не успеем построить, к стенке встанем все». «Доходяги и того раньше окочурятся при морозе минус двадцать пять и при северном ветре. Для них сейчас и первые стены. Пусть сразу и печи себе и нам кладут». Вот что-то такое или приблизительно такое он и сказал в день строительства.
Конечно, легенда есть легенда, и построил он не баню, а то, что потом в лагерной жизни получило название «санпропускник». Но дело было сделано – разносчики эпидемии, вши, на Соловках были побеждены. А зэк Френкель с ополовиненным сроком стал начальником производственного отдела СЛОНа – Соловецкого лагеря особого назначения. Чтобы скоро возглавить такой же отдел, но не в СЛОНе, а в УСЛОНе.
Должен пояснить читателю, что в понимание этих созвучных понятий в перестроечное время была внесена путаница. УСЛОН – это уже не Соловецкий лагерь. Это – Управление северных лагерей особого назначения, объединившее шесть лагерей русского Севера: Пинюгинский, Усть-Вымский, Котласский, Архангельский, Сыктывкарский и Ухтинский. А по состоянию на 1 января 1930 года эта система дополнилась Северным, Соловецким, Карело-Мурманским, Свирским и Вишерским лагерями. Эти лагеря стали эталонными в деле превращения каторги в сложное, максимально рентабельное хозяйство страны.
С тех времён сохранилась одна примечательная фраза Френкеля: «Заключенный интересует меня только первые полтора месяца заключения»… Надо прямо сказать, что, несмотря на все ухищрения, приблизить рабский труд по производительности и по качеству к труду часто тоже полуголодных, но свободных строителей большевикам не удалось. Но, думается, личность Нафталия Ароновича Френкеля от таких уточнений станет более рельефной и более понятной по своей значимости. После этого стоило ли удивляться, как ему удавалось в считаные дни прокладывать железнодорожные ветки. Путевая решётка для Сталинградской фронтовой дороги была демонтирована с Байкало-Амурской магистрали, строительство которой перед войной возглавлял этот человек. Где Байкал с Амуром и где Сталинград?
– Так давайте обратимся к Френкелю с нашим вопросом, – то ли пошутил, то ли серьёзно предложил Сергей Георгиевич.
Судоплатов посмотрел на Суровцева так, как может смотреть на глупого, непосредственного в проявлении чувств внука умудрённый жизнью дед. Назидательно сказал:
– Это со стороны может показаться, что у нас здесь монолитные, стальные чекистские ряды. Всё у нас очень не просто. Могли бы и сами это заметить. Как, кстати, наша Лина-Ангелина?
Часть вторая
Глава 1
Худо без добра
1923 год. Май – июль. Томск. Аян
Отличительной особенностью новой власти оказалось то, что проливать кровь она не только не боялась, но и охотно её проливала, как только чувствовала малейшую для себя опасность. Наградив в своё время Николая Второго эпитетом «кровавый», большевики свою кровожадность именовали «классовой непримиримостью». В Крыму ещё продолжалось уничтожение офицеров и представителей буржуазных классов, а первого марта 1921 года в Кронштадте вспыхнул антисоветский мятеж «красы и гордости революции» – балтийских моряков. Делегаты X съезда РКП(б) через две недели после начала мятежа, пятнадцатого марта, проголосовали за принятие новой экономической политики и частично отправились на подавление восстания бывших товарищей по революционному переустройству страны.
Весь 1921 год прошёл для новой власти в неутихающей борьбе с мятежами и крестьянскими восстаниями по всей стране. Но замена продразвёрстки (до семидесяти процентов и выше отъема урожая) на продовольственный налог (тридцать процентов урожая) сделала своё дело. Восстания пошли на убыль. Что всё равно не спасало от голода, мора и глада из-за разрухи во всех отраслях экономики. Разбалансированная денежная система изживала сама себя, и единственным надёжным средством товарообмена становился обмен натуральный.
Демобилизованные красноармейцы заставали по возвращении домой расстроенное хозяйство. Деревни заметно обезлюдели. Города захватила безработица. Власть не могла и не умела наладить новую жизнь. Жить в новых условиях оказалось невыносимо. «Возвращаться к жизни по-старому – значило признать ошибочность и глупость самого свершения революции», – такой вывод всё чаще терзал сознание победителей в Гражданской войне. А теперь и вовсе хозяевами жизни оказались третьи лица. Быстро богатели нэпманы. Уголовная преступность нового времени оказалась необычайно смелой, циничной и несказанно жестокой. Часто с опытом бандитизма. Государственный, чиновничий аппарат налаживал свою, отдельную от народа, жизнь.
Кто бы что ни говорил об экономической политике, но общее мнение населения было о ней таково: выверенной программы построения нового общества у власти не было. Послереволюционная жизнь выстраивалась методом проб и ошибок. Методом, который народ быстро окрестил «методом тыка». Попробовали военный коммунизм – не пошло. Попробовали новую экономическую политику – оказалось, что она противоречит самой идее бесклассового общества. Плохо было почти всем, и можно было только спорить: кому жилось хуже?
В весенние месяцы 1922 года накануне расформирования в Первую конную армию, централизованно, из Москвы, поступила партия парадных гусарских киверов. Экзотические головные уборы вызвали у будённовцев самые противоречивые чувства от веселья до раздражения.
– Да они что, издеваются?! – негодовал Будённый. – Они ещё гусарские ментики с доломанами нам прислали бы!
– Не шуми, Семён, – успокаивал командарма Ворошилов, – в другие армии вон кирасирские каски поступили, и то ничего… В Москве и Питере все кавалерийские курсы давно в киверах и касках. О смотрах и парадах уже не говорю.
– И что? Орлов царских они бумажкой залепляют? – громко недоумевал командарм.
– Кто как приспособится.
– А вы чего лыбитесь? – переключился Будённый на Хмельницкого и на зашедшего по делам в штаб Суровцева.
– Да я ничего не говорю, – оправдывался Хмельницкий.
– А ты чего? – спрашивал Будённый уже Суровцева.
– Я понимаю ситуацию таким образом, что военной формы не хватает, – отвечал Сергей Георгиевич, – а на складах осталось много парадной формы старой армии. Во время войны это носить – конечно, глупость. Но для учебных команд и для кавалерийских курсов мирного времени – это даже хорошо. Хотя бы голову научатся прямо держать.
– Ну, это да, – согласился командарм, поносивший до революции уланскую парадную форму, – кивер и каску, оно конечно, на затылке не потаскаешь. Да и казакам свои чубы хочешь не хочешь, а придётся прятать. А то дай волю – они бороды опять отрастят.
– Народ правильно говорит, – вставил своё слово Ворошилов, – не бывает худа без добра.
Мария Александровна Суровцева и Маргарита Ивановна Мирк, прежде снимавшие этаж в особняке на улице Белинской, сносили в бывшую гостиную свои вещи. Повсеместное уплотнение коснулось и этой странной семьи. Уже был заселён по ордерам томского жилищного отдела первый этаж двухэтажного дома.
С сегодняшнего дня за тётушками Суровцева осталась только одна из пяти занимаемых прежде комнат во втором этаже. Среди сваленных как попало вещей эти женщины были похожи на двух коллекционных кукол, случайно попавших в лавку старьёвщика. Если в молодые годы они имели обыкновение разговаривать между собой одна на немецком, а другая на французском языке, то в новом времени они не находили и русских слов, чтоб не выделяться среди языковой стихии нового времени. Да и правда, лучше им теперь было бы помалкивать.
– Но должен же быть какой-то выход, Мария! – воскликнула Маргарита Ивановна, водружая на стол поверх груды старых вещей подшивку таких же старых газет.
– Я не вижу выхода, – присев на стул, устало проговорила Мария Александровна.
– Роялю здесь просто нет места. Может быть, нам следовало согласиться на переселение вниз?
– Нет. Здесь у нас хотя бы остается отдельный вход, – кивнула Мария Александровна на застеклённую дверь на балкон, который действительно был оснащён крутой лестницей с перилами.
– Что будем делать с книгами? Новые жильцы их попросту сожгут в печи.
– Пусть жгут. Ничего мы с тобой не сможем поделать. Ничегошеньки. Журналы и газеты университетская библиотека согласилась взять, в приёмке книг отказали. Говорят, теперь их просто негде хранить. Библиотеки томских купцов свалены прямо в коридорах. Редчайшие издания. Смотреть жутко: инкунабулы и фолианты лежат на полу.
Они долго, молча глядели на газеты, в которых до революции под звучными псевдонимами публиковали свои стихи и фельетоны. Прислушались к скрипу ступеней на лестнице в глубине комнат.
– Параскевушка, кормилица наша, вернулась, – грустно улыбнувшись, объявила Мария Александровна.
Тяжело дыша, в комнату вошла няня Сергея – Параскева Фёдоровна. По довольному лицу пожилой женщины можно было заключить, что её поход на городскую толкучку был удачным.
– Ну вот и я, – объявила няня, – книжки обратно принесла, а часы вот обменяла.
Женщина выставила на свободный угол стола бутылку молока. Достала из сумы на лямке через плечо черную как смоль буханку хлеба и свёрток с жирными пятнами поверх газетной обёртки.
– Сало. Вот богатство-то! – хлопнув в ладоши, воскликнула Маргарита Ивановна, уловив аппетитный запах.
– Что бы мы без тебя делали, Параскевушка, – только и добавила Мария Александровна.
– Сашки не было? – вдруг спросила Параскева Фёдоровна.
– Какого Сашки? – не поняла немецкая тётушка Суровцева.
– Нашего Сашки… Соткина… Я его, шалопута, на рынке встренула. Сказала, что письмо ему от нашего Сергея пришло. Впереди меня побёг. Обещал муки принести. Так что тесто к вечеру заведу.
– Нет, не было Соткина, – ответила за двоих Мария Александровна, как и Маргарита, воспринимавшая Соткина как Соткина или Александра Александровича, но не как Сашку.
– Умеет жить, прохиндей. Пока стояла с ним на рынке, и цыгане к нему подходят по ручке здоровкаются, и жулики базарные кланяются, и милиционер прошёл, честь, как большому начальнику, от шапки отмахнул.
Параскева Фёдоровна сказала только часть правды про встречу с Александром Александровичем. Первоначально встретились они у стен Алексеевского монастыря, где женщина просила милостыню. За этим занятием и застал её бывший офицер. Подошёл точно к незнакомой, вложил ей в руку двадцатирублёвую купюру советскими деньгами. Это были очень большие деньги. Когда изумлённая женщина подняла глаза, то со стыдом и ужасом услышала:
– Пойдём, христова невеста. На сегодня лимит милостыней вышел…
Не успела «невеста» и слова сказать, как была поднята с земли сильными руками и увлечена в сторону.
– Ты уж смотри, Сашенька, голубушкам моим не проговорись, что я милостыню просила, – пыталась высвободиться женщина, – сердиться станут. Голодают мои родненькие. Сил нет смотреть, как страдают бедненькие.
– А ты тоже смотри не говори, что я тебе деньги дал. Я тебе ещё давать буду, только не ходи сюда больше. Договорились? Чего это в суме у тебя?
– Да вот на продажу или на мену снести хочу. Часы да книжки.
– Книжки можешь сразу выкинуть, а часы я тебе пристроить помогу, – пообещал Соткин.
– Сашенька, да тебя же письмо от Сергея нашего ждёт.
– Ну а чего же ты молчишь?
– Так и сказать не успела.
Соткин действительно явился почти следом за Параскевой Фёдоровной. Принёс полмешка муки. С его физической силой он мог бы одной рукой пронести даже пятидесятикилограммовый мешок с мукой, но это значило привлекать завистливые, удивлённые и любопытные взгляды голодных горожан. Половина мешка с мукой в его руках смотрелась примерно так же, если бы он шёл с обычной хозяйственной сумкой. Расцеловался с тётушками. Выложил на угол стола рядом с молочной бутылкой увесистый кусок сахара и коробку чая.
– Примите паёк, гражданки дворянки. И извольте дать мне моё письмо.
Пока женщины освобождали стол для предстоящей трапезы, Соткин читал. Письмо было не просто странным – оно было идиотским:
«Здравствуй, дорогой товарищ Соткин!
В битвах с польскими панами и международной контрой получил я телесно-головную и душевную контузию. Лечился на берегу тёплого Чёрного моря. Да так до конца и не вылечился. Видать, не там и не у тех лекарился. С великой радостью сообщаю тебе, что я и мои верные боевые товарищи-будённовцы вымели поганой метлой махновские и прочие недобитые контрреволюционные элементы с запада советской республики. Знаем, что на востоке ещё изрыгает предсмертные проклятья в адрес Красной армии японский капитал и не могут успокоиться белые недобитки – кровавый барон Унгерн в Монголии и кровожадный генерал Пепеляев в Якутии. Встречайте их по-пролетарски, бейте гадов на восточных рубежах нашей дорогой республики закалённым штыком-молодцом, а когда и революционной, сознательной пулей. В хвост их и в гриву. Недалёк тот день, когда последние клочки мирового капитала разлетятся по закоулкам мировой человеческой истории. А если будет вам трудно, то сформируем заново нашу конную и придём к вам на помощь. Жму твою сильную и щедрую руку. Знамо дело, с революционным первоконским приветом, твой боевой товарищ Сергей».
Повертев разорванный конверт без почтовой марки, Соткин увидел штамп: «Проверено военной цензурой». Всё ему сразу стало понятно. Письмо напоминало письмо контуженого человека. Чего автор явно добивался. Александр Александрович, было время, развлекался похожим образом, когда неграмотные солдаты просили «отписать письмо до дому». Но он понял главное: Суровцев побывал в Крыму. Как понял и то, что золото не нашло там своего адресата. Действительно, где Крым, а где Томск?
В те времена в обиход сибиряков входила присказка не присказка, байка не байка о Крыме и о столице ссыльных Нарыме. Показав на южную звезду, спрашивали: «Видишь звезду?» «Вижу», – отвечал собеседник. «Там Крым», – говорил рассказчик. «А эту звезду видишь?» – снова спрашивал интервьюер, указывая на звезду Полярную. И не дожидаясь ответа, добавлял: «А там Нарым…» О высадке в порту Аян добровольческой дружины Пепеляева Соткин знал. Он действительно какое-то время ждал посланца от генерала. Но по всему выходило, что белогвардейская экспедиция в Якутию не достигла желаемого результата. Посланцев не было, и, значит, золото, изначально предназначенное для продолжения борьбы с большевиками, опять не дождалось своего часа. Армию Будённого, надо полагать, расформировали, и сейчас Суровцев решает, как жить дальше. Александр Александрович раскрыл дверцу в голландской печке. Бросил туда скомканное письмо. Чиркнув спичкой, поджег конверт. Поймав на себе любопытные взгляды женщин, обернулся и, чтобы пресечь всякие расспросы, авторитетно заявил:
– Письма по нынешним временам – лишняя головная боль. Ваш знакомый, редактор Адрианов, письмо Корнилова хранил, и что? Нет больше редактора Адрианова.
Мария Александровна и Маргарита Ивановна невольно перевели взгляд на подшивки «Сибирской жизни». Соткин между тем встал. Направился было к выходу. Он не желал смущать голодных женщин своим присутствием. Предупреждая их предложение вместе отобедать, заявил:
– Без меня откушайте, что Бог послал. А я вот что вам скажу: съезжать вам отсюда надо.
– Да куда же мы съедем? – спросила Мария Александровна.
– Хоть к чёрту на кулички. Не дадут вам здесь никакой жизни. Видите, как лихо вас подвинули и уплотнили! На квартирный вопрос теперь есть тюремный ответ. А то и стенка безответная. Донос кто-нибудь состряпает, подкинут вам чего-нибудь запрещённого, и в дом заключения переселитесь, не заметите как…
В двадцатые и тридцатые годы в Томском доме заключения отбывали срок люди, чей образовательный и культурный уровень, вероятно, остался недосягаем не только для пенитенциарной системы страны, но и для среднестатистического уровня в срезе образованной части всего советского общества. Строки из отчёта Сибюста за тысяча девятьсот двадцатый год гласили: «Широко поставлена культурно-просветительная работа среди заключённых, устроены оперный и драматический театры… имеются струнный, симфонический и духовой оркестры; открыты художественная и скульптурная мастерские». Можно было бы отнести эти строки к обычному советскому очковтирательству, коим с первых лет своей власти успела отличиться новая революционная бюрократия. Но более конкретные отчёты за двадцать второй год потрясают удивительными фактами… «Силами заключённых той же тюрьмы поставлено семь оперных спектаклей, сделавших бы своим репертуаром честь любому современному оперному театру: “Фауст” Гуно, “Борис Годунов”, “Аскольдова могила”, “Гейша”. Дано пятьдесят пять драматических спектаклей по пьесам А. Островского, А. Чехова, А. Куприна и многих других». К этому остаётся добавить семнадцать концертов, в программах которых произведения Грига, Листа, Бетховена, Шопена и почти вся отечественная классика.
– Съезжать, – снова повторил Соткин. – Параскева говорит, что и с работы вас выперли.
– Происхождение… ничего не поделаешь, – вздохнула Маргарита Ивановна.
– Знали бы прежние студенты из дворян и разночинцев, что при нынешней власти их не то что свободы слова, их просто возможности поступать в университет лишат, – добавила от себя Мария Александровна.
– Ну почему же, – не согласилась Маргарита Ивановна, – свобода слова есть. Один студент, из сознательных пролетариев, недавно потребовал от студенческого профкома закрепить за ним студентку. Якобы нерешённый половой вопрос мешает ему добросовестно и усидчиво учиться. Онанизм вредит учёбе… Так и написал. Причём слово «онанизм» написал через букву «а» и ещё с тремя грамматическими ошибками.
– А ты сам-то чего не едешь домой? – поинтересовалась Параскева Фёдоровна.
– Съездил. Посмотрел… Два моих брата у красных были… Так что я вроде как в семье выродок. Опять же квартирный вопрос. А ты, старая, чего не в деревне? И у тебя, знаю, тоже всё не просто…
– Ой, не просто, Саша. И у меня тоже всё наперекосяк. Вся семья с этой самой революцией пересобачилась.
Соткин покинул тётушек Суровцева со смешанным чувством тревоги и досады. Он понимал, что его доводы о необходимости если не скрыться, то сменить место жительства не были услышаны. Для себя, впрочем, решив, что он не бросит их в трудное время и будет помогать впредь. Удивительное дело: за эти годы он неожиданно для себя отметил, что у него всегда стали легко находиться средства к существованию. Деньги точно прилипали к уполномоченному по заготовке пушнины Соткину. И он усмотрел в этом какой-то неясный Божий промысел. Он улавливал какую-то мистическую связь между тем, что сохраняет огромные, но не свои личные средства, и тем, что сам всегда был при деньгах при небольших усилиях. Никто не запрещал ему запустить руку в золотые закладки, но и без того точно высшие силы давали ему средства для существования и даже для помощи близким. Нечто похожее отметил за собой продолжавший служить в Красной армии Суровцев. Но Сергей Георгиевич, в отличие от Соткина, был скромен в потребностях. Ему всегда хватало самого малого. Господь точно давал им знаки… Не иначе.
А ещё бывший капитан Соткин удивительно легко адаптировался в новых послевоенных условиях. В каждом небольшом городе всегда были, есть и будут люди, которые, даже несмотря на свою сомнительную репутацию, пользуются всеобщим вниманием и уважением. Так было и с ним. Единственная категория жителей, с которой Александр Александрович не желал иметь и не имел взаимоотношений, были чекисты. Он справедливо рассудил, что иметь дело с ЧК-ОГПУ – это иметь дело с опасным механизмом или машиной. И даже отдельные чекисты и не люди вовсе, а части страшной, убивающей конструкции. Прикоснёшься – зацепит, намотает на себя и затащит в лязгающее нутро. А вот бывшие белогвардейцы, напротив, казались частями сломанной государственной машины. Кто-то весь проржавел и был ни на что не годен, кто-то был в рабочем состоянии, но нового достойного применения себя в новой жизни не находил.
Случайно на томской улице столкнулся с бывшим поручиком контрразведки Никоновым, который тринадцатого сентября девятнадцатого года встречал пароход «Иван Корнилов», которым Соткин доставил в Томск из Тобольска первую часть золота и церковные ценности. Никонов, конечно, не забыл о золоте, которое выгружалось на берег Томи рядом с речным дебаркадером. Жадно вцепились друг в друга при общении. Но если интерес к собеседнику после завязавшегося разговора со стороны Никонова только возрастал, то Соткин, напротив, быстро терял даже признаки интереса. Никонов оказался «старателем», занятым частными поисками следов золотого запаса. Тогда как Александр Александрович ждал полномочного представителя белого движения. Между тем Никонов оказался человеком, достаточно информированным о перипетиях с золотом. О чём свидетельствовали его вопросы:
– А штабс-капитан Киселёв в Томске не объявлялся? – спросил он Соткина.
– Нет. С декабря девятнадцатого не видел и не встречал. Я так понял, ты из-за кордона вернулся? Так что это я о Киселёве тебя спрашивать должен.
По молчанию Никонова Соткин понял, что не ошибается насчет недавнего пребывания Никонова за границей. Как понял и то, что штабс-капитан Киселёв, перевозивший одну из частей золота, в основном драгоценный лом, состоявший из орденов сибирского правительства, как в воду канул. Теперь осталось только выяснить, где именно за границей находился сам Никонов после разгрома и отступления белых сибирских армий. А ведь еще, кроме Никонова, где-то коптили свет такие «старатели» и охотники за золотом, как поручик Богданов и штабс-капитан Дранкович. Того и гляди, могут тоже объявиться в Томске.
– Что генерал Пепеляев? Возвращаться обратно не собирается? – спросил он бывшего поручика.
– Отправился из Владивостока в Якутию. Там началось восстание против большевиков.
– А ты, значит, за золотишком отправился?
– А почему бы и нет? – в свой черёд спросил поручик.
– Тогда разворачивайся и дуй обратно в Харбин, – больше не сомневаясь, откуда тот прибыл, объявил Александр Александрович Никонову.
– Почему?
– Золота в Томске нет.
– Как нет? – удивился Никонов.
– Есть на севере, в районе Сургута. Там Киселёв оставил, что не смог довезти до Томска из Тобольска, когда реки сковало льдом. Я тебе больше скажу, у меня и карта есть с обозначением места. Но я тебе не советую туда отправляться.
– Почему же?
По нездоровому блеску в глазах Никонова Соткин понял, что, как любой человек, подверженный золотой лихорадке, поручик психически не совсем нормален, когда речь заходит о золоте. «Сейчас ему можно говорить и внушать всё что угодно и он всё примет на веру. Всё, кроме одного – этого золота он никогда не увидит», – в одну секунду он точно поставил диагноз, заодно и вынес смертный приговор поручику.
– Спрашиваешь, почему бесполезно туда отправляться? – обратился бывший капитан к больному.
– Да. Да. Почему?
– Сколько с тобой человек?
– Трое.
– Офицеры?
– Да.
– Втроём его не перевезти.
– Почему?
– Мало людей. Раз. Не организовать охрану и незаметную доставку. Два. Не вывезти потом из Томска. Три.
– Что же делать?
– Я же сказал. Отправляться обратно в Китай. Пока границы дырявые.
– Но с вами нас уже будет четверо.
– Я же тебе сказал, я в этом не участвую. Единственно, что могу – это помочь встретить вас с грузом, чтобы потом как-то двинуться дальше. Понятно, что не бесплатно. Карту в этом случае я согласен вам дать.
– Мне нужно подумать и посоветоваться.
«Советуйся, – подумал про себя и Александр Александрович, – а думать придётся мне». Ему действительно нужно было думать, как обезопасить и себя, и закладки золота от возможных последствий этого старательского визита. В отличие от прибывших офицеров он знал, что через несколько дней их попросту выловят томские чекисты. Это бы не особенно волновало Соткина, если бы не было этой встречи. На допросе в ОГПУ из Никонова со товарищами в пять минут выколотят всё, что они знают. И о золоте, и о бывшем капитане Соткине, который столь благополучно устроился и обжился в городе. «Ну что ж, они сами выбрали свою судьбу», – решил Александр Александрович.
Действовал он быстро и решительно. Перво-наперво снял дом на окраине города в районе ближнего склада, в двух шагах от реки Томи. Туда и поселил нежданных гостей: Никонова и ещё двух бывших офицеров – подпоручика и прапорщика, именами и фамилиями которых даже не поинтересовался. На свои деньги купил продукты и амуницию для экспедиции, договорился с капитаном парохода о доставке на томский север «охотничьей артели». Других «охотников» он в течение дня завербовал среди уголовников. С ними же решал вопрос вооружения.
– Расклад такой, – говорил авторитетному томскому жулику по кличке Водяной, – офицеров кончать сразу, как только они выведут на золото.
– Это понятно, – глядя большими, бесцветными, и действительно, какими-то водянистыми глазами, кивнул Водяной. – А твой интерес какой?
– Мой интерес простой. Как и у тебя. Встретить в Томске тех, кто вернётся. Да поделить, что привезут.
– А как ты делить думаешь? По совести? По справедливости? Может быть, по закону? Так он у всех разный, закон…
– Я думаю делить поровну, – ничуть не смутился от многозначительности вопроса Александр Александрович. – На нас двоих делить. Это золото и на двоих разделить трудно. Твоим тоже надо укорот делать. Так что подбери таких, которых не жалко потом пристрелить будет.