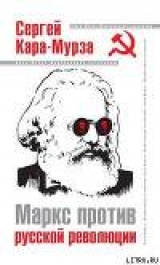
Текст книги "Маркс против русской революции"
Автор книги: Сергей Кара-Мурза
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
Глава 12. Теория революции Маркса: узость модели
Конфликт между Марксом и русскими революционерами имеет несколько уровней. Структура его не разобрана из-за умолчаний, вызванных особым местом, которое занимал марксизм в идеологии мирового левого движения и в официальной советской идеологии.
В первой части данной работы говорилось о том, что установки Маркса и Энгельса были отягощены радикальным евроцентризмом и русофобией. Это создавало внутреннюю противоречивость всего учения, поскольку из-под концепции исторического процесса как борьбы классов периодически прорывалось более фундаментальное представление истории как борьбы народов . Однако не менее важен и другой фактор: евроцентризм заставлял Маркса так сузить рамки его представления революции, что основные противоречия, порождавшие с середины ХIХ века революционные движения, из этой модели исключались. Следовательно, они и не могли получить одобрения основоположником марксизма.
Для судеб России важно и то, что наша интеллигенция приняла как догму понятие революции , проникнутое этими представлениями марксизма. Это положение сохраняется практически до сих пор. Например, «Философский словарь» (1991) гласит: «Революция – коренной переворот в жизни общества, означающий низвержение отжившего и утверждение нового, прогрессивного общественного строя; форма перехода от одной общественно-экономической формации к другой… «Переход государственной власти из рук одного в руки другого класса есть первый, главный, основной признак революции как в строго-научном, так и в практически-политическом значении этого понятия» (Ленин В.И.). Революция – высшая форма борьбы классов».
Выделим главные черты, которые приписывает революциям это определение.
Во-первых, революция представлена как явление всегда прогрессивное , ведущее к улучшению жизни общества («низвержение отжившего и утверждение прогрессивного»). Этому определению присущ прогрессизм .
Во-вторых, это определение исходит из формационного подхода к истории. В его поле зрения не попадают все другие «коренные перевороты в жизни общества», которые не вписываются в схему истории как смены общественно-экономических формаций. Этому определению присущ экономицизм .
В-третьих, революция в этом определении представлена как явление классовой борьбы . Из него выпадают все «коренные перевороты в жизни общества», вызванные противоречиями между общностями людей, не подпадающими под понятие класса (национальными, религиозными, культурными и др.).
Это исключительно узкое и ограниченное марксистское понятие служит фильтром, который не позволяет нам увидеть целые типы революций, причем революций реальных, определяющих судьбу народов. Более того, это понятие ошибочно , оно задает нам ложную модель. Перед нами очевидный факт: за последние двести лет в мире не произошло революций, отвечающих приведенному выше определению. Ему соответствуют только буржуазные революции в Англии ХVII века и Франции конца ХVIII века. В ХХ веке классовых революций не было, но зато прошла мировая волна революций в сословных обществах «крестьянских» стран, затем волна национально-освободительных революций, а в последние десятилетия – волна постмодернистских «бархатных » и «оранжевых » революций, вызванных геополитическими и культурными противоречиями.
Маркс, как известно, изучал классовое капиталистическое общество (на материале Англии) и назревающую в нем, как он предполагал, пролетарскую революцию. Доктрине марксизма присущ крайний экономицизм – в ней не только революции, но и вообще любая политическая борьба сводится исключительно к экономическим причинам и к борьбе классов, отрицается любая иная природа общественных конфликтов. В важном труде «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Энгельс пишет: «По крайней мере для новейшей истории доказано, что всякая политическая борьба есть борьба классовая и что всякая борьба классов за свое освобождение, невзирая на ее неизбежно политическую форму, – ибо всякая классовая борьба есть борьба политическая, – ведется, в конечном счете, из-за освобождения экономического » [1, с. 310].
Такое представление общественных противоречий – крайняя абстракция. В действительности конфликты на экономической почве являются лишь одним из многих типов общественных конфликтов. Чаще всего конфликты возникают на почве культурных различий – в прошлом религиозных , в ХХ веке – национальных . Разумеется, во всех случаях важную роль играют и экономические интересы, но они каждый раз «сплавлены» с внеэкономическими факторами в своеобразную систему, несводимую к политэкономии.
Американский этнограф К. Янг, посвятивший классификации конфликтов большую книгу (1976), говорил в Москве на конференции «Этничность и власть в полиэтнических государствах»: «Широкомасштабное насилие, имевшее место в последние десятилетия в рамках политических сообществ, в огромном большинстве случаев развивалось по линии культурных, а не классовых различий; в экстремальном случае геноцид является патологией проявления культурного плюрализма [то есть этничности ], но никак не классовой борьбы» [96].
Более того, во второй половине ХХ века, на исходе Нового времени, западное общество даже смогло интегрировать то, что Маркс считал импульсами революции, в качестве укрепляющих общество инструментов. Известный французский философ Ж-Ф. Лиотар отмечал в книге «Состояние постмодерн»: «Марксизмом руководит другая модель общества… В основе этой модели лежит борьба классов… Здесь невозможно обойтись без перипетий, которые занимают общественную историю, политику и идеологию в течение более века… Судьба их известна: в странах с либеральным или прогрессивно-либеральным правлением происходит преобразование этой борьбы и ее руководителей в регуляторы системы… И повсюду, под разными названиями, критика политической экономии (под названием «Капитала» Маркса) и критика связанного с ней общества отчуждения используются в качестве элементов при программировании системы» (см. [97]).
В последние двадцать лет мы наблюдали исторического масштаба революционную трансформацию «обществ советского типа» в СССР и странах Восточной Европы. Организованным движением, которое наиболее последовательно готовило эту революцию, была польская «Солидарность». Однако мотивация этой внешне «буржуазной» революции была совершенно не классовой .
Вот что говорится об основаниях этой мотивации: «Солидарность представляла собой «ценностно-ориентированный монолит», а не сообщество заинтересованных в достижении конкретных целей групп общества. Разделительная линия между противоборствующими силами пролегала не в социальной или классовой плоскости, а в ценностной, то есть культурной, точнее культурно-политической, или социально-психологической. Фактически общественная функция этого движения свелась к разрушению социалистической системы. Предпосылки институционального краха этой системы возникли после распада ее ценностной основы.
Однако этос Солидарности , провозглашавшиеся ею идеалы были бесконечно далеки от социокультурной реальности общества либерально-демократического типа, от рыночной экономики, частной собственности, политического плюрализма, западной демократии. Солидарность как тип культуры – несмотря на свою антикоммунистическую направленность – тяготела скорее к предшествующему периоду консервативной модернизации с ее неотрадиционалистским заключительным этапом, чем к сменившей его эпохе прагматизма» [98, с. 141].
В случае радикальных революций, сопровождающихся гражданской войной, конфликт на экономической почве даже не является главным. Американский социолог (из числа высланных из СССР в 1922 г. философов) П.А. Сорокин пишет: «Гражданские войны возникали от быстрого и коренного изменения высших ценностей в одной части данного общества, тогда как другая либо не принимала перемены, либо двигалась в противоположном направлении. Фактически все гражданские войны в прошлом происходили от резкого несоответствия высших ценностей у революционеров и контрреволюционеров. От гражданских войн Египта и Персии до недавних событий в России и Испании история подтверждает справедливость этого положения» [99].
Марксистское определение революции страдает еще и тем изъяном, что отсылает нас к понятию класса , которое таит в себе большую неопределенность. Споры относительно этого понятия велись после выхода основных трудов Маркса около ста лет. В результате понятие класса усложнилось – основанием для классификации стало не только отношение социальной группы к собственности, но и признаки культуры . На то, что понятие класса вообще трактуется совершенно по-разному в разных культурах, указывалось и раньше.
Например, О. Шпенглер пишет о восприятии этого понятия в Германии: «Английский народ воспитался на различии между богатыми и бедными, прусский – на различии между повелением и послушанием. Значение классовых различий в обеих странах поэтому совершенно разное. Основанием для объединения людей низших классов в обществе независимых частных лиц (каким является Англия), служит общее чувство необеспеченности . В пределах же государственного общения (т.е. в Пруссии) – чувство своей бесправности ».
В другом месте Шпенглер пишет: «Маркс мыслит чисто по-английски. Его система двух классов выведена из уклада жизни народа купцов… Здесь существуют только «буржуа» и «пролетарий», субъект и объект предприятия, грабитель и ограбленный. В пределах господства прусской государственной идеи эти понятия бессмысленны» [62, с. 71, 114.].
Не соответствовала марксистскому определению классов и структура общества социалистических стран Восточной Европы в период подготовки «бархатных» революций. Н. Коровицына пишет: «По наблюдениям польских социологов, именно образование служило детерминантой идеологического выбора в пользу либерализма в широком его понимании. Высокообразованные отличались от остального населения по своему мировоззрению. Можно даже сказать, что все восточноевропейское общество, пройдя путь соцмодернизации, состояло из двух «классов» – имевших высшее образование и не имевших его. Частные собственники начального этапа рыночных преобразований не представляли из себя социокультурной общности, аналогичной интеллигенции. Более того, как свидетельствуют эмпирические данные, они даже не демонстрировали выраженного предпочтения либеральных ценностей» [98, с. 59].
Совсем иначе, нежели в марксизме, понимался смысл классов и в России – именно по этой причине советские граждане так долго не замечали ошибочности отнесения русских революций к классовым. Н.А. Бердяев в книге «Истоки и смысл русского коммунизма» писал: «Марксизм разложил понятие народа как целостного организма, разложил на классы с противоположными интересами. Но в мифе о пролетариате по-новому восстановился миф о русском народе. Произошло как бы отождествление русского народа с пролетариатом, русского мессианизма с пролетарским мессианизмом. Поднялась рабоче-крестьянская, советская Россия. В ней народ-крестьянство соединился с народом-пролетариатом вопреки всему тому, что говорил Маркс, который считал крестьянство мелкобуржуазным, реакционным классом» [87, с. 88-89]. Столь же далеким от марксизма было и представление о буржуазии. М.М. Пришвин пишет в «Дневниках» (14 сентября 1917 г.): «Без всякого сомнения, это верно, что виновата в разрухе буржуазия, то есть комплекс «эгоистических побуждений», но кого считать за буржуазию?.. Буржуазией называются в деревне неопределенные группы людей, действующие во имя корыстных побуждений» [6].
А.С. Панарин пишет об этой стороне русской (советской) революции: «Язык стал по-своему перерабатывать – окультуривать и натурализировать на народной почве агрессивные классовые лексемы. Одно из чудес, которые он тогда совершил, это сближение инородного слова «пролетариат» с родным словом «народ», в результате чего возникло натурализированное понятие «трудовой народ». С пролетариатом могло идентифицировать себя лишь меньшинство, с трудовым народом – большинство, при том что последнее понятие вбирало в себя марксистские классовые смыслы, одновременно смягчая их и сближая с национальной действительностью» [67, с. 137].
Общества, еще не проваренные в котле капитализма (как Россия в начале или СССР в конце ХХ века), вообще являются не классовыми, а в той или иной степени сословными . А основания, по которым люди объединяются в классы или в сословия, принципиально различны. Это замечает даже О. Шпенглер, хотя Германия прошла в разделении общества на классы несравненно дальше, чем Россия. Он пишет: «С полным непониманием психологии, свойственным воспитанному на естествознании уму 50-х годов ХIХ века, Маркс не знает, что ему делать с различием сословия и класса» [62, с. 113].
В официальной истории СССР утверждалось, что в России в 1917 г. произошла классовая (пролетарская) революция. Но как же видит Маркс основания для пролетарской революции – для того, чтобы заменить у власти буржуазию как господствующий класс пролетариатом? Первое основание – исчерпание тех возможностей, которые капитализм давал для развития производительных сил. Причину этого Маркс видел в том, что основанное на частной собственности капиталистическое производство регулируется стихийными механизмами рынка и не приемлет научного планирования в масштабе всего общества. Именно потому, что базис капиталистической формации все более ограничивал, по мнению Маркса, простор для развития производительных сил, капитализм должен был уступить место более прогрессивной формации, в которой частная собственность заменялась общественной.
Какие условия необходимы, по мнению Маркса, для того, чтобы сложились условия для пролетарской революции? Первым условием является глобальный характер господства капиталистического способа производства. Поступательное развитие капитализма перестанет быть прогрессивным только тогда, когда и капиталистический рынок, и пролетариат станут всемирными явлениями. Революция созреет тогда, когда полного развития достигнет частная собственность.
Смысл ясен: без полного развития частной собственности еще не все трудящиеся Земли станут пролетариями, а развитие капиталистических отношений и соответствующих им производительных сил еще не натолкнется на непреодолимые барьеры. А значит, еще не будет необходимости устранять порожденное частной собственностью отчуждение посредством революции.
Социальной причиной, по которой классом-могильщиком буржуазии должен стать пролетариат, была, по Марксу, эксплуатация рабочих посредством изъятия капиталистом прибавочной стоимости. Именно пролетариат поэтому был должен и имел право экспроприировать экспроприаторов . Это – очень важное положение марксистской теории революции, особенно для тех стран, в которых промышленный пролетариат составлял небольшую часть населения (как в России, где в начале 1917 г. рабочих фабрично-заводской промышленности с семьями было 7,2 млн. человек, из них взрослых мужчин 1,8 млн.).
Но это теоретическое обоснование неотвратимости пролетарской революции на Западе несет в себе внутреннее противоречие. Дело в том, что, согласно политэкономическим воззрениям самого Маркса, капиталисты были экспроприаторами вовсе не по отношению к пролетариям – у пролетариев они покупали их рабочую силу по ее стоимости, через эквивалентный обмен на свободном рынке труда. Жертвами капиталистической экспроприации были именно крестьяне и ремесленники, жившие и работавшие в некапиталистических хозяйственных укладах, где они вели натуральное хозяйство или мелкотоварное производство. Маркс пишет об этой экспроприации капиталистами: «Превращение карликовой собственности многих в гигантскую собственность немногих, экспроприация у широких народных масс земли, жизненных средств, орудий труда…» [100, с. 771].
Если так, то как раз не на Западе и не от пролетариата следовало ожидать революции «экспроприированных масс». Ведь особенно большие масштабы «экспроприация у широких народных масс земли» приобрела в зависимых от Запада странах – колониях и странах периферийного капитализма. В.И. Ленин приводит данные западных экономистов, показывающие, что уже в ХIХ веке земельная собственность в Африке, Полинезии и Австралии была присвоена западными колониальными державами практически полностью, а в Азии – на 57% [101]. По данным Ф. Броделя, в ХVIII веке треть всех инвестиций в Англии делались за счет доходов, полученных из Индии.
Да и сам Маркс говорит о тех масштабах, которых достигла экспроприация колоний. Вот пример: «Как известно, английская Ост-Индская компания кроме политической власти в Ост-Индии добилась исключительной монополии на торговлю чаем, как и вообще на торговлю с Китаем и на перевозку товаров из Европы и в Европу… Монополия на соль, опиум, бетель и другие товары стала неисчерпаемым источником богатства… Крупные состояния вырастали, как грибы после дождя, и первоначальное накопление осуществлялось без предварительной затраты хотя бы одного шиллинга… В 1769-1770 гг. англичане искусственно организовали голод, закупив весь рис и отказываясь продавать его иначе, как по баснословно высоким ценам. (В 1866 г. в одной только провинции Орисса более миллиона индийцев умерли голодной смертью. Тем не менее все усилия были направлены к тому, чтобы обогатить государственную кассу Индии путем продажи голодающим жизненных средств по повышенным ценам)… Сокровища, добытые за пределами Европы посредством прямого грабежа, порабощения туземцев, убийств, притекали в метрополию и тут превращались в капитал» [100, с. 762-763].
Маркс пишет и о Голландии: «Голландия, которая первой полностью развила колониальную систему, уже в 1648 г. достигла высшей точки своего торгового могущества». Он ссылается на немецкого историка Гюлиха, который отмечает масштабы вывоза Голландией средств из колоний: «Капиталы этой республики были, быть может, значительнее, чем вместе взятые капиталы всей остальной Европы» [100, с. 763].
Однако сопротивление капитализму народных масс колониальных и зависимых стран Маркс квалифицирует как реакционное , ибо оно препятствует «прогрессу промышленности, невольным носителем которого является буржуазия».
Надо подчеркнуть, что обвинение капитализма в эксплуатации рабочих является нравственным и, в принципе, вообще не должно присутствовать в политэкономии, которая претендует быть наукой (то есть беспристрастным знанием, свободным от моральных ценностей). Но главное заключается в том, что если бы капитализм смог «исправиться» и преодолеть эти два дефекта, на которые указал Маркс, то и оснований для революции не было бы – приверженцы марксизма с полным правом одобрили бы продление капитализма еще на исторический срок, снова дали бы ему «кредит доверия». В течение ХХ века именно это и смог совершить западный капитализм. Прежде всего, было отведено обвинение в эксплуатации – произошло становление так называемого «социального государства». Показатели экономической эффективности как критерия развития производительных сил также оказались к концу ХХ века у капитализма очень высокими. Предсказанная теорией Маркса пролетарская революция не состоялась. И Энгельс стал призывать трудящихся способствовать развитию капитализма.
В отличие от марксистской теории классовой революции в России была создана теория революции, предотвращающей разделение на классы. Для крестьянских стран это была революция цивилизационная – она была средством спасения от втягивания страны в периферию западного капитализма. Это – принципиально иная теория, можно даже сказать, что она является частью другой парадигмы , другого представления о мироустройстве, нежели у Маркса. Между этими теориями не могло не возникнуть глубокого когнитивного конфликта, то есть конфликта двух разных познавательных систем. А такие конфликты всегда вызывают размежевание и даже острый конфликт сообществ, следующих разным парадигмам. Тот факт, что в России, следуя ленинской теории революции, приходилось маскироваться под марксистов, привел к тяжелым деформациям и в ходе революционного процесса, и в ходе социалистического строительства.
Красноречив тот факт, что там в России, где победили силы, стремящиеся стать «частью Запада», они выступали против Советской революции, выступая даже и под красным знаменем социализма. Примером стала Грузия. Здесь возникло типично социалистическое правительство под руководством марксистской партии, которое было непримиримым врагом Октябрьской революции и вело войну против большевиков. Президент Грузии Жордания (член ЦК РСДРП) объяснил это в своей речи 16 января 1920 г.: «Наша дорога ведет к Европе, дорога России – к Азии. Я знаю, наши враги скажут, что мы на стороне империализма. Поэтому я должен сказать со всей решительностью: я предпочту империализм Запада фанатикам Востока!» [102, с. 533].
Но и на Западе происходят революции совершенно не по Марксу. В некоторые редкие исторические моменты и здесь возникают ситуации, в которых перед народом стоит не классовая, а общенациональная задача – предотвратить опасность выталкивания страны на периферию ее цивилизационного пространства. Шпенглер пишет о том, как назревала в 20-е годы в Германии социалистическая «консервативная революция» (которая была сорвана другой, национал-социалистической революцией фашистов): «Немецкие консерваторы приходят к мысли о неизбежности социализма, поскольку либеральный капитализм означал для них капитуляцию перед Антантой, тем мировым порядком, в котором Германии было уготовано место колонии» [62, с. 205].
В теории революции Маркса объектом революционного изменения (разрушения) становился базис общества или, в терминах марксизма, производственные отношения. Смысл «консервативной революции» в трактовке Шпенглера – переход к прусскому социализму как жизнеустройству, защищающему Германию от угрозы превращения ее в периферийный придаток Антанты. Для достижения этих целей и построения нового жизнеустройства на измененном базисе предполагались соответствующие революционные изменения и в надстройке – государстве, идеологии и пр.
В 30-е годы ХХ века, после изучения опыта революций прошлого, а также русской революции и национал-социалистической революции в Германии, родилась принципиально новая теория, согласно которой первым объектом революционного разрушения становилась надстройка общества, причем ее наиболее «мягкая» и податливая часть – идеология и установки общественного сознания. Разработка ее связана с именем Антонио Грамши, основателя и теоретика Итальянской компартии.
Учение Грамши о гегемонии стало важной главой в современной политологии. Во многих случаях противостоящие политические силы сознательно планировали свою кампанию как борьбу за гегемонию в общественном сознании по конкретному вопросу. Открытые действия по добиванию власти, утратившей культурную гегемонию, ведут, согласно концепции Грамши (в отличие от Маркса), не классовые организации, а исторические блоки – временные союзы внутренних и внешних сил, объединенных конкретной краткосрочной целью свержения власти. Эти блоки собираются не по классовым принципам, а ситуативно, и имеют динамический характер.
В логике учения Грамши велся подрыв гегемонии социалистических сил в СССР и странах Восточной Европы в 70-80-е годы. Этому служил и самиздат, и передачи специально созданных на Западе радиостанций, и массовое производство анекдотов, и работа популярных юмористов или студенческое движение КВН в СССР. Массовая «молекулярная» агрессия в сознание велась непрерывно и подтачивала культурное ядро. Вершиной этой «работы по Грамши» была, конечно, перестройка в СССР («грамшианская революция»). Она представляла собой интенсивную программу по разрушению идей-символов, которыми легитимировалось идеократическое советское государство.
Важное отличие теории революции Грамши от марксистской теории было и то, что Грамши преодолел свойственный историческому материализму прогрессизм . Маркс отвергал саму возможность революций регресса . Такого рода исторические процессы в его концепциях общественного развития выглядели как реакция или контрреволюция. Как видно из учения о гегемонии, любое государство, в том числе прогрессивное, может не справиться с задачей сохранения своей культурной гегемонии, если исторический блок его противников обладает новыми, более эффективными средствами агрессии в культурное ядро общества.
У Грамши перед глазами был опыт фашизма, который применил средства манипуляции сознанием, относящиеся уже к эпохе постмодерна и подорвал гегемонию буржуазной демократии – совершил типичную революцию регресса. Но теория истмата оказалась не готова к такому повороту событий. Недаром немецкий философ Л. Люкс после опыта фашизма писал: «Благодаря работам Маркса, Энгельса, Ленина было гораздо лучше известно об экономических условиях прогрессивного развития, чем о регрессивных силах» [103].
Более того, элита советских коммунистов, получившая в 30-е годы образование, основанное на прогрессистских постулатах Просвещения в версии исторического материализма, долго не могла поверить, что в Европе может произойти такой сдвиг в сфере сознания. Это не позволило осознать угрозу фашизма в полном объеме.
Оптимизм, которым было проникнуто советское мировоззрение, затруднил понимание причин и глубины того кризиса Запада, из которого вызрела фашистская революция. Л. Люкс пишет по этому поводу: «Коммунисты не поняли европейского пессимизма, они считали его явлением, присущим одной лишь буржуазии… Теоретики Коминтерна закрывали глаза на то, что европейский пролетариат был охвачен пессимизмом почти в такой же мере, как и все другие слои общества. Ошибочная оценка европейского пессимизма большевистской идеологией коренилась как в марксистской, так и в национально-русской традиции» [103].
Подобный слом произошел в СССР в конце 80-х годов. Поведение огромных масс населения нашей страны стало на время обусловлено не разумным расчетом, не «объективными интересами», а именно всплеском коллективного бессознательного. Перестройка и начальная фаза рыночной реформы в СССР – чистый случай революции регресса , не предусмотренной теориями революции Маркса и Ленина.
Таким образом, революция может иметь причиной глубокий конфликт в отношении всех фундаментальных принципов жизнеустройства, всех структур цивилизации, а вовсе не только в отношении способа распределения произведенного продукта («прибавочной стоимости»). Например, многие немецкие мыслители первой половины ХХ в. считали, что та революция в Германии, которая возникла в результате Первой мировой войны, имела в своем основании отношение к государству . О. Шпенглер приводит слова консерватора И. Пленге о том, что это была «революция собирания и организации всех государственных сил ХХ века против революции разрушительного освобождения в ХVIII веке» и о том, что это революция социалистическая, которая «кладет конец эпохе индивидуализма» [62, с. 193]. Понятно, что такая революция совершенно противоречит теории Маркса, ибо для марксизма государство – лишь паразитический нарост на обществе.
«Оранжевые» революции нашего времени – это революции, не просто приводящие к смене властной верхушки государства и его геополитической ориентации, а и принципиально меняющие основание легитимности всей государственности страны. Более того, меняется даже местонахождение источника легитимности , он перемещается с территории данного государства в метрополию , в ядро мировой системы капитализма. Такое глубокое изменение государственности имеет цивилизационное измерение.
Смена власти и в Грузии, и на Украине сопровождалась глубокими структурными изменениями не только в государстве и обществе этих стран, но и в структуре мироустройства . Две постсоветские территории резко изменили свой цивилизационный тип и траекторию развития – они вырваны из той страны, которая еще оставалась на месте СССР, хотя и с расчлененной государственностью. Они перестали быть постсоветскими. Будущее покажет, будет ли это новое состояние устойчивым, но в данный момент приходится признать, что свершилась именно революция .
Для понимания и предвидения хода революций надо вглядываться не только в противоречия, созревшие в базисе общества, но и в процессы, происходящие или целенаправленно возбуждаемые в надстройке общества – в культуре, идеологии и сфере массового сознания.








