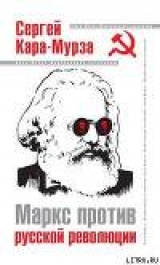
Текст книги "Маркс против русской революции"
Автор книги: Сергей Кара-Мурза
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
Отвергая активную связывающую людей роль религии, Маркс представляет ее как производную от материальных отношений. Он пишет: «Уже с самого начала обнаруживается материалистическая связь людей между собой, связь, которая обусловлена потребностями и способом производства и так же стара, как сами люди, – связь, которая принимает все новые формы и, следовательно, представляет собой «историю», вовсе не нуждаясь в существовании какой-либо политической или религиозной нелепости, которая еще сверх того соединяла бы людей» [110, с. 28-29].
Это противоречит опыту всех времен, вплоть до современных исследований в этнологии, причем в отношении роли религии не только как средства господства («вертикальные» связи), но и как силы, связывающей людей в «горизонтальные» общности (этносы). Даже на пороге Нового времени Ф. Бэкон называл религию «главной связующей силой общества».
Именно в социологии религии возникло важнейшее понятие коллективных представлений . Религиозные представления не выводятся из личного опыта, они вырабатываются только в совместных размышлениях и становятся первой в истории человека формой общественного сознания. Религиозное мышление социоцентрично . Даже самая примитивная религия является символическим выражением социальной реальности – посредством нее люди осмысливают свое общество как нечто большее, чем они сами.
Маркс и Энгельс считают религиозную составляющую общественного сознания его низшим типом, даже относят его к категории животного «сознания» (само слово сознание здесь не вполне подходит, поскольку выражает атрибут животного). В их совместном труде «Немецкая идеология» сказано: «Сознание… уже с самого начала есть общественный продукт и остается им, пока вообще существуют люди. Сознание, конечно, вначале есть всего лишь осознание ближайшей чувственно воспринимаемой среды… в то же время оно – осознание природы, которая первоначально противостоит людям как совершенно чуждая, всемогущая и неприступная сила, к которой люди относятся совершенно по-животному и власти которой они подчиняются, как скот; следовательно, это – чисто животное осознание природы (обожествление природы)» [110, с. 29].[50]50
В редакционном предисловии в Сочинениях Маркса и Энгельса (2-е изд.) говорится: «В 1-й главе первого тома «Немецкой идеологии»… впервые в систематической форме дано изложение материалистического понимания истории».
[Закрыть]
Обожествление как специфическая операция человеческого сознания трактуется Марксом и Энгельсом как «чисто животное осознание». Однако никаких признаков религиозного сознания у животных, насколько известно, обнаружить не удалось. Эта метафора есть оценочная характеристика – не научная, а идеологическая. Это – биологизация человеческого общества, перенесение на него эволюционистских представлений, развитых Дарвином для животного мира.
Энгельс пишет: «Религия возникла в самые первобытные времена из самых невежественных, темных, первобытных представлений людей о своей собственной и об окружающей их внешней природе» [1, с. 313]. Каковы основания, чтобы так считать? Никаких. Даже наоборот, духовный и интеллектуальный подвиг первобытного человека, сразу создавшего в своем воображении сложный религиозный образ мироздания, следовало бы поставить выше подвига Вольтера – как окультуривание растений или приручение лошади следует поставить выше создания атомной бомбы.
Получив возможность «коллективно мыслить» с помощью языка, ритмов, искусства и ритуалов, человек сделал огромное открытие для познания мира, равноценное открытию науки – он разделил видимый реальный мир и невидимый «потусторонний». Оба они составляли неделимый Космос, оба были необходимы для понимания целого, для превращения хаоса в упорядоченную систему символов, делающих мир домом человека. Причем эта функция религиозного сознания не теряет своего значения от самого зарождения человека до наших дней – об этом говорит М. Вебер в своем труде «Протестантская этика и дух капитализма».
Обожествление природы не преследовало никаких «скотских» производственных целей, это был творческий процесс, отвечающий духовным потребностям. К. Леви-Стросс считал, что мифологическое мышление древних основано на тех же интеллектуальных операциях, что и наука («Неолитический человек был наследником долгой научной традиции»). Первобытный человек оперирует множеством абстрактных понятий, применяет к явлениям природы сложную классификацию, включающую сотни видов. В «Структурной антропологии» Леви-Стросс показывает, что первобытные религиозные верования представляли собой сильное интеллектуальное орудие освоения мира человеком, сравнимое с позитивной наукой. Он пишет: «Разница здесь не столько в качестве логических операций, сколько в самой природе явлений, подвергаемых логическому анализу… Прогресс произошел не в мышлении, а в том мире, в котором жило человечество» [181].
Функцией религии, вопреки представлениям Маркса и Энгельса, является вовсе не утверждение невежественных представлений, а рационализация человеческого отношения к божественному. При этом «рационализация отношения к божественному» мобилизует и присущие каждому народу видение истории и художественное сознание. Возникает духовная структура, занимающая исключительно важное место в центральной мировоззренческой матрице народа. Тютчев писал о православных обрядах: «В этих обрядах, столь глубоко исторических, в этом русско-византийском мире, где жизнь и обрядность сливаются, и который столь древен, что даже сам Рим, сравнительно с ним, представляется нововведением, – во всем этом для тех, у кого есть чутье к подобным явлениям, открывается величие несравненной поэзии… Ибо к чувству столь древнего прошлого неизбежно присоединяется предчувствие неизмеримого будущего» (см. [182, с. 277]).
Создавая свою модель исторического процесса (исторический материализм), Маркс и Энгельс на первый план ставили материальное производство и связанные с ним отношения – материальное бытие. Духовная сфера человека ставилась на гораздо более низкий уровень. Не будем здесь говорить о познавательной ценности этой модели для решения конкретных задач марксизма. Важно то, что положения модели начинали «жить своей жизнью» и восприниматься как общезначимые (да и сами Маркс и Энгельс так их понимали). При этом они резко искажали реальность.
Маркс и Энгельс пишут: «Даже туманные образования в мозгу людей, и те являются необходимыми продуктами, своего рода испарениями их материального жизненного процесса… Таким образом, мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают видимость самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития: люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также свое мышление и продукты своего мышления. Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание» [110, с. 25].
Это принижение роли идеологии, морали, религии и «и соответствующих им форм сознания» и их якобы детерминированность развитием материального производства очень дорого обошлось народу России – и в процессе революции, и особенно на последних этапах советского периода. Противоречие между марксизмом как принятой идеологией и религиозный взглядом на бытие как важной частью мировоззрения русских людей (даже атеистов), закладывало основу культурного и духовного кризиса. В этом смысле марксизм мог быть принят без конфликта только городским человеком индустриального общества Запада. О. Шпенглер писал: «Материалистическое понимание истории, которое признает экономическое состояние причиной (в физическом смысле слова), а религию, право, нравы, искусство и науку лишь функциями экономики, несомненно в нашей поздней стадии развития обладает какой-то убедительностью, так как оно обращается к мышлению безрелигиозных и лишенных традиций людей больших городов» [62, с. 125-126].
Но даже если отвлечься от конфликта в восприятии. Установка Маркса в принципе искажает реальность. Религия вовсе не является продуктом «производственных отношений», тезис Маркса подгоняет действительные отношения к своей модели. М. Вебер специально подчеркивает: «Религиозные идеи не могут быть просто дедуцированы из экономики. Они в свою очередь, и это совершенно бесспорно, являются важными пластическими элементами «национального характера», полностью сохраняющими автономность своей внутренней закономерности и свою значимость в качестве движущей силы» [160, с. 266]. Сила того удара, который в ходе революции в России был нанесен по «важным пластическим элементам «национального характера», во многом был обусловлен установками марксизма, которым следовали революционеры.
Маркс различает разные типы религиозных воззрений («первобытные» и «мировые» религии) лишь по степени их сложности, которая, как он считал, соответствует сложности производственных отношений. Религия предстает просто как инструмент «общественно-производственных организмов», которые или выбирают наиболее подходящее для них орудие из имеющихся в наличии, или быстренько производят его. Маркс пишет о капиталистической формации: «Для общества товаропроизводителей… наиболее подходящей формой религии является христианство с его культом абстрактного человека, в особенности в своих буржуазных разновидностях, каковы протестантизм, деизм и т. д.» [100, с. 89].
А что же докапиталистические формации с их общинностью и внеэкономическим принуждением, как это было в России? Им, по мнению Маркса, видимо, соответствуют язычество, кикиморы и лешие. Вот как он видит дело: «Древние общественно-производственные организмы несравненно более просты и ясны, чем буржуазный, но они покоятся или на незрелости индивидуального человека, еще не оторвавшегося от пуповины естественнородовых связей с другими людьми, или на непосредственных отношениях господства и подчинения. Условие их существования – низкая ступень развития производительных сил труда и соответственная ограниченность отношений людей рамками материального процесса производства жизни, а значит, ограниченность всех их отношений друг к другу и к природе. Эта действительная ограниченность отражается идеально в древних религиях, обожествляющих природу, и народных верованиях» [100, с. 89-90].
С этим никак нельзя согласиться. Какая пуповина, какая «ограниченность отношений людей рамками материального процесса производства жизни»! В ходе собирания русского народа за тысячу лет сменилось множество формаций, уже по второму кругу начали сменяться – от социализма к капитализму – и все при христианстве. А в просвещенной Литве ухитрились до ХV века сохранять свои «древние религии и народные верования». Куда реалистичнее диалектическая модель взаимодействия производственных отношений, этногенеза и религии, предложенная Максом Вебером.
Маркс писал свои главные труды на материале Запада и для Запада. Поэтому и рассуждения на темы религии проникнуты евроцентризмом. Даже когда речь у него идет о религии вообще, неявно имеется в виду именно христианство . Маркс прилагает к нему «формационный» подход, постулируя существование некоего правильного пути развития. Протестантская Реформация выглядит необходимой «формацией» в развитии религии (подобно тому, как капитализм оказывается необходимой стадией развития производительных сил и производственных отношений). По мнению Энгельса, протестантизм является даже высшей формацией христианства. Он пишет, выделяя курсивом всю эту фразу: «Немецкий протестантизм – единственная современная форма христианства, которая достойна критики » [183, с. 578].
Для нас важно, что христианство во всех его ветвях сыграло важнейшую роль в духовном развитии почти всех европейских народов, включая народы России. Марксизм, став с конца ХIХ века наиболее авторитетным для российской интеллигенции обществоведческим учением, а затем и основой официальной идеологии СССР, сильно повлиял на наши представления о роли религии в формировании, угасании, мобилизации культуры, то есть всех общественных процессов.
Здесь снова надо вернуться к мысли Маркса о том, что религия является продуктом производственных отношений. Он пишет: «Религия, семья, государство, право, мораль, наука, искусство и т. д. суть лишь особые виды производства и подчиняются его всеобщему закону» [115, с. 117]. Из этого следует, например, что активной роли в становлении национальных отношений, которые явно не подчиняются «всеобщему закону производства», религия не играет. Это – ошибочная установка, которая лишила советское общество важного знания.
Более того, по мнению Маркса религия не оказывает активного влияния и на становление человека как личности, даже вне зависимости от его национального сознания. В разных вариантах он повторяет тезис: «не религия создает человека, а человек создает религию» [55, с. 252]. Это положение – одно из оснований всей его философии, пафосом которой является критика . Во введении к большому труду «К критике гегелевской философии права» он пишет: «Основа иррелигиозной критики такова: человек создает религию , религия же не создает человека» [55, с. 414].
В рамках нашей темы это положение принять нельзя. Религия есть первая и особая форма общественного сознания, которая в течение тысячелетий была господствующей формой. Как же она могла не «создавать человека»? Реальный человек всегда погружен в национальную культуру, развитие которой во многом предопределено религией. Русский человек «создан православием», как араб-мусульманин «создан» исламом.
В зависимости от того, как осуществлялось изменение религиозного ядра народного мировоззрения, предопределялся ход истории на века. Раскол на суннитов и шиитов на раннем этапе становления ислама до сих пор во многом предопределяет состояние арабского мира. Последствия религиозных войн порожденных Реформацией в Европе, не изжиты до сих пор. Глубоко повлиял на ход истории России и раскол русской Православной церкви в ХVII веке.
Религия во все времена, вплоть до настоящего времени, оказывала огромное прямое и косвенное влияние на искусство . Если рассматривать искусство как особую форму представления и осмысления мира и человека в художественных образах, то игнорирование роли религии сразу резко ослабляет познавательные возможности обществоведения. Песни и былины, иконы и картины, архитектура и театр – все это сплачивает людей одного народа общим эстетическим чувством, общим невыражаемым переживанием красоты.
Позиция Маркса и Энгельса в отношении к религии и церкви («гадине», которую надо раздавить) выросла из представлений Просвещения (конкретнее, вольтеровских представлений). Эту генетическую связь можно принять как факт – вплоть до семантического сходства (метафора религии как опиума была использована до Маркса Вольтером, Руссо, Кантом, Б.Бауэром и Фейербахом). Предметом представлений Вольтера было именно христианство . По его словам, христианство основано на переплетении «самых пошлых обманов, сочиненных подлейшей сволочью».
Энгельс пишет о христианстве: «С религией, которая подчинила себе римскую мировую империю и в течение 1800 лет господствовала над значительнейшей частью цивилизованного человечества, нельзя разделаться, просто объявив ее состряпанной обманщиками бессмыслицей… Ведь здесь надо решить вопрос, как это случилось, что народные массы Римской империи предпочли всем другим религиям эту бессмыслицу, проповедуемую к тому же рабами и угнетенными» [184, с. 307].
Здесь Энгельс преувеличивает роль религии в формировании общественного сознания даже буржуазного общества ХIХ века: «Это лицемерие [современного христианского миропорядка] мы также относим за счет религии, первое слово которой есть ложь – разве религия не начинает с того, что, показав нам нечто человеческое, выдает его за нечто сверхчеловеческое, божественное?.. Мы знаем, что вся эта ложь и безнравственность проистекает из религии, что религиозное лицемерие, теология, является прототипом всякой другой лжи и лицемерия» [185, с. 591].
Такое же полное отрицание имеет место и когда речь идет об отношении между религией и социальными противоречиями. Маркс пишет: «На социальных принципах христианства лежит печать пронырливости и ханжества, пролетариат же – революционен» [186, с. 205].
Обе части этого утверждения не подтверждаются ни исторически, ни логически. Никакой печати пронырливости на социальных принципах христианства найти нельзя – достаточно прочитать Евангелие. В чем пронырливость Томаса Мюнцера и всей крестьянской войны в Германии, которая шла под знаменем «истинного христианства»? В чем видна пронырливость русских крестьян, революция которых вызревала под влиянием «народного православия»? Разве утверждение «Земля – Божья!» является выражением ханжества? Пронырливости нельзя найти и в «Философии хозяйства» С. Булгакова, как и вообще в его трудах, где он обсуждает социальные принципы христианства. Где признаки пронырливости в теологии освобождения в Латинской Америке?
Мнение о революционности западного пролетариата, противопоставленной предполагаемому ханжеству социальных принципов христианства, ничем не подкреплено. Все революции, окрашенные христианством, всегда имели социальное измерение, а вот классовая борьба западного пролетариата в большинстве случаев сводилась к борьбе за более выгодные условия продажи рабочей силы, что с гораздо большим основанием можно назвать пронырливостью.
Перейдем непосредственно к проблеме религиозного сознания в революциях. Революции такого масштаба, как русская, решают главные проблемы бытия, а потому и не могут не быть движениями религиозными . Де Токвиль писал: «Французская революция является политическою революцией, употребившею приемы и, в известном отношении, принявшею вид революции религиозной… Она проникает на далекие расстояния, она распространяется посредством проповеди и горячей пропаганды, она воспламеняет страсти, каких до того времени никогда не могли вызвать самые сильные политические революции… Она сама стала чем-то вроде новой религии, не имевшей ни Бога, ни культа, ни загробной жизни, но тем не менее наводнившей землю своими солдатами, своими апостолами и мучениками» [187].
Русская революция с точки зрения социолога, продолжающего линию Де Токвиля, также является революцией религиозной . Марксизм, низводя религиозное сознание на уровень «пронырливости и ханжества», вступал в глубокий духовный конфликт с «солдатами, апостолами и мучениками» русской революции. Он омрачал, озлоблял их душу и расщеплял сознание. Она затруднял и понимание происходящего процесса.
Коммунистическое учение того времени в России было в огромной степени верой , особой религией, но именно эту сторону сознания приходилось подавлять и репрессировать, следуя учению марксизма. М.М. Пришвин записал в своем дневнике 7 января 1919 г. «Социализм революционный есть момент жизни религиозной народной души: он есть прежде всего бунт масс против обмана церкви, действует на словах во имя земного, материального изнутри, бессознательно во имя нового бога, которого не смеет назвать и не хочет, чтобы не смешать его имя с именем старого Бога» [6].
Революционный подъем породил совершенно необычный в истории культуры тип – русского рабочего начала ХХ века. Этот русский рабочий, ядро революции, был прежде всего культурным типом , в котором Православие и Просвещение, слитые в нашей классической культуре, соединились с идеалом действия , направленного на земное воплощение мечты о равенстве и справедливости.
Сохраняя космическое чувство крестьянина и его идущее от Православия эсхатологическое восприятие времени, рабочий внес в общинный идеал равенства и справедливости вектор реального построения на нашей земле материальных оснований для Царства справедливости. Эта действенность идеала, означавшая отход от толстовского непротивления злу насилием , была важнейшей предпосылкой к тому, чтобы ответить на мятеж белых («детей Каина») вооруженным сопротивлением.[51]51
В народных религиозных верованиях, например, в тайных псалмах духоборцев, «детьми Каина» считаются «зараженные сребролюбием господа», а «детьми Авеля» – бедные люди, которые «питаются трудом».
[Закрыть]
Революционное движение русского рабочего и стоявшего за ним общинного крестьянина было «православной Реформацией» России. В нем был силен мотив жертвенности.
Историк А.С. Балакирев говорит об «атмосфере напряженных духовно-религиозных исканий в рабочей среде», которая отражена в исторических источниках того времени. Он пишет: «Агитаторы-революционеры, стремясь к скорейшей организации экономических и политических выступлений, старались избегать бесед на религиозные темы, как отвлекающих от сути дела, но участники кружков снова и снова поднимали эти вопросы. «Сознательные» рабочие, ссылаясь на собственный опыт, доказывали, что без решения вопроса о религии организовать рабочее движение не удастся. Наибольшим успехом пользовались те пропагандисты, которые шли навстречу этим запросам. Самым ярким примером того, в каком направлении толкали они мысль интеллигенции, является творчество А.А. Богданова» [188].
Эти духовные искания рабочих и крестьян революционного периода отражались в культуре. Здесь виден уровень сплоченности и накал чувства будущих «красных». Исследователь русского космизма С.Г. Семенова пишет: «Никогда, пожалуй, в истории литературы не было такого широчайшего, поистине низового поэтического движения, объединенного общими темами, устремлениями, интонациями… Революция в стихах и статьях пролетарских (и не только пролетарских) поэтов… воспринималась не просто как обычная социальная революция, а как грандиозный катаклизм, начало «онтологического» переворота, призванного пересоздать не только общество, но и жизнь человека в его натурально-природной основе. Убежденность в том, что Октябрьский переворот – катастрофический прерыв старого мира, выход «в новое небо и новую землю», было всеобщим» [189].
Великим еретиком и богостроителем был М. Горький, которого считают одним из основателей советского общества. Религиозными мыслителями были многие деятели, принявшие участие в создании культуры, собиравшей советский народ – Брюсов и Есенин, Клюев и Андрей Платонов, Вернадский и Циолковский. В своей статье о религиозных исканиях Горького М. Агурский пишет, ссылаясь на исследования русского мессианизма, что «религиозные корни большевизма как народного движения уходят в полное отрицание значительной частью русского народа существующего мира как мира неправды и в мечту о создании нового «обо женного» мира. Горький в большей мере, чем кто-либо, выразил религиозные корни большевизма, его прометеевское богоборчество » [190].
Религиозным чувством были проникнуты и революционные рабочие и крестьяне России, и революционная интеллигенция. Бердяев писал: «Социальная тема оставалась в России религиозной темой и при атеистическом сознании. «Русские мальчики», атеисты, социалисты и анархисты – явление русского духа. Это очень хорошо понимал Достоевский» [191].
Да и антицерковный радикализм деревенских комсомольцев 20-х годов (с которым, кстати, даже боролась партия) на деле был всплеском именно религиозного чувства, просто этот факт сейчас выгодно замалчивать. А Иван Солоневич писал: «Комсомольского безбожия нельзя принимать ни слишком всерьез, ни слишком буквально. У русской молодежи нет, может быть, веры в Бога, но нет и неверия. Она – как тот негр из киплинговского рассказа, для которого Богом стала динамомашина. Да, суррогат – но все-таки не безверие. Для комсомольца Богом стал трактор – чем лучше динамомашины? Да и в трактор наш комсомолец верит не как в орудие его личного будущего благополучия, а как в ступеньку к какому-то все-таки универсальному «добру». Будучи вздут – он начнет искать других ценностей, но тоже универсальных.
Я бы сказал, что русский комсомолец, как он ни будет отбрыкиваться от такого определения, если и атеистичен, то атеистичен тоже по-православному. Если он и делает безобразия, то не во имя собственной шкуры, а во имя «мира на земли и благоволения в человецех» [149, с. 455].
Либерал М.М. Пpишвин, тяжело пеpеживая кpах февральских иллюзий, так выpазил суть Октябpьской революции: «горилла поднялась за правду». Но что такое была эта «горилла »? 31 октября 1917 г. он выразил ее смысл почти в притче. При нем возник в трамвае спор о правде (о Кеpенском и Ленине) – почти до драки. И кто-то призвал спорщиков: «Товарищи, мы православные!» И Пришвин признал, что советский строй («горилла») – это соединение невидимого града православных с видимым градом на земле товарищей: «В чистом виде появление гориллы происходит целиком из сложения товарищей и православных» [6].
Советский проект (представление о благой жизни ) вырабатывался, а Советский Союз строился людьми, которые находились в состоянии религиозного подъема . В разных формах многие мыслители Запада, современники русской революции высказывали важное утверждение: Запад того времени был безрелигиозен, Советская Россия – глубоко религиозна. Английский экономист Дж. Кейнс, работавший в 20-е годы в России, писал: «Ленинизм – странная комбинация двух вещей, которые европейцы на протяжении нескольких столетий помещают в разных уголках своей души, – религии и бизнеса». Позже немецкий историк В. Шубарт в книге «Европа и душа Востока» (1938) писал: «Дефицит религиозности даже в религиозных системах – признак современной Европы. Религиозность в материалистической системе – признак советской России».
Эта «надконфессиональная» религиозность, присущая в тот момент всем народам СССР, соединяла их в советский народ и служила важной силой строительства государства. Сейчас, когда слегка утихли перестроечные страсти, в «Независимой газете» читаем признания такого типа: «В первые два-три десятилетия после Октябрьской революции (по крайней мере до 1937 г.) страна воспринимала себя в качестве цитадели абсолютного добра , а в религиозном смысле – превратилась в главную силу, противостоящую безбожному капитализму и творящую образ будущего» [151].
Таким образом, в ходе революционного процесса в России существовал глубокий скрытый конфликт между марксизмом и мировоззренческими установками русского революционного народа. Но помимо этого, возникло и продолжалось в течение всего советского периода противостояние между марксизмом и верующей частью населения России.
К концу 30-х годов был в основном исчерпан политический конфликт советского государства с церковью, возникший в 1918 г. Отойдя от политики и перестав быть идеологической инстанцией, церковь продолжала выполнять свои духовные функции по соединению народа и легитимации государственности. Особенно важными стали эти функции во время войны. В 1943 г. Сталин встречался с церковной иерархией и церкви было дано новое, национальное название – Русская православная церковь (до 1927 г. она называлась Российской ). В 1945 г. на средства правительства было организовано пышное проведение собора с участием греческих иерархов. После войны число церковных приходов увеличилось с двух до двадцати двух тысяч.[52]52
Развернутая с 1954 г. Н.С. Хрущевым антицерковная пропаганда имела целью пресечь одну из последних программ сталинизма. Немалую роль в этом сыграло и подавленное марксизмом понимание связующей роли религии. Это стало важным моментом в процессе демонтажа советского народа.
[Закрыть]
Тем не менее, атеистическая пропаганда 20-30-х годов, характер которой был во многом задан именно установками марксизма, проложил важную линию раскола в советском обществе, которая была использована во время перестройки. Значительная часть верующих советских людей в результате этой пропаганды ощутила себя «отделенной от государства» (какая-то часть граждан и буквально – вследствие запрета верующим на пребывание в рядах единственной правящей партии).
Опираясь, по выражению Ленина, на «краеугольный камень всего миросозерцания марксизма в вопросе о религии», под которым лежал призыв Вольтера «Раздавить гадину!», марксисты организовали в СССР большой поход под лозунгом «Борьба с религией – борьба за социализм». Взглянем на дело глазами этой части народа – верующих, которые не были революционерами, но приняли советскую власть и стали лояльными гражданами СССР.
Советские марксисты приняли унаследованное Марксом от просветителей вольтеровское представление о религии как о «вздохе угнетенной твари». Так рассмотрим дело со стороны «угнетенной твари». Маркс пишет: «Религиозное отражение действительного мира может вообще исчезнуть лишь тогда, когда отношения практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных связях их между собой и природой. Строй общественного жизненного процесса, т.е. материального процесса производства, сбросит с себя мистическое туманное покрывало лишь тогда, когда он станет продуктом свободного общественного союза людей и будет находиться под их сознательным планомерным контролем. Но для этого необходима определенная материальная основа общества» [100, с. 90].
Не будем даже обращать внимания на явные натяжки в этой формуле Маркса (например, на сведение «общественного жизненного процесса» к «материальному процессу производства») и на явную утопичность полной рационализации «отношений практической повседневной жизни людей». Для нашего вопроса достаточно признания Марксом того факта, что вплоть до создания «определенной материальной основы общества» (на деле именно неопределенной) «религиозное отражение действительного мира» исчезнуть не может . Ясно, что исчезнуть не может потому, что является необходимой, жизненно важной частью общественного сознания. Это – деталь в общественном механизме, которая нам не нравится, но функцию которой мы признаем необходимой (даже если не вполне ее понимаем).
Если так, то какое же право имели марксисты, придя к власти в обществе, где этой «определенной материальной основы» явно не было и в ближайшие годы не предвиделось, вести борьбу на уничтожение против жизненно важной части общественного организма? Какое право они имели «давить гадину» и хватать «угнетенную тварь» за горло, чтобы не дать ей сделать «вздох»? Они разве уже освободили «тварь» от угнетения «материальной основой общества»?
Нет, им просто были близки и понятны метафоры про «тварь», невежество, дикость и мракобесие религии, а оговорки, сделанные вполголоса, они не читали. И это понятно, потому что пафос и художественная сила метафор Маркса многократно превосходили силу произносимых вполголоса оговорок.
Конрад Лоренц писал в 1966 г.: «Молодой «либерал», достаточно поднаторевший в критическом научном мышлении, но обычно не знающий органических законов, которым подчиняются общие механизмы естественной жизни, и не подозревает о катастрофических последствиях, которые может вызвать произвольное изменение [культурных норм], даже если речь идет о внешне второстепенной детали. Этому молодому человеку никогда бы не пришло в голову выкинуть какую либо часть технической системы – автомобиля или телевизора – только потому, что он не знает ее назначения. Но он запросто осуждает традиционные нормы поведения как предрассудок – нормы как действительно устаревшие, так и необходимые. Покуда сформировавшиеся филогенетически нормы социального поведения укоренены в нашей наследственности и существуют, во зло ли или в добро, разрыв с традицией может привести к тому, что все культурные нормы социального поведения угаснут, как пламя свечи» [192].








