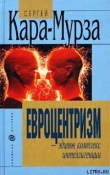Текст книги "Идеология и мать ее наука"
Автор книги: Сергей Кара-Мурза
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
Роль науки в формировании и трансформации идеологий
Особенно наглядна роль в становлении идеологий в переломные моменты в жизни общества, когда происходит ломка социальных структур, производственных отношений, системы власти. И сама наука, как часть культуры, в эти моменты испытывает глубокие преобразования. Американский философ О. Тоффлер пишет:
«Ньютоновская система возникла в эпоху крушения феодализма в Западной Европе, когда социальная система находилась, так сказать, в сильно неравновесном состоянии. Модель мироздания, предложенная представителями классической науки… нашла приложения в новых областях и распространилась весьма успешно не только вследствие ее научных достоинств или „правильности“, но и потому, что возникавшее тогда индустриальное общество, основанное на революционных принципах, представляло необычайно благодатную почву для восприятия новой модели» [9, с. 32].
Глубокие изменения в обществе невозможны без идеологического обоснования (даже если в этот момент говорится о «деидеологизации» жизни). При формировании этого идеологического обоснования «инженеры человеческих душ» обращаются к науке, как в донаучный период обращались к жрецам и философам. Что же может предложить им наука, как она участвует в создании самих основ идеологии? Главным образом, через воздействие на самого человека: путем изменения картины мира, путем внедрения научного метода (как метода познания, так и метода мышления), путем создания и внедрения нового языка.
Картина мироздания, «естественный порядок вещей» во все времена были важнейшим аргументом в воздействии на сознание. В любом обществе картина мироздания служит для человека тем основанием, на котором строятся представления об идеальном или допустимом устройстве общества. Уже в трудах первых древнейших философов (например, Анаксимандра) космологические концепции выполняли функцию легитимации (обоснования законности) общественного порядка. О том, какое влияние оказала ньютоновская картина мира на представления о политическом строе, обществе и хозяйстве во время буржуазных революций, написано море литературы. Из модели мироздания Ньютона, представившей мир как находящуюся в равновесии машину со всеми ее «сдержками и противовесами», прямо выводились либеральные концепции свобод, прав, разделения властей. «Переводом» этой модели на язык государственного и хозяйственного строительства были, например, Конституция США и политэкономическая теория Адама Смита.
Огромной силой внушения обладал вытекающий из картины мира Ньютона механицизм – представление любой реальности как машины. Лейбниц писал: «Процессы в теле человека и каждого живого существа являются такими же механическими, как и процессы в часах». Когда западного человека убедили, что он – машина и в то же время частичка другой огромной машины, это было важнейшим шагом к тому, чтобы превратить его в манипулируемого члена гражданского общества. Недавние рыцари, землепашцы и бродячие монахи Европы стали клерками, депутатами и рабочими у конвейера. Мир, бывший для человека Средневековья Храмом, стал Фабрикой – системой машин.
Наблюдается и обратное явление: идеальный тип человеческих отношений проецируется на природу. Интересно сравнение образов животных у Льва Толстого и Сетона-Томпсона. Толстой, с его утверждениями любви и братства, изображает животных бескорыстными и преданными друзьями человека, способными на самопожертвование. Рассказы Сетона-Томпсона написаны в рамках идеологии свободного предпринимательства в стадии его расцвета. И животные здесь наделены чертами оптимистичного и энергичного предпринимателя, идеального self-made man. Если они и вступают в сотрудничество с человеком, то как компаньоны во взаимовыгодной операции.
Идеология, обосновывающая политический порядок, производственные отношения и т.д., соотносится с понятиями, в которых человек мыслит свое существование в обществе. А они неразрывно связаны с картиной мира и пониманием места человека в этом мире. Предложив новую картину мира, зарождающаяся европейская наука наполнила эти понятия новым содержанием или даже впервые сформулировала их. Важнейшими по своему идеологическому значению стали понятия свобода и прогресс.
Понятие свободы
Это понятие играет ключевую роль в идеологиях буржуазного общества на протяжении всей его истории: в борьбе с феодализмом, при разрушении традиционных обществ в колонизуемых странах, для нейтрализации социалистических проектов. Наука выступила как освобождающая сила и законодатель в понимании свободы прежде всего по отношению к своей собственной деятельности. Свобода познания!
С момента своего возникновения и до настоящего времени европейская наука декларирует свой нейтралитет по отношению к идеалам и ценностям, свою полную свободу от идеологических и политических предпочтений. Наука, мол, беспристрастно изучает то, что есть и не претендует на то, чтобы указывать, как должно быть. «Знание – сила», – было сказано на заре науки. И не более того. Моральные ценности в момент становления науки оставлялись в ведении религии, и такое разделение было условием молчаливого пакта между Церковью и наукой. Так и возникла объективная наука, ориентированная на истину, а не на ценности.
Это было совершенно новым явлением в культуре. До этого акт познания был неразрывно связан с этической и даже религиозной позицией – он творился или во имя Добра, как шаг к постижению замысла Творца, или во имя зла, как черная магия, как богоборческое дело. Страстный защитник позитивной науки П. Н. Ткачев подчеркивает эту мысль в связи с конфликтом между Церковью и Галилеем. Он пишет в 1875 г.:
«Глубоко проникнутые сознанием, что каждое научное исследование всегда преследует и всегда должно преследовать какой-нибудь нравственный идеал, какую-нибудь определенную доктрину, эти люди ни на минуту не допускали мысли, чтобы Бруно и Галилей могли относиться объективно к интересующим их астрономическим вопросам. В их математических вычислениях, в их астрономических гипотезах они видели – и, с точки зрения господствующего субъективного метода, должны были видеть – некоторую нравственно-оппозиционную тенденцию. По их мнению, совершенно основательному, эта тенденция находилась в полнейшем противоречии с общепринятыми воззрениями, с общеустановленной догмой католического авторитета. И за нее-то он их осудил. Он их осудил не только как заблуждающихся ученых, но и как испорченных, безнравственных людей. Это было совершенно логично, хотя теперь нам это кажется возмутительным» [10, с. 150-151].
С развитием философии науки тезис о ее свободе от ценностей развивался. Кант концентрировал внимание на ограниченности компетенции науки, на существовании даже таких познавательных проблем, к которым неприложим научный метод («есть что-то там, за теми пределами, куда наука не может проникнуть»). В начале века Макс Вебер сформулировал этот тезис так: «Эмпирическая наука неспособна научить человека, что следует делать, а только может указать, что он в состоянии сделать и, в некоторых условиях, что он в действительности желает сделать».
Но ограниченность компетенции науки – это лишь один и далеко не главный аспект ее свободы от моральных ценностей. Главное, что наука (устами как философов, так и самих ученых) постоянно декларирует и доказывает необходимость автономии исследования от внешних идеологических и политических влияний, необходимость ограничения их компетенции в отношении науки. Без достижения такой автономии, как утверждают, невозможно было бы использование самого научного метода, предполагающего незаинтересованное изучение реальности. Все больше завися от общества (прежде всего от политической власти) в экономическом обеспечении, наука регулярно и тщательно предупреждает, что если предоставление средств будет сопровождаться идеологическими условиями, то производимый ею продукт (знание) потеряет ценность и для «заказчика».
Ученый утверждает, что для любой политической силы полезно располагать неискаженным, объективным знанием о действительности. Убедить в этом власть удается, разумеется, далеко не всегда. Галилей был приверженцем католической церкви и искренне считал, что его наука послужит укреплению ее могущества, даже если и создаст некоторые разрешимые затруднения. Дело, однако, менял тот факт, что научное знание по своей природе не может быть «закрытым». И политик, даже считая для себя ценным объективное знание, должен учитывать эффект от его распространения в обществе. Понятно, что оценка пользы и вреда для власти этого распространения знания может быть у политика и ученого очень различной.
Разумеется, и ценностный нейтралитет науки, и ее автономия от внешних интересов – идеализированные, предельные состояния, не реализуемые на практике. Нормы и идеалы важны, несмотря на то, что они постоянно нарушаются или недостижимы. Но необходимо знать и реальную степень отклонения от норм и идеалов, так как излишняя мифологизация науки опасна и для общества, и для нее самой. Очевидно, что по мере того, как политика и идеология «пропитываются» наукой, ей все сложнее поддерживать нейтралитет и автономию. Зависимость не бывает односторонней.
Главным условием для становления нового понятия свободы послужила новая картина мира. Точнее, само это выражение и могло только возникнуть вместе с наукой, когда мир и человек разделились как объект и субъект и человек смог отстраненно взглянуть на мир. M. Хайдеггер писал в статье «Эпоха картины мира»:
«Картина мира означает, по существу, не картину, изображающую мир, а мир, понимаемый как картина… Выражения „картина мира Нового времени“ и „современная картина мира“, повторяя дважды одно и то же, заставляют предполагать нечто такое, что никогда прежде не могло быть, а именно средневековую и античную картины мира. Нет, картина мира не превращается из прежней, средневековой, в новую, но то обстоятельство, что мир вообще становится картиной, характеризует существо Нового времени»7.
Возникновение индустрии и рыночной экономики требовало освобождения человека от сковывающих его политических, экономических и культурных структур, а подспудно и от ощущения включенности в упорядоченный и замкнутый Космос. По словам Н. А. Бердяева, «Замкнутое небо мира средневекового и мира античного разомкнулось, и открылась бесконечность миров, в которой потерялся человек с его притязаниями быть центром вселенной» [12, с. 309].
Наука разрушила этот Космос, представив человеку мир как бесконечную, познаваемую и описываемую на простом математическом языке машину. Человек был выведен за пределы этого мира и противопоставлен ему как исследователь и покоритель. Понятно, что человек европейской цивилизации, осознавший себя таким исследователем и покорителем, вкусивший этой свободы, просто не понимает страданий человека традиционного общества, вынужденного примириться с механистической картиной мира (это имеет прямое отношение и к модной ныне идее об отсутствии у русского народа вкуса к свободе). Вот как излагает мироощущение русского человека начала ХХ века А. Ф. Лосев:
«Не только гимназисты, но и все почтенные ученые не замечают, что мир их физики и астрономии есть довольно-таки скучное, порою отвратительное, порою же просто безумное марево… Все это как-то неуютно, все это какое-то неродное, злое, жестокое. То я был на земле, под родным небом, слушал о вселенной, „яже не подвижется“… А то вдруг ничего нет, ни земли, ни неба, ни „яже не подвижется“. Куда-то выгнали в шею, в какую-то пустоту, да еще и матерщину вслед пустили. „Вот-де твоя родина, – наплевать и размазать!“ Читая учебник астрономии, чувствую, что кто-то палкой выгоняет меня из собственного дома и еще готов плюнуть в физиономию» [13, с. 405].
К. А. Свасьян приводит слова немецкого философа Р. Штайнера:
«В ньютоновской физике мы впервые соприкасаемся с представлениями о природе, полностью оторванными от человека… Современная наука, стремясь подчинить себе природные явления с помощью математики, изолированной от человека и внутренне уже не переживаемой, способна в своем обособленном математическом созерцании и со своими оторванными от человека понятиями рассматривать только мертвое; с отторжением математики от живого ее можно применять лишь к мертвому» [14].
Надо подчеркнуть, что в культуре Запада разрушение Космоса и переход к рассмотрению мира как картины слилось, в отличие от других культур (в том числе России), с глубокой религиозной революцией – Реформацией. Для протестантов природа потеряла ценность, ибо она перестала быть посредницей между Богом и человеком. Как писал один философ, «тем самым протестантское мышление окажется лучше подготовленным к новому положению науки, которая увидит в природе бездушную механику, к новой физике, которая не будет более созерцанием форм, а будет использованием и эксплуатацией» [11].
Для познания мира, противопоставленного человеку, наука предложила метод, включающий рациональное теоретизирование, наблюдение и эксперимент («допрос Природы под пыткой»). Французский философ науки М. Фуко считает, что структура познавательного процесса экспериментальной науки сложилась под сильным влиянием процесса дознания в средневековом суде:
«Как математика в Греции родилась из процедур измерения и меры, так и науки о природе, во всяком случае частично, родились из техники допроса в конце средних веков. Великое эмпирическое познание… имеет, без сомнения, свою операциональную модель в Инквизиции – всеохватывающем изобретении, которое наша стыдливость упрятала в самые тайники нашей памяти» [15].
Лишь изредка ученые отбрасывают эту стыдливость и высказываются откровеннее, как Анри Пуанкаре: «Сгибать природу так и эдак, покуда она не приноровится к требованиям человеческого рассудка». И. Пригожин пишет:
«Миром, перед которым не испытываешь благоговения, управлять гораздо легче. Любая наука, исходящая из представления о мире, действующем по единому теоретическому плану и низводящем неисчерпаемое богатство и разнообразие явлений природы к унылому однообразию приложений общих законов, тем самым становится инструментом доминирования, а человек, чуждый окружающему его миру, выступает как хозяин этого мира» [9, с. 43].
Глашатай новой науки Френсис Бэкон, считая науку средством покорения природы, писал, что «два человеческих стремления – к знанию и могуществу – поистине совпадают в одном и том же». Фридрих Ницше говорит об этом с восторгом. В главе «Мы, ученые» своей книги «По ту сторону добра и зла» Ницше так видит роль ученых:
«…Они простирают творческую руку в будущее, и все, что есть и было, становится для них при этом средством, орудием, молотом. Их „познавание“ есть созидание, их созидание есть законодательство, их воля к истине есть воля к власти» [16, с. 336].
Конструктивное разрешение вызванного дегуманизацией мира культурного кризиса на первых порах обеспечивалось глубоким взаимодействием науки с христианством. Эту раздвоенность между механистической картиной мира и потребностью в теологии историк науки Нидхэм называет «характерной европейской шизофренией», Пригожин же предпочитает говорить о «резонансе» между теологией и наукой. Действительно, предложив человеку способ познания законов природы, наука в своем освободительном воздействии на человека вступала в синергическое взоимодействие с христианской верой, которая, по словам Элиаде, «обозначает полное освобождение от каких бы то ни было природных „законов“, а следовательно, наивысшую свободу, какую только может вообразить человек: свободу влиять на сам онтологический статус Вселенной».
Наука придала этой метафизической свободе практическое, осязаемое измерение. Но тем самым она и освободила человека от авторитета христианского Откровения, убедила человека в том, что он сам может постигать истину и переделывать мир. Это расщепление христианского в самой основе сознания заложило предпосылки кризиса культуры Нового времени, который как-то должен разрешиться на нынешнем переломном этапе.
А в то время механика Ньютона давала и прямое обоснование идеологическим лозунгам свободы, равенства и гражданских прав. Особое значение для этого имел третий закон Ньютона, который разрушал господствующее в Средние века представление о сугубо иерархических отношениях объекта и его окружения, в которых объект (в том числе человек) был пассивной стороной взаимодействия. Согласно механике Ньютона, в любой динамической ситуации взаимодействующие объекты являются активными частями. Это, например, сразу давало новый смысл отношениям гражданина с властью. Не случайно, что в бурных идеологических дебатах в Англии после революции вигов буквально все ньютонианцы находились по одну сторону баррикады.
Большое значение для освобождения человека имело новое представление о пространстве, новое понимание бесконечности. Хотя утверждение о бесконечности Вселенной, отрицающее замкнутый аристотелевский Космос, все сильнее звучало в трудах теологов начиная с конца XIII в. и было важной составной частью картины мироздания Джордано Бруно, лишь ньютоновская механика убедила человека в этой идее. Снятие пространственных ограничений изменило мироощущение людей, породило убежденность в возможности неограниченной экспансии, столь важную в идеологии индустриализма. Эту убежденность наука время от времени обязана была укреплять. Недавно «цивилизованные люди» с облегчением вздохнули, дав себя убедить, что возможности экспансии не ограничены, что когда на Земле кончатся ресурсы, люди построят электростанции и рудники в космосе, заселят другие планеты и т. д. А покуда следует просто ограничить потребление ресурсов «нецивилизованным большинством» человечества, а еще лучше сократить его численность.
Гораздо меньше внимания обращается на идеологическое значение двух важных аспектов механистической картины мира – обратимости процессов и линейности соотношений между действием и результатом. Чувство свободы становится доминирующим лишь в мире обратимых процессов. И в культурных нормах, и во врожденных инстинктах заложено мощное ограничение на свободу действий, ведущих к непоправимому. Чувство необратимости естественных и социальных процессов – или отсутствие такого чувства – во многом определяет приверженность человека к той или иной идеологии. При этом идеология оказывает столь сильное воздействие на человека, что даже его непосредственное бытие «в гуще» необратимых процессов слабо воздействует на поведение.
Когда в начале XX в. было организовано движение скаутов, предполагалось, что тесный контакт с природой воспитает у них «экологическое чувство», которое станет важным фактором изменения отношения общества к окружающей среде. Этого не произошло, скауты не стали «экологистами». Главная причина заключается в том, что социальной базой движения скаутов была городская элита, проникнутая идеологией индустриализма и урбанизма. Не возникло экологического сознания, которое ограничивало бы свободу, и в среде капиталистических фермеров, «эксплуатирующих» землю. Конрад Лоренц замечает:
«Способность человека интегрироваться в экосистему доказывает опыт крестьянина, который не ограничивается тем, что „живет, прилепившись к клочку земли“, а его любит. Местный крестьянин обладает запасом здоровых экологических знаний. Крестьянин старой закалки не допускает избыточной эксплуатации, а возмещает земле то, что земля ему дала» [17, с. 300].
Механицизм, атомизм и легитимация политического порядка
Любой претендующий на минимальную стабильность политический строй и даже режим нуждается в обосновании своей законности, соответствия «естественному порядку вещей», в таких аргументах, которые были бы убедительны для достаточно большой доли населения. Цивилизация отличается от первобытнообщинного строя, в частности, тем, что, как пишет немецкий философ Юрген Хабермас, в обществе «доминирует одна центральная концепция мироздания (миф, сложная религия), предназначенная для легитимации политической власти (превращая, таким образом, власть в авторитет)». Научная революция по-новому поставила вопрос о власти в общественном сознании.
«Современная физика, – пишет Хабермас, – положила начало философскому обоснованию, которое интерпретировало общество согласно модели, взятой из естествознания, и внедрило, если можно так выразиться, механистическое мировоззрение XVII века. В этих рамках была осуществлена реконструкция классического естественного права. Новое естественное право было основой буржуазных революций XVII, XVIII и XIX вв., которые в конце концов разрушили старые легитимации структуры власти» [18, с. 352].
Как пишет Хабермас, в традиционных формах легитимации власти «старые концепции мироздания – мифические, религиозные и философские, – отвечают на фундаментальные вопросы коллективного существования людей и истории жизни отдельной личности. Их темами являются справедливость и свобода, насилие и гнет, счастье и благодарность, болезни и смерть. Их категории – победа и поражение, любовь и ненависть, спасение и приговор…» [17, с. 349].
В индустриальной цивилизации обоснование власти дегуманизируется научной рациональностью точно так же, как Космос был дегуманизирован механистической картиной мира. Естественно, что крушение традиционной легитимации политического порядка сопровождается тяжелым культурным кризисом, тем более разрушительным, чем сильнее сжат во времени этот процесс. В Англии путем компромисса между буржуазией и аристократией была найдена «щадящая» формула. В буржуазной Французской революции этот кризис породил террор и Наполеона, но затем был растянут во времени чередой республик и монархий.
Наиболее острые проявления кризиса этого рода мы наблюдаем в наши дни при разрушении последней европейской державы с традиционным обществом – России. После попытки либерально-буржуазной революции в феврале 1917 г., которая была подавлена революцией (или, как говорили либералы, контрреволюцией) «архаического крестьянского коммунизма», произошла реставрация традиционного общества. В ходе индустриализации началась эволюция к модернизированным структурам, вплетаемым в культурную ткань традиционного общества. В конце 80-х годов этот сложный процесс сменился периодом радикальной ломки культурных норм и традиций с преувеличенной ориентацией на Гоббсово представление о человеке и обществе. Свойственный российской интеллигенции революционизм вновь победил инерцию традиционного мировоззрения масс [19].
Вернемся к взаимодействию науки и идеологии на этапе становления буржуазного общества. Из всей ньютоновской картины мироздания идеологи английской революции непосредственно выводили естественность конституционной монархии как наилучшей из форм политического порядка, поскольку власть короля, как и власть Солнца, умеряется законами. Разрушались иерархические структуры власти, скрепляющие людей солидарностью, основанной на образе жизни, традициях, религии. Возникало гражданское общество, основанное на индивидуализме людей-«атомов». Концепцию атомизированного общества, естественное право и характер власти в таком обществе изложил английский философ Томас Гоббс, свидетель и участник бурных событий ХVII в. Его философские основания индивидуализма не потеряли актуальности и сегодня, они пронизывают идеологические выступления всякий раз, как возникает необходимость легитимации свободной рыночной экономики и соответствующего ей политического порядка.
Становление механистической картины мира, утверждение атомизма и рационализация сознания позволили решить две основные задачи идеологии восходящего буржуазного общества: легитимацию нового политического порядка и легитимацию нового социально-экономического устройства общества. Важное идеологическое значение имели для этого атомистические представления о строении материи. Можно даже сказать, что эти представления, находившиеся много веков в «дремлющем» состоянии, были выведены на авансцену именно идеологами – прежде всего в лице философа XVII в. Пьера Гассенди, «великого реставратора атомизма». Уже затем атомистика была развита естествоиспытателями – Бойлем, Гюйгенсом и Ньютоном.
Атом, по Гассенди, – неизменное физическое тело, «неуязвимое для удара и неспособное испытывать никакого воздействия». Атомы «наделены энергией, благодаря которой движутся или постоянно стремятся к движению». Несмотря на все многообразие развивающихся частных научных концепций, механистическая картина мира глубоко и надолго укоренилась в общественном сознании. В начале XX в. английский философ Э. Карпентер пишет:
«Примечательно, что в течение этой механистической эры последнего столетия мы не только стали рассматривать общество через призму механистического мышления, как множество индивидуумов, изолированных и соединенных простым политэкономическим отношением, но и распространили эту идею на всю Вселенную в целом, видя в ней множество изолированных атомов, соединенных гравитацией или, может быть, взаимными столкновениями» [20, с. 808].
Возрождение атомизма объясняется, помимо его явной необходимости для создания целостной механистической картины мира, культурно-идеологическими потребностями, тенденцией к «атомизации» общества в XVII-XVIII вв. П. П. Гайденко пишет:
«Разрушается феодальная общественная структура, индивид освобождается от ранее определявших его образ жизни связей и ограничений. Происходит отделение производителя от средств производства, расширяются рыночные отношения. На первое место все больше выступает частный капитал, т.е. индивид ведет себя как отдельный атом, и из хаотического движения атомов складывается равнодействующая тенденция развития общества» [21, с. 17].
Тот индивидуализм, на котором основано в рыночной экономике свободное предпринимательство, не мог возникнуть без ощущения человеком себя как свободного атома человечества. Иначе был бы невыносим разрыв с коллективами, в которых существовал человек аграрного общества – с патриархальной семьей, родной деревней, церковью и т. д. Атомизм как естественный порядок вещей придал законность и освобождению от иерархических структур феодальной зависимости и государства, заложил философскую основу представительства в западной демократии («один человек – один голос»). Раньше голосом обладал не человек-атом, а полномочный представитель коллектива (отец семьи, старейшина клана или общины, феодал).
Гоббс представляет человека одиноким, зависящим только от себя самого и находящимся во враждебном окружении, где его признание другими измеряется лишь властью над этими другими. Сосуществование индивидуумов в обществе определяется фундаментальным условием – их исходным равенством. Но это равенство кардинально отлично от того, которое было декларировано в христианской религии: там все люди равны «по большому счету», ибо созданы по образу и подобию Божию. Здесь же, по Гоббсу, «равными являются те, кто в состоянии нанести друг другу одинаковый ущерб во взаимной борьбе». Равенство людей-«атомов» предполагает как идеал не любовь и солидарность, а непрерывную войну, причем войну всех против всех : «хотя блага этой жизни могут быть увеличены благодаря взаимной помощи, они достигаются гораздо успешнее подавляя других, чем объединяясь с ними», – пишет Гоббс. Такое состояние общества определяется естественным правом, в котором нет места моральным нормам:
«Природа дала каждому право на все. Это значит, что в чисто естественном состоянии, или до того, как люди связали друг друга какими-либо договорами, каждому было позволено делать все, что ему угодно и против кого угодно, а также владеть и пользоваться всем, что он хотел и мог обрести…» (см. [21, с. 17]).
Очевидно, что в неконтролируемом состоянии такая конкуренция индивидуумов означала бы самоуничтожение человечества. И политический порядок, по Гоббсу, является своеобразным договором между всеми «воюющими сторонами». То есть, политическая власть получает легитимацию «снизу», от совокупности свободных и равных граждан, а не «сверху», как иерархия, освященная традицией и религией.
Такое представление о человеке является специфическим порождением западной культуры. Оно стало едва ли не важнейшим инструментом идеологии в легитимации и политического, и социального порядка буржуазного общества. Для власти оно стало важнейшим средством господства через манипуляцию сознанием (подробнее см. в [22]). Американский специалист по СМИ Г. Шиллер придает мифу об индивидууме большое значение во всей системе господства в западном обществе:
«Самым крупным успехом манипуляции, наиболее очевидным на примере Соединенных Штатов, является удачное использование особых условий западного развития для увековечения, как единственно верного, определения свободы языком философии индивидуализма… На этом фундаменте и зиждется вся конструкция манипуляции» [23].
Видение общества как мира «атомов» вытекает из той научной рациональности, в основе которой лежит детерминизм – уверенность, что поведение любой системы подчиняется законам и его можно точно предсказать и выразить на математическом языке. И движение атомизированного «человеческого материала» поддается в научной политэкономии такому же точному описанию и прогнозированию, как движение атомов идеального газа в классической термодинамике. Солидарные же общественные структуры, в которых идут нелинейные и «иррациональные» процессы самоорганизации, движутся жаром человеческих страстей и во многом непредсказуемы. Об этом красноречиво и трагично говорит вся история и «вненаучная», гуманитарная культура.
Тот факт, что огромные массы людей через школы и средства массовой информации продолжают обрабатываться идеологиями, проникнутыми идеей детерминизма и классической научной рациональностью, в условиях нынешнего кризиса накладывает на ученых большую моральную ответственность – ведь в самой науке эти основания подвергаются пересмотру. Авторитетом науки фактически освящается идеология, уже противоречащая тому, что знают сами ученые. На это обращает внимание И. Пригожин:
«В 1986 г. сэр Джеймс Лайтхил, ставший позже президентом Международного союза чистой и прикладной математики, сделал удивительное заявление: он извинился от имени своих коллег за то, что „в течение трех веков образованная публика вводилась в заблуждение апологией детерминизма, основанного на системе Ньютона, тогда как можно считать доказанным, по крайней мере с 1960 года, что этот детерминизм является ошибочной позицией“. Не правда ли, крайне неожиданное заявление? Мы все совершаем ошибки и каемся в них, но есть нечто экстраординарное в том, что кто-то просит извинения от имени целого научного сообщества за распространение последним ошибочных идей в течение трех веков. Хотя, конечно, нельзя не признать, что данные, пусть ошибочные, идеи играли основополагающую роль во всех науках – чистых, социальных, экономических, и даже в философии. Более того, эти идеи задали тон практически всему западному мышлению, разрывающемуся между двумя образами: детерминистический внешний мир и индетерминистический внутренний» [4, с. 48].