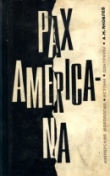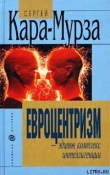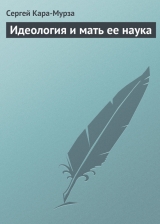
Текст книги "Идеология и мать ее наука"
Автор книги: Сергей Кара-Мурза
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Создание некогерентности (несоизмеримости частей реальности)
Человек может ориентироваться в жизненном пространстве и разумно судить о действительности, когда отдельные элементы реальности соответствуют друг другу и соединяются в систему – они когерентны, соизмеримы. В России эксперты создали обстановку общего, негласно уговоренного абсурда. При этом средний нормальный человек теряет почву под ногами и начинает сомневаться именно в своем разуме.
Вот типичные дебаты по бюджету. Никто не скажет о том, что его части несоизмеримы. Половина доходов бюджета прямо извлекается из кармана рядовых граждан – в виде налога на добавленную стоимость и импортных пошлин – при покупке их скудного пропитания. Налоги на прибыль предприятий невелики. Это понятно – не хочется обижать Каху Бендукидзе. Но почему так смехотворно, ничтожно мала плата за пользование недрами? Ведь «частные компании», которым розданы прииски и нефтепромыслы, владеют лишь постройками, трубами да насосами, содержимое недр приватизации не подлежало.
В извлеченных из недр минералах были воплощены те 300 млрд. долларов (15 годовых бюджетов), которые преступно вывезены за границу. Почему же за выкачивание этих богатств из наших пока что принадлежащих всему народу недр берется такая ничтожная плата? Почему же никто не удивляется и даже не спрашивает? Как будто экспертам дали тайный знак – «искать не там, где потеряли, а там, где светло». И вот они шарят руками под фонарем.
Вот другой сюжет из области налогов. Налоговая служба мечет громы и молнии против тех, кто жульничает при уплате налога с прибыли – и делает вид, что не знает общеизвестной вещи: главный способ сокрытия доходов заключается в применении внутрифирменных трансфертных цен. Иными словами, зарубежная фирма-акционер имеет право покупать материалы и оборудование не по рыночным, а по внутрифирменным ценам. Получив такое право, она ввозит из-за рубежа материалы и машины по ценам, в сотни, а то и тысячи раз превышающим рыночные. Так без всяких налогов изымается и вывозится вся прибыль – а для приличия оставляют на виду с гулькин нос. Конечно, получение такого права – вопрос большой коррупции. И эксперты молчат. Из множества таких мелких несоизмеримостей складывается общая патология массового сознания, его острая некогерентность.
Положение не меняется. В программной статье В. Путина «Россия», опубликованной 31 декабря 1999 г., сделаны три утверждения, все попарно некогерентные:
– «Бурное развитие науки и технологий, передовой экономики охватило лишь небольшое число государств, в которых проживает так называемый „золотой миллиард“.
– «Мы вышли на магистральный путь, которым идет все человечество… Альтернативы ему нет».
– «Каждая страна, в том числе и Россия, должна искать свой путь обновления».
Такие примеры можно множить и множить. Речь идет даже не о том, что экспертное сообщество непрерывно вбрасывает в массовое сознание множество некогерентных утверждений, разрушая логику и здравый смысл. Оно создало, путем включения множества частных подлогов и умолчаний, особый, принципиально некогерентный дискурс, деформирующий само мышление. Это – агрессия в культуру более высокого уровня, нежели создание извращенного языка («новояза» Оруэлла). Возьмем как частный пример фрагмент дискурса экспертов-экономистов.
– В языке экспертов фигурирует понятие «нормальная рыночная экономика». Все признают, что это – неравновесная система, которая для поддержания равновесия требует непрерывного изъятия огромных ресурсов извне и сбрасывания загрязняющих отходов вовне. Этот тип хозяйства не только не может быть распространен на все человечество (потому и укоренилось понятие «золотой миллиард»). Это – выводы Конференции Рио-92, которые экономистами никогда не оспариваются (хотя и замалчиваются). Представлять как нормальное то, что не может быть нормой для всех и даже для значительного меньшинства, есть создание острой некогерентности.
– Негласно введено предположение, что при хорошем и неторопливом исполнении приватизации в России можно было бы построить «нормальную рыночную экономику» (или «экономику золотого миллиарда»). Немногие авторы, которые указывают на невозможность этого в принципе, занимают в сообществе маргинальное положение, и их заявления просто игнорируются. Ситуация ненормальна: заявления экспертного сообщества по важнейшему вопросу строятся на неявном предположении, которого никто не решается явно высказать даже в качестве постулата. Когда слепой ведет слепого к пропасти, это трагично, но простительно, но тут – другой случай. Экспертное сообщество становится козлом-провокатором.
– Принятие для России правил «нормальной рыночной экономики» (переход на «магистральный путь») означает включение либо в ядро мировой системы, либо в число «аутсайдеров», на территории которых ядро организует «дополняющую» экономику. Разрыв между ядром и периферией не сокращается, а растет, и в перспективе, как выразился Ж-Ж. Аттали, «участь аутсайдеров ужасна». Прогнозы сокращения населения России, продолжающей «следовать по магистральному пути», хорошо известны, динамика всех эмпирических показателей за последние десять лет эти прогнозы подтверждает. Таким образом, эксперты, замалчивающие суть выбора, не могут не знать о его последствиях. Введение в заблуждение целого народа относительно вполне реальной опасности его физического исчезновения означает нравственную гибель сообщества, принявшего на себя функцию «экспертного».
– Встроиться в глобальную систему рыночной экономики даже в положении аутсайдера можно лишь в том случае, если хозяйство данной страны обеспечивает приемлемую норму прибыли для «экономических операторов» (предпринимателей). По отношению к населению тех регионов, где этот уровень не достигается, введено понятие «общность, которую не имеет смысла эксплуатировать». Примечателен уже сам факт, что это введенное на Западе в оборот чрезвычайно важное для нас понятие никогда не доводилось экспертами до сведения российского общества. Между тем, оно касается нас непосредственно.
В России в силу географических и почвенно-климатических условий капиталистическая рента была всегда низкой (поэтому, например, фермерство не могло конкурировать с крестьянством). Сегодня в странах с теплым климатом имеется избыток квалифицированной рабочей силы. Конкурируя на мировом рынке труда (за капитал, за доступ к средствам производства), она имеет перед русскими работниками большие абсолютные преимущества. В средней полосе России на отопление жилья и рабочего места уходит 4 тонны условного топлива на душу. Это стоит 2 тыс. долларов на семью. Они входят в минимальную стоимость рабочей силы, которая каким-то способом должна быть оплачена предпринимателем. На Филиппинах этих расходов нет, и разумный предприниматель не станет эксплуатировать русского работника, пока на рынке труда есть филиппинец. При рыночной экономике инвестиции в Россию невыгодны, и это фактор фундаментальный. Россия не может быть даже объектом эксплуатации.
Десять лет реформы показали, что именно граждане России еще в большей степени, нежели африканцы, могут стать «общностью, которую нет смысла эксплуатировать». Создание иллюзорных надежд на инвестиции – подлог. Он на совести экспертов.
– В России быстро сокращается добыча энергоносителей и увеличивается их экспорт. В 1998 г. добыто 294 млн. т нефти, а экспортировано (с учетом экспорта нефтепродуктов) 201 млн. т. Это 69% добычи. Для внутреннего потребления России остается мало нефти (0,7 т на жителя). Кроме того, в РФ произошел сдвиг в потреблении нефти из сферы производства из-за резкого роста числа личных автомобилей (в три раза с 1985 г.). А стратегия массовой автомобилизации предполагает дальнейший переток энергоресурсов в сферу потребления. Перспективы роста добычи малы, т.к. с конца 80-х годов глубокое разведочное бурение на нефть и газ сократилось к 1998 г. более чем в 5 раз (а бурение на другие минеральные ресурсы – в 30 раз).
Заметим, что в СССР экспорт не превышал 20% добытой нефти при уровне добычи вдвое большем, чем сегодня. Однако эксперты продолжают убеждать общество в том, что якобы сейчас продолжается та же практика сырьевого экспорта, что и в СССР. Значит, делает вывод средний гражданин, мы в принципе и при нынешней экономической системе можем выйти на тот же уровень производства и потребления, как в советское время. Это подлог, ибо возникла качественно совершенно иная система – у нас теперь просто нет энергии для восстановления производства.
Энергия – фактор производства абсолютный. Таким образом, оживление хозяйства и рост производства в России при «нормальной рыночной экономике» невозможны по фундаментальной причине отсутствия энергетической базы. Создание экспертами иллюзорных ожиданий роста производства – подлог.
– И государство, и хозяйство с большим трудом изыскивают средства для покрытия самых срочных и неотложных расходов. Тем не менее эксперты указывают на якобы имеющиеся источники средств, которые могут не только решить срочные проблемы, но и обеспечить инвестиции (улучшение налоговой системы, принятие «хороших законов» и т.п.). При этом никогда не дается сравнения реального масштаба этих источников и тех потерь, что понесло хозяйство за годы реформы и которые надо возместить. Здесь создана острая несоизмеримость.
По сравнению с теми средствами, которые Россия потеряла из-за разрушения производственной системы, все эти отыскиваемые источники доходов – крохи. Подорваны основы производственного потенциала. Например, за годы реформы сельское хозяйство России недополучило почти миллион тракторов. Значит, только чтобы восстановить уровень 80-х годов в оснащении тракторами, нужно порядка 10-20 млрд. долларов. И ведь тогда восстановится техническая база, на которой стояли колхозы (12 тракторов на 100 га пашни), а фермерам для нормальной работы нужно в десять раз больше тракторов, чем колхозам. Значит, 200 млрд. долларов потребны только на создание нормального тракторного парка. А удобрения? А комбайны и грузовики? А восстановление стада, которое вырезано более чем наполовину? А морской рыболовный и торговый флот? А трубопроводы, которые десять лет не ремонтировались? А промышленность и электростанции? Огромные средства надо вложить, чтобы восстановить качество рабочей силы – только на то, чтобы довести питание людей до минимально приемлемого уровня по белку, потребовались бы расходы в треть госбюджета.
В большой мере ответственность за то, что у общества разрушена способность измерять фундаментальные величины, несет сообщество экспертов.
– Приватизация была проведена с огромным, исторического масштаба, подлогом, который был совершен экспертным сообществом. Положение не изменилось и сегодня. С момента приватизации прошло восемь лет, и можно было бы дать ее оценку на основе опытных данных. Такой оценки сделано не было. Похвалы приватизации имеют чисто идеологический характер (выходим на «магистральный путь»). Критике же подвергаются частные дефекты исполнения («обвальная», «ваучерная», «номенклатурная» и т.д.).
Между тем в России существует крупная отрасль, которая имеет надежный рынок сбыта и не испытывает недостатка средств – нефтедобывающая промышленность. Здесь возникли крупные компании («эффективный собственник»), акции их ликвидны, имеются «стратегические инвесторы» и т.д. Иными словами, здесь не было больших помех тому, чтобы приватизация показала свой магический эффект в росте абсолютного эффекта (количества производимых благ), а также измеримого показателя эффективности – производительности труда.
Результаты таковы: добыча нефти сократилась вдвое, а число занятых в отрасли увеличилось более чем вдвое. В 1988 г. на одного работника, занятого в нефтедобывающий промышленности, приходилось 4,3 тыс. т добытой нефти, а в 1998 г. – 1,05 тыс. т. Таким образом, несмотря на технический прогресс, который имел место в отрасли за десять лет, превращение большого государственного концерна в конгломерат частных предприятий привело к падению главного показателя эффективности более чем в 4 раза!
Нежелание экспертов объясниться с обществом по результатам приватизации носит уже вполне преступный характер.
Манипуляция словами и образами
Эксперты усиленно заменяют слова, смысл которых устоялся в общественном сознании, на «слова-амебы» с неизвестным происхождением и неясным смыслом. Более того, они создают новояз – извращают смысл слов. Замена русских слов, составляющих большие однокорневые гнезда и имевших устоявшиеся коннотации, на иностранные или изобретенные слова приняла в России такой размах, что вполне можно говорить о семантическом терроре, который наблюдался в 30-е годы в Германии.
Вспомним ключевое слово дефицит. В нормальном языке оно означает нехватка. Но людей уверили, что во времена Брежнева «мы задыхались от дефицита», а сегодня никакого дефицита нет, а есть изобилие. Как может образоваться изобилие при катастрофическом спаде производства? Много производили молока – это был дефицит; снизили производство вдвое – это изобилие. Это и есть новояз: нехватка – это изобилие!
Замечу, что и в чисто «рыночном» смысле реформа привела к опасному дефициту, какого не знала советская торговля. Чтобы увидеть это, надо просто посмотреть статистические справочники. В советское время нормативные запасы товаров и продуктов в торговле были достаточны для 80 дней нормальной розничной торговли. Если они сокращались ниже этого уровня, это было уже чрезвычайной ситуацией. В 1992 г. наполнение товарами упало на 40 процентов, после того как этот показатель упал уже в 1991 г. Затем в ходе реформы товарные запасы снизились до 20-30 дней. А, например, на 1 октября 1998 г. на складах Санкт-Петербурга имелось продуктов и товаров всего на 14 дней торговли. Положение регулируют только невыплатами зарплаты и пенсий (летом 1996 г. в Воронеже «резко» выплатили долги по зарплате и пенсиям, и в два дня полки магазинов опустели).
Что мы получили уже через три года реформы хотя бы в питании, говорит документ режима, а не оппозиции – «Государственный доклад о состоянии здоровья населения Российской Федерации в 1992 году»: «Существенное ухудшение качества питания в 1992 г. произошло в основном за счет снижения потребления продуктов животного происхождения. В 1992 г. приобретение населением рыбы составило 30% от уровня 1987 г., мяса и птицы, сыра, сельди, сахара – 50-53%. Отмечается вынужденная ломка сложившегося в прежние годы рациона питания, уменьшается потребление белковых продуктов и ценных углеводов, что неизбежно сказывается на здоровье населения России и в первую очередь беременных, кормящих матерей и детей. В 1992 г. до 20% детей обследованных групп 10 и 15 лет получали белка с пищей менее безопасного уровня, рекомендуемого ВОЗ. Более половины обследованных женщин потребляли белка менее 0,75 г на кг массы тела – ниже безопасного уровня потребления для взрослого населения, принятого ВОЗ». Это – официальное признание в том, что реформа сломала сложившийся при советском укладе благополучный рацион питания и что в стране вовсе не происходит «наполнение рынка», а возник, как сказано в докладе, «всеобщий дефицит» питания, ранее немыслимый.
Эксперты внедрили большое число эвфемизмов – ложных успокаивающих имен. Типично ложным именем были названы созданные в 1989-1990 гг. фирмы, начавшие разрушение финансовой системы и потребительского рынка. Они были названы «кооперативами». Это были типичные частные предприятия, в основном на теневом капитале или на украденных администрацией государственных средствах. Эти предприятия не были основаны на кооперативной собственности, собранной из паев участвующих в кооперации людей. Обследования показали: «более 90% существующих кооперативов – беспаевые. Когда работники увольняются, то практически никто не требует своего пая. Более того, они и не вспоминают о нем».
Одним из фундаментальных подлогов было внедрение в общественное сознание мысли, что политический и экономический порядок в России, установленный в 1991 г., был либерализмом («либеральные реформы»). На деле этот режим по своей политической и социальной философии и тем более по практике принципиально и радикально противостоит либерализму – в гораздо большей степени, нежели русский большевизм. Вот академик Аганбегян: «Сильная политическая власть при неокрепшей демократии, которую мы имеем, не может быть демократической или либеральной в западном понимании слова. Поэтому, наверное, она будет развиваться в направлении авторитарном».
Люди с таким мышлением в принципе не могут быть либералами ни в какой сфере. А ведь под каким предлогом уговаривали они ломать советский строй? Под тем, что такие болезненные реформы, как ускоренная индустриализация, перевод экономики на военные рельсы и послевоенное восстановление в СССР были проведены без либеральной демократии. Но тогда это делалось, пусть с жестокостями, перегибами и ошибками, в интересах большинства и при его явной поддержке. Именно это и вызывало ненависть Аганбегяна и Боннэр. А когда их спустили с цепи, чтобы разрушить тот строй и передать национальное достояние «своим», они легко сбросили маску демократов. Теперь они за полицейский режим.
Манипуляция числом и мерой
Не будем говорить о прямых и сознательных подлогах (например, с числом жертв репрессий или числом жертв чернобыльской аварии). Подлоги идут по другой статье. Рассмотрим «мягкие» искажения реальности – как бы из-за методологических упущений или умолчаний.
– Т. Заславская утверждала, что в СССР число тех, кто трудится в полную силу, в экономически слабых хозяйствах было 17%, а в сильных – 32%. И эти числа всерьез повторялись в академических журналах – замечательный пример утраты экспертами минимума научной рациональности. Понятие «трудиться в полную силу» в принципе неопределимо, это не более чем метафора – но оно измеряется академиком с точностью до 1 процента. 17 процентов! 32 процента!
Но главное, утверждение Т. Заславской, якобы обоснованное точной мерой, противоречит и здравому смыслу, и всему ее антисоветскому пафосу. Ведь выходит, что советская система обеспечивала всем весьма высокий уровень жизни, сравнимый по главным показателям с самыми богатыми странами, без изматывающего типа работы, свойственного этим богатым странам. Т.Заславская звала нас в общество, где подавляющему большинству придется работать на износ, подрабатывая в выходные и по ночам – и жить гораздо хуже, чем в СССР.
– Когда в 1991 г. вели дело к приватизации, говорилось: «Необходимо приватизировать промышленность, ибо государство не может содержать убыточные предприятия, из-за которых у нас уже огромный дефицит бюджета». Реальность же такова: за весь 1990 г. убытки нерентабельных промышленных предприятий СССР составили всего 2,5 млрд. руб.! В I полугодии 1991 г. в промышленности, строительстве, транспорте и коммунальном хозяйстве СССР убытки всех убыточных предприятий составили 5,5 млрд. руб. А дефицит бюджета в 1991 г. составил около 100 млрд. руб.!
– Широко распространена манипуляция посредством «средних» показателей. Средним числом можно пользоваться, только если нет большого разрыва в показателях между разными частями целого, – иначе будет как в больничной палате: один умер и уже холодный, а другой хрипит в лихорадке, но средняя температура нормальная. Вот эксперты утверждают, будто потребление в стране за годы реформы упало на 30%. В 1995 г. по сравнению с 1991 г. потребление мясопродуктов упало на 28, масла на 37, молока и сахара на 25%. Но этот спад сосредоточился почти исключительно в той половине народа, которую сбросили в крайнюю бедность. Значит, в этой половине потребление самых необходимых для здоровья продуктов упало на 50-80%! А эксперты делали вид, что не понимают этой простой вещи.
– Ложный образ возникает и вследствие недобросовестного употребления относительных чисел без указания абсолютных величин. Например, рост относительного показателя от малых величин создает ложное впечатление. Допустим, спад производства тракторов в 1990 г. был 10%, и рост их производства в 1999 г. был 10%. Ура, идет «компенсация спада», на 10% упало, на 10% приросло. Но в 1990 г. мы имели потерю в 24 тыс. тракторов, а в 1999 г. прирост в 1 тыс. – в абсолютном выражении вещи несоизмеримые.
– Перед выборами и 1993, и 1995, и 1999 годов эксперты утверждали, что высокие цены на хлеб вызваны «диктатом аграрного лобби». Какова реальность? Цена складывается из цены зерна, цены превращения его в хлеб на прилавке и «накруток». Реальные («технически оправданные») расходы на помол, выпечку и торговые издержки составляют 1,1 от стоимости пшеницы (такими они и были при советской системе). Весной 2000 г., батон белого хлеба весом 380 г. стоил в Москве 6 руб. Он был выпечен из 200 г. пшеницы. Такое количество пшеницы стоило в декабре 1999 г. на рынке 34 коп. (1725 руб. за тонну). Ни диктат «аграрного лобби», ни собственность на землю повлиять на все то, что выходит за рамки 34 коп., не могут в принципе, 95% цены никак с сельским хозяйством не связаны, они создаются в городе. Себестоимость превращения пшеницы в хлеб с доставкой его к прилавку равна для одного батона 38 коп. Итого реальная себестоимость батона равна 72 коп. А на прилавке его цена 6 руб. Таков масштаб «накруток» на пути от пшеницы до хлеба – 733%!