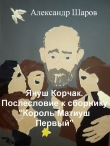Текст книги "Александр Первый"
Автор книги: Сергей Цветков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 27 страниц)
В 1819 году он поступил на военную службу в 3-й Украинский уланский полк рядовым из вольноопределяющихся. Полк квартировался в Херсонской губернии, в Миргороде; командиром его был полковник Алексей Гревс. Шервуд был радушно принят в офицерской среде и заслужил благосклонность полковника. Через несколько месяцев его произвели в унтер-офицеры, в каковом звании он и оставался последующие пять лет.
Гревс часто давал Шервуду различные поручения в Крым, в Одесскую, Киевскую, Волынскую и Подольскую губернии. В этих разъездах Шервуд внимательно прислушивался к разговорам и изучал страну и людей. Постепенно у него сложилось твердое убеждение о существовании политического заговора. Раз придя к такому мнению, Шервуд действовал дальше как истинный англичанин – хладнокровно, обдуманно, систематично. Но понять, что именно кроется за этими разговорами, ему, конечно, в значительной степени помогло почти фантастическое отсутствие всякой конспирации у декабристов.
Вскоре после предыдущего случая Гревс послал Шервуда по полковому делу к действительному статскому советнику графу Якову Булгари, который должен был находиться в Ахтырке. Приехав туда на рассвете, Шервуд отыскал квартиру графа и, усевшись в приемной, спросил у лакея кофе и трубку. Дверь в спальню была открыта. Шервуд обнаружил, что граф не один; на другой кровати спал какой-то незнакомый ему человек. Спустя какое-то время незнакомец проснулся, и Шервуд невольно оказался свидетелем следующего разговора.
– А что, граф, спишь? – было первым вопросом незнакомца.
Булгари отвечал, что нет, так как все думает о вчерашнем разговоре, и затем спросил:
– Ну, что же, по твоему мнению, было бы самое лучшее для России?
– Самое лучшее, конечно, конституция, – не раздумывая, отвечал собеседник.
Булгари расхохотался:
– Конституция для медведей!
– Нет, позвольте, граф, вам сказать: конституция, примененная к нашим потребностям, нашим обычаям.
– Хотел бы я знать конституцию для русского народа! – иронически воскликнул Булгари и вновь захохотал.
– Я много думал об этом, а потому скажу вам, какая конституция была бы хороша, – отозвался незнакомец и принялся без запинки излагать статьи.
"Я в это время перестал курить, – пишет Шервуд, – и, смотря ему в глаза, подумал: "Ты говоришь по писаному; изложить конституцию на словах дело несбыточное, какого бы объема ум человеческий ни был"".
– Да ты с ума сошел, – прервал незнакомца Булгари, – ты, верно, забыл, как у нас династия велика, – ну куда их девать?
У его собеседника заблестели глаза, он сел на кровати, засучил рукава и сказал:
– Как куда девать? Перерезать.
Булгари поморщился:
– Ну вот, ты уже заврался, ты забыл, что их и за границей много. Ну да полно об этом, это все вздор, давай лучше о другом чем-нибудь говорить.
Здесь Шервуд велел лакею доложить о себе. Булгари позвал его в комнату и представил незнакомца:
– Господин Вадковский.
В дальнейшем разговоре Вадковский, выяснив, что Шервуд служит в миргородских военных поселениях, почему-то проникся к нему величайшей симпатией и доверием. Когда Булгари зачем-то вышел из комнаты, Вадковский, немного изменившись в лице, подошел к Шервуду и сказал:
– Господин Шервуд, я с вами друг, будьте мне другом, и я вам вверю важную тайну.
Шервуд отступил на шаг и ответил, что не любит ничего тайного.
Вадковский подошел к окну и ударил рукой по раме.
– Нет, оно быть иначе не может, наше общество без вас быть не должно.
"Я в ту минуту понял, – пишет Шервуд, – что существует общество, и, конечно, вредное..." Он сказал, что сейчас не время и не место для подобных признаний, но он дает честное слово, что приедет к Вадковскому в полк. Тут в комнату вернулся Булгари, и их разговор окончился.
Шервуд решил раскрыть заговор. "Я любил блаженной памяти покойного императора Александра I не по одной преданности как к царю, – объясняет он свой поступок, – но как к императору, который сделал много добра отцу моему". Вернувшись в полк, он стал размышлять, как переговорить об этом деле лично с царем. "Я придумал написать его величеству письмо, в котором просил прислать и взять меня под каким бы то ни было предлогом по делу, касающемуся собственно до государя императора... потом вложил письмо в другое, к лейб-медику Якову Васильевичу Виллие, прося его вручить приложенное письмо государю императору".
Шервуд ждал ответа недолго. Его письмо, конечно, оказалось у Аракчеева, который поручил фельдъегерю доставить Шервуда в Грузино. Встреча состоялась 13 июля. Аракчеев встретил Шервуда, стоя на крыльце своего дома. Осмотрев его с головы до ног и, видимо, не найдя в молодом унтер-офицере ничего подозрительного, Аракчеев взял Шервуда под руку и повел в сад. Здесь он сделал ему выговор, что писать следует по начальству.
– Но если я не хочу, чтобы мои командиры знали об этом? – возразил Шервуд.
Аракчеев предложил рассказать все дело ему, но Шервуд настаивал на аудиенции у государя, так как дело касается непосредственно его особы.
– Ну, в таком случае я тебя и спрашивать не буду, поезжай себе с Богом, – произнес Аракчеев.
Эти слова так тронули Шервуда, что он ответил:
– Ваше сиятельство! Почему мне вам и не сказать?.. Дело – в заговоре против императора.
17 июля в пять часов пополудни Шервуд был принят Александром в Каменноостровском дворце. Позвав Шервуда в кабинет, царь запер за ним двери. "Первое, что государь меня спросил, – вспоминает это свидание Иван Васильевич, – того ли Шервуда я сын, которого он знает и который был на Александровской фабрике. Я ответил: того самого".
– Ты мне писал, – продолжал Александр. – Что ты хочешь мне сказать?
Шервуд подробно поведал о своих наблюдениях и умозаключениях. Царь, подумав, произнес:
– Да, твои предположения могут быть справедливы... Чего же эти... хотят? Разве им так худо?
Шервуд отвечал, что от жиру, собаки, бесятся.
– Как ты полагаешь, велик ли заговор? – продолжал расспрашивать Александр.
– Ваше величество, по духу и разговорам офицеров вообще, а в особенности второй армии, полагаю, что заговор должен быть распространен довольно сильно.
На вопрос царя, как он предполагает раскрыть заговор, Шервуд ответил, что просит позволения вступить в тайное общество, с тем чтобы затем выдать его участников и их намерения. К этому он добавил, что государственные мужи, по его мнению, делают грубые ошибки.
– Какие? – живо спросил Александр.
– В военных поселениях людям дают в руки ружья, а есть не дают, сказал Шервуд. – Что им, ваше величество, остается делать?
– Я вас не понимаю... Как есть не дают?
Шервуд объяснил, что крестьяне обязаны кормить, помимо своего семейства, еще и постояльцев, действующих резервистов и кантонистов, и это при том, что они так заняты постройками и перевозкой леса, что не имеют и трех дней за лето на свои полевые работы и что были случаи, когда люди умирали с голоду.
Александр выслушал его с большим вниманием, но не стал развивать эту тему, а спросил, не лучше ли будет для раскрытия заговора, если Шервуда произведут в офицеры. Шервуд отвечал, что после разоблачения заговорщиков император будет волен произвести его во что ему будет угодно. Царь впервые за весь разговор улыбнулся: "Я надеюсь тебя видеть" – и, поручив Шервуду изложить свой план действий письменно, отпустил его. (Начальнику штаба генерал-адъютанту Дибичу, уверявшему, что Шервуд наговорил вздор, Александр сказал: "Ты ошибаешься, Шервуд говорит правду, я лучше вас людей знаю".)
Шервуд некоторое время еще жил в Грузино, ожидая, пока будут готовы бумаги, оправдывающие его поездку в столицу. Однажды за столом у Аракчеева он встретился со знакомым декабристом Батеньковым, который раз шесть осведомился, почему Шервуд здесь, пока наконец ответы последнего не успокоили его подозрительности.
Отпуская Шервуда в полк, Аракчеев сказал ему на прощание:
– Ну, смотри, Шервуд, не ударь лицом в грязь.
Впоследствии выяснилось, что оплошать суждено было самому временщику.
По дороге в полк Шервуд начал завязывать знакомства с офицерами в разных местах и "по их разговорам ясно видел, что заговор должен быть повсеместный". Представившись полковому начальству и показав документ о годовом отпуске, выданный Аракчеевым, он быстро уладил свои дела и отправился в Курск к Вадковскому.
Состояние здоровья Елизаветы Алексеевны продолжало внушать опасения. В конце июля врачи заявили, что императрица должна провести зиму в южном климате. Выбор царя почему-то пал на Таганрог. Александр объявил, что поедет туда с супругой и возвратится в Петербург к Новому году. Князю Волконскому было поручено сопровождать императрицу, архитектору Шарлеману ехать в Таганрог для приготовления помещений.
Незадолго до отъезда Александр поручил князю А. Н. Голицыну привести в порядок бумаги в его кабинете. Голицын при этом заметил, что неудобно и опасно оставлять неопубликованными акты, касающиеся престолонаследия. Царь после минутного молчания указал рукой на небо:
– Положимся в этом на Бога: Он устроит все это лучше нас, слабых смертных.
Причину, по которой Александр считал нужным держать этот важный документ в тайне от всей России и от самого наследника, он унес с собой в могилу. Некоторые историки полагают, что вместе с манифестом о престолонаследии Александр намеревался объявить о своем отречении от престола. В пользу этого предположения говорит странная надпись, сделанная им на запечатанном пакете с текстом манифеста: "Хранить до моего востребования". На тот же мотив указывает и его беседа с принцем Орлеанским, который весной 1825 года посетил Петербург. В разговоре с ним царь поведал о своем решении оставить престол и уйти в частную жизнь. Конечно, все это было повторением юношеских мечтаний, но Гете недаром предупреждал, что следует опасаться грез молодости, потому что они непременно сбудутся в старости.
28 августа Карамзин в последний раз беседовал с государем. При расставании он сказал:
– Государь! Ваши годы сочтены. Вам нечего более откладывать, а вам остается еще столько сделать, чтобы конец вашего царствования был достоин его прекрасного начала.
Александр кивком головы и улыбкой выразил одобрение этим словам и сказал, что непременно даст России конституцию. "Мы расстались не без чувства, – пишет Николай Михайлович, – привязанность моя к нему сердечная и вечная".
1 сентября царь навсегда оставил Петербург. Елизавета Алексеевна должна была отправиться вслед за ним. Александр выехал из Каменноостровского дворца ночью, без провожатых. На рассвете его коляска остановилась у ворот Невской лавры. Митрополит Серафим и братия, предупрежденные о приезде государя, ожидали его. Александр, в шинели и фуражке, без шпаги, поспешно вышел из коляски, принял благословение от митрополита, приказал запереть ворота и направился к соборной церкви. Войдя в храм, он остановился перед ракой святого Александра Невского и дал знак начать богослужение. Во время службы он плакал, а когда подошла очередь читать Евангелие, он опустился на колени и попросил, чтобы книгу положили ему на голову. После молебствия царь посетил схимника старца Алексия и был поражен аскетическим убранством его кельи и тем, что старец спал в гробу.
– Жалею, что я давно с тобой не познакомился, – сказал он старцу.
Итак, последнее, что видел Александр, оставляя Петербург, был гроб.
У заставы царь еще раз вышел из коляски и в задумчивости несколько минут смотрел на спящий город. Может быть, он думал, что в последний раз уезжает из него императором, а может, его томило предчувствие смерти – кто знает?
Во время этого путешествия единственный раз на всем пути царя не было ни смотров, ни маневров, ни парадов.
13 сентября он прибыл в Таганрог. Виллие в этот день записал в дневнике: "Здесь кончается первая часть путешествия" и сделал надпись: "Finis" ("Конец").
Дом, избранный для жительства их величеств, был каменный, одноэтажный, с подвалом и помещением для прислуги. На половине императрицы, состоявшей из восьми комнат, две были выделены для двух фрейлин; одну отвели под походную церковь. Большая сквозная зала посередине дома служила столовой и приемной. Александр занял две комнаты: одну под кабинет и спальню, другую, небольшую, с окном во двор, – для уборной. Меблировка комнат была самая простая. При доме находился небольшой сад с плодовыми деревьями.
Первой заботой государя было устройство помещений для жены. Он лично все осмотрел, сам расставил мебель, вбил гвозди для картин, разбил дорожки в саду. После приезда 23 сентября Елизаветы Алексеевны он сам разместил супругу и ее фрейлин в доме. Таганрогский двор, по скромности и простоте, представлял скорее зажиточную усадьбу провинциального помещика.
Александр окружил жену самой нежной заботой, предупреждал малейшие ее желания и стремился доставить ей побольше развлечений. Под влиянием этой любви Елизавета Алексеевна начала оживать. Свита, радуясь этому необычному медовому месяцу, называла императорскую чету "молодыми супругами".
Царь ежедневно ходил по городу пешком, был всем доступен, не соблюдал никакого этикета. Он казался спокойным, но ему не дано было испытать душевный мир в последние дни. Его по-прежнему мучили подозрения. Однажды, взяв за утренним чаем сухарь, он обнаружил в нем камешек, нахмурился и велел тотчас убедиться, что это не отрава. Виллие нашел, что камешек совершенно безобиден, а хлебопек клялся, что он попал в тесто по неосторожности, а не по злому умыслу. Тем не менее Александр еще долго пребывал в крайнем волнении.
22 сентября Александр получил известие об убийстве в Грузино дворовыми людьми Аракчеева его любовницы Настасьи Минкиной*.
Затем пришло письмо самого Аракчеева, свидетельствовавшее о крайнем душевном расстройстве.
Аракчеев – Александру:
"Батюшка ваше величество!
Случившееся со мною несчастие, потерянием верного друга, жившего у меня в доме 25 лет, здоровье и рассудок мой так расстроило и ослабило, что я одной смерти себе желаю и ищу, а потому и делами никакими не имею сил и соображения заниматься. Прощай, батюшка, вспомни бывшего тебе слугу; друга моего зарезали ночью дворовые люди, и я не знаю еще, куда осиротевшую свою голову преклоню, но отсюда уеду".
Чувство Аракчеева к Минкиной нельзя назвать любовью – он знал одну собачью привязанность. "И, однако, – пишет современник, – этот человек, для которого чувство не имело никакой цены, предался самым диким выходкам, когда умертвили женщину, которая некогда была его любовницей и затем не переставала удерживать за собой его привязанность. Он вполне отказался от служебных обязанностей, удалился в Грузино, отпустил себе бороду, носил на шее платок, омоченный ее кровью, стал дик и злобен и подвергал ужаснейшим истязаниям множество людей, которые на деле или только помыслами участвовали в убийстве или могли хотя косвенно знать о нем". Итак, при первом ударе судьбы "преданный без лести" бросил дела и предоставил "батюшку", который столько сделал для него, самому себе.
Империя осталась фактически без верховного управления. Александр не на шутку встревожился. По свидетельству Дибича, царь полагал, что Минкину убили для того, чтобы устранить Аракчеева от дел. В этом случае он следовал той же собственной логике, которая ранее заставляла его видеть в семеновской истории отголосок мирового революционного заговора.
Царь постарался, как мог, утешить "верного друга": "Сердце мое чувствует все то, что твое должно ощущать. Но, друг мой, отчаяние есть грех перед Богом. Предайся смело Его святой воле. Вот единая отрада, одно успокоение, которое в подобном несчастии я могу тебе указать. Других не существует, по моему убеждению". Кроме того, он отправил письмо Фотию, прося подкрепить силы Аракчеева, "ибо служение графа Аракчеева драгоценно для отечества".
Временщик в ответ лобызал заочно колени и руки государя, но настоятельное приглашение приехать в Таганрог не принял, ссылаясь на сильное сердцебиение и ежедневную лихорадку.
Самовольное удаление Аракчеева от дел имело важные последствия. Незадолго перед тем Шервуд просил его, чтобы 20 сентября в условленный час на почтовую станцию в городе Карачеве Орловской губернии приехал фельдъегерь, которому он мог бы вручить сведения, собранные им о тайных обществах. Свидание с Вадковским в Курске было успешным. "Он мне рассказал о существующих обществах, Северном, Среднем и Южном, – пишет Шервуд, называя многих членов; на это я улыбнулся и сказал ему, что давно принадлежу к обществу, а как я поступил в оное, скажу ему после". Шервуд убедил Вадковского, что готовит восстание в миргородских военных поселениях, а Вадковский в свою очередь заверил его, что солдат, "этих дураков, не долго готовить, кажется, многие в том подвинулись вперед".
Подготовив отчет об этой беседе, Шервуд приехал в Карачев, прождал там фельдъегеря десять дней и в недоумении уехал. По его мнению, потеря этих десяти дней имела решающее значение: "Никогда бы возмущение гвардии 14 декабря на Исакиевской площади не случилось; затеявшие бунт были бы заблаговременно арестованы. Не знаю, чему приписать, что такой государственный человек, как граф Аракчеев, которому столько оказано благодеяния императором Александром Первым и которому он был так предан, пренебрег опасностью, в которой находилась жизнь государя и спокойствие государства, для пьяной, толстой, рябой, необразованной, дурного поведения и злой женщины. Есть над чем задуматься"*.
Между тем Александр в начале октября посетил Землю Войска Донского, а затем отправился в Крым. Накануне отъезда, во втором часу дня, царь занимался в своем кабинете. Вдруг на небо набежала такая темная туча, что комната погрузилась в сумерки. Александр попросил огня, и камердинер Анисимов поставил на его стол две свечи. Когда туча рассеялась и вновь стало светло, Анисимов вошел в кабинет и встал у стола, ожидая приказания потушить свечи.
– Чего ты хочешь? – спросил Александр.
– Нехорошо, государь, что перед вами днем горят свечи, – ответил камердинер.
– А что ж за беда, разве, по-твоему, это значит что-нибудь недоброе?
– По нашему преданию, перед живым человеком среди бела дня свечей не ставят.
– Это пустой предрассудок, без всякого основания, – отозвался царь, видимо, взволнованный, и добавил: – Ну, пожалуй, возьми прочь свечи для твоего успокоения.
Этот случай, как мы увидим, врезался в память Александра.
В Крыму он повеселел и рассказывал всем, что скоро исполнит свою мечту вернуться к частной жизни: "Я скоро переселюсь в Крым и буду жить частным человеком. Я отслужил двадцать пять лет, и солдату в этот срок дают отставку". Иногда подшучивал над князем Волконским: "И ты выйдешь в отставку и будешь у меня библиотекарем".
28 октября Александр почувствовал первые признаки недомогания. В этот день он отказался от обеда, чего ранее с ним никогда не случалось. На следующий день он приказал Тарасову приготовить из риса то питье, которое он принимал в 1824 году во время горячки. Однако вечером он приказал закладывать лошадей и двинулся дальше.
Смерть следовала за ним по пятам. В дороге царскую коляску нагнал фельдъегерь Масков с бумагами от Дибича. Прочитав депешу, Александр приказал офицеру ехать за ним на тройке. Дорога была крайне ухабистая. Через какое-то время колесо открытого экипажа, в котором сидел Масков, с такой силой подскочило на кочке, что фельдъегерь вылетел из экипажа и буквально воткнулся головой в землю. Он умер на месте. Когда Александр, уехавший вперед, вечером слушал донесение Тарасова об этом случае, его знобило; царь сидел у очага и ежился, на лице его было тревожное и болезненное выражение.
На ночлеге 4 ноября в Мариуполе Александр позвал Виллие, который нашел его "в полном развитии лихорадочного сильного пароксизма". Лейб-медик приготовил для больного стакан пунша с ромом и пытался уложить его в постель, но Александр желал непременно на следующий день быть в Таганроге, так как Елизавета Алексеевна ожидала его возвращения к этому сроку.
В шесть часов вечера следующего дня Александр был в Таганроге, отмахав без малого 90 верст. На вопрос Волконского о здоровье ответил, что у него маленькая лихорадка. Однако, ложась спать, сказал камердинеру Анисимову:
– Я очень нездоров.
– Надо лечиться, государь.
– Нет, брат, – вздохнул Александр, – свечи, которые приказал я убрать со стола, у меня из головы не выходят: это значит мне умереть, и они-то и будут стоять передо мною!
Наутро Волконский нашел, что взгляд у государя мутен и глухота приметнее обычного. За обедом у Елизаветы Алексеевны Александр принужден был покинуть стол из-за сильной испарины. Его уложили в постель.
8 ноября Виллие в дневнике наконец определил болезнь: "Это лихорадка, очевидно, febris gastrica biliosa"* – и добавил, что император всецело полагается на Бога: "Мне нужны только уединение и покой. Я уповаю на волю Всевышнего и на свой организм".
Александра тревожила не столько болезнь, сколько готовящийся заговор. Он все-таки получил донесение от Шервуда и 10 ноября распорядился арестовать заговорщиков, сделав оговорку, что к сведениям Шервуда следует относиться "с должной осторожностью". Этот приказ, отправленный Дибичу, был последним государственным распоряжением Александра.
До 14 ноября царь отказывался от всяких лекарств. Но в этот день, встав поутру, он принялся за бритье. Вдруг рука его задрожала, он порезал подбородок и спустя мгновение рухнул на пол в обмороке; камердинеры не успели поддержать его. Виллие совсем потерялся, а врач Стофреген принялся растирать государю виски одеколоном. Только с приходом Елизаветы Алексеевны Александра перенесли в его кабинет и уложили на диване, встать с которого ему было не суждено.
Врачи пали духом и уже не надеялись на выздоровление. Тарасов, войдя в кабинет императора, нашел положение больного безнадежным: "При самом моем входе взглянув на государя, я был поражен его положением, и какое-то бессознательное предчувствие произвело решительный приговор в душе моей что император не выздоровеет и мы должны его лишиться... Рейнгольд (другой лейб-медик. – С. Ц.) разделил со мною такое предсказание".
Около полуночи к Александру пришла Елизавета Алексеевна. Хотя она старалась сохранять спокойствие, было видно, что она смущена. Сев на диван к мужу, она стала уговаривать его аккуратно принимать лекарства. Затем сказала по-французски:
– Я намерена предложить тебе свое лекарство, которое всем приносит пользу.
– Хорошо, говори.
– Я более всех знаю, что ты великий христианин и строгий наблюдатель всех правил нашей Православной Церкви. Советую тебе прибегнуть к врачеванию духовному, оно всем приносит пользу и дает благоприятный оборот в тяжких наших недугах.
– Кто тебе сказал, что я в таком положении, что уже необходимо для меня это лекарство?
– Твой лейб-медик Виллие.
Александр распорядился тотчас же позвать Виллие. Когда тот явился, государь сказал повелительным тоном:
– Ты думаешь, что болезнь моя уже так далеко зашла?
Виллие смущенно подтвердил, что не надеется на выздоровление. Тогда Александр совершенно спокойно обратился к жене:
– Благодарю тебя, друг мой, прикажи – я готов.
Позвали соборного протоиерея Алексея Федотова. Но Александром овладела сонливость, и он не дождался его прихода.
Проснувшись в шестом часу утра, царь сразу спросил Тарасова, здесь ли священник. Когда Федотов вошел, Александр приподнялся на локте, попросил благословения, поцеловал руку священнику и твердым голосом сказал:
– Я хочу исповедаться и причаститься святых тайн. Прошу исповедать меня не как императора, но как простого мирянина.
Исповедь продолжалась час с четвертью. По ее окончании Александр казался ободренным и спокойно разговаривал с Елизаветой Алексеевной, Дибичем и Волконским, пришедшими поздравить его с причастием. Врачам он сказал:
– Теперь, господа, ваше дело. Употребите ваши средства, какие вы находите для меня нужными.
15-го и 16-го Александр провел в полузабытьи; у него был сильный жар. Утром 17-го наступило улучшение. День был прекрасный, солнце светило совсем по-летнему, и его лучи падали прямо на диван, на котором лежал больной. Александр велел поднять шторы и любовался игрой солнечного света.
– Какой чудесный день! – умиротворенно промолвил он по-французски.
Однако это была всего лишь последняя вспышка жизни. Уже в тот же день наступило ухудшение. Ночь государь провел в забытьи и беспамятстве, открывал глаза только на голос Елизаветы Алексеевны и изредка смотрел на распятие, висевшее на стене, крестился и читал молитвы. 18-го Виллие записал в дневнике: "Нет надежды спасти моего повелителя".
Ночь на 19 ноября Елизавета Алексеевна, свита и врачи провели у постели больного. Последнее утро в жизни Александра было пасмурным. Перед домом стояла толпа народу, молившаяся за исцеление государя. Царь угасал на глазах и поминутно искал мутнеющим взглядом жену и распятие. "Последние взоры его столь были умилительны, – пишет Тарасов, – и выражали столь спокойное и небесное упование, что все мы, присутствовавшие, при безутешном рыдании, проникнуты были невыразимым благоговением".
В чертах Александра уже не оставалось ничего земного. Дыхание его становилось все реже, и в 10 часов 47 минут утра он скончался. Ему было от роду 47 лет 11 месяцев и 7 дней; правление его продолжалось 24 года 8 месяцев и 7 дней.
Елизавета Алексеевна помолилась, стоя на коленях, перекрестила тело усопшего, поцеловала его, еще раз перекрестила и закрыла ему глаза; затем, сложив платок, подвязала супругу подбородок. В тот же день она написала матери: "Ангел наш на небе, а я еще прозябаю на земле; но я надеюсь вскоре соединиться с ним..."
В десять часов вечера в Петербург поскакал курьер с сообщением: "Император Александр I 19 ноября 1825 года в десять часов сорок семь минут в городе Таганроге скончался от горячки с воспалением мозга"*.
* В "Истории болезни и последних минутах императора Александра Первого" приводятся следующие результаты вскрытия: "В задней части головы, как того и ожидали доктора, оказалось около полстакана воды; мозг с левой стороны почернел в том месте, которое государь указывал, жалуясь на мучительную головную боль, а артерия около левого виска перепуталась с другой жилою до того, что казалась связанной с нею вместе. Сердце в отношении других органов было мало, и его нашли окруженным небольшим количеством воды, которая могла образоваться еще до болезни; предположение это оправдывается тем, что император еще до болезни жаловался на биение сердца. Печень не представляла никаких особенностей, она была только слишком открыта и испускала много желчи... Хрящи между крестцовыми позвонками окостенели так, что между этими позвонками не видно было хряща, и казалось, позвоночный столб в этом месте состоит из одних костей. Остальные внутренние органы найдены были в нормальном состоянии".
Тело Александра было забальзамировано, однако из-за недостаточной квалифицированности врачей лицо его почернело и сильно изменилось. 11 декабря гроб с покойным государем, облаченным в генеральский мундир со звездой и орденами, был выставлен для прощания в таганрогском Александровском монастыре, где простоял до 29 декабря. Затем его отправили в Петербург. В последний путь Александра вез все тот же верный его кучер Илья Байков; несмотря на жестокий холод и преклонные года, он ночью ложился под карету с останками своего господина. Тарасов также безотлучно находился при гробе и несколько раз открывал его, чтобы удостовериться в сохранности тела.
13 марта 1826 года Александр был погребен в Петропавловском соборе.
После смерти Александра в народе некоторое время ходили слухи, что в Петербург был привезен гроб с куклой, а сам царь скрылся в Америку. Позже его имя связывали со знаменитым старцем Федором Кузьмичем, который якобы и был Александром, скрывшимся от мира. Здесь нет возможности говорить об этой легенде подробно. Существует достаточно исследований, убедительно опровергающих ее. Загадка Александра заключается не в его смерти, а в его жизни. Любимый внук Екатерины – и страстный ее порицатель; ученик Лагарпа и друг Аракчеева; сторонник конституции – и учредитель военных поселений; защитник польской независимости – и глава Священного союза; ревнивый централизатор – и учредитель финской автономии; поклонник женщин и "обольститель" мужчин – и мрачный меланхолик, нередко поступавший "крутенько"; самолюбивый самодержец, тоскующий по частной жизни; искренний мистик, презиравший светскую суету, и в то же время щеголь, не могший равнодушно вынести сплетню, что у него фальшивые икры; большой дипломат, принесший так мало пользы России, – вот те неразрешимые противоречия, которые поставят в тупик еще не одного историка. Александр, эта моральная жертва русской истории XVIII века – века дворцовых переворотов, еще долго-долго будет оставаться для нас русским сфинксом, коронованным Гамлетом, двуликим Янусом российской власти.