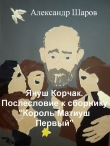Текст книги "Александр Первый"
Автор книги: Сергей Цветков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
На другой день, при приближении к Лиону, комиссары заметили, что император занят лишь мыслями о личной безопасности. Наполеон ни за что не захотел останавливаться в Лионе. Ехали всю ночь, меняя лошадей. Утром был сделан короткий привал, после чего вновь провели в экипажах весь день. Наполеон был возбужден, постоянно приглашал в свою карету союзных комиссаров, часами болтал с ними, шутил. Вальдбургу, смеясь, заметил:
– В конце концов, я вышел из всей этой истории недурно. Я начал партию, имея в кармане всего лишь шесть франков, а теперь я ухожу со сцены с порядочным кушем.
По мере приближения к Авиньону Наполеона встречали все более враждебно. Император почти не выходил из экипажа. В Авиньоне в то время, когда меняли лошадей, у почтовой станции собралась толпа. Слышались крики: "Долой тирана! Долой сволочь! Да здравствует король! Да здравствуют союзники, наши освободители!" Вдруг толпа хлынула к карете Наполеона; впереди всех были какие-то бешеные, остервенелые бабы. Они лезли на подножки, грозили Наполеону кулаками, выкрикивали площадные ругательства; другие бросали в карету камни. Особенно досталось егерю на козлах: его хотели заставить кричать "Да здравствует король!" и грозили ему саблей. Наконец свежие лошади рванулись вперед, и императорская карета помчалась по дороге, сопровождаемая свистом и бранью.
Но и в придорожных деревнях было не лучше. В небольшой деревушке Оргоне толпа пьяных мужиков повесила чучело Наполеона, вывалянное в крови и грязи, на виселице возле почтовой станции. Пока меняли лошадей, крестьяне орали: "Долой вора! Долой убийцу!" – бранились и плевали на карету. Бледный Наполеон пытался укрыться за Бертрана, вжавшись в угол кареты. (Он, человек, безусловно, храбрый, не раз хладнокровно смотревший в глаза смерти на поле боя, совершенно терялся при виде враждебно настроенной толпы свойство всех людей с сильно развитым индивидуальным началом.) Десятки рук тянулись к императору, чтобы вытащить и растерзать его. Шувалов первый бросился разгонять толпу, другие комиссары присоединились к нему. Общими усилиями удалось водворить порядок.
Во время дальнейшего пути Наполеон останавливал каждого встречного, расспрашивая о настроении жителей. Из этих бесед он узнал, что народ сильно возбужден указами Временного правительства и что многие фанатики поклялись не выпустить его живым из Франции. Наполеон был парализован страхом и больше не надеялся на комиссаров. Надев английский мундир и круглую шляпу с большой белой кокардой, он сел на выпряженную лошадь и поскакал дальше в сопровождении форейтора и камердинера, чтобы не привлекать к себе внимания. Он решил выдавать себя за полковника Кэмпбелла, который уехал вперед двумя днями ранее – приготовить все необходимое для морского путешествия на Эльбу.
В захудалом деревенском трактире в селении Ла-Калад Наполеон заказал для себя обед и разговорился с хозяином, который оказался мирно настроенным обывателем; зато его жена, маленькая, болтливая, любопытная женщина, видимо, заправлявшая всем в доме, не могла даже слышать имени Наполеона (женщины, подобные ей, за отсутствием собственного мнения служат верным показателем так называемого общественного мнения). Она выражала уверенность, что "народ покончит с ним, прежде чем он успеет добраться до моря", или, в крайнем случае, "найдет средства утопить его в море".
– Не правда ли? – заключала она всякую фразу, пытливо вглядываясь в глаза проезжему полковнику.
– Правда, правда, – поспешно отвечал Наполеон.
В ожидании обеда, уставший и голодный, он на пять минут задремал на плече у камердинера. Когда он проснулся, ужас вновь охватил его. Император проклинал свое прошлое и давал обет никогда не увлекаться вновь честолюбивыми мечтами.
– Я навсегда откажусь от политической жизни, – чуть не со слезами говорил он камердинеру, – я не буду заботиться ни о чем. Я буду счастлив на Эльбе, счастливее, чем когда-либо прежде. Я буду заниматься наукой. Пусть предлагают мне корону Европы – я отвергну ее. Ты видел, что такое этот народ? Да, я имел право презирать людей. И, однако же, это Франция! Какая неблагодарность! Мне опротивело мое честолюбие, я не хочу более царствовать.
В это время за дверью послышался шум. Наполеон испуганно поднял голову, но это были всего лишь комиссары, догнавшие его. Они уселись отдельно от императора, сохраняя его инкогнито. Подали обед, но Наполеон не мог есть: ему казалось, что пища отравлена. Он брал кусочки мяса в рот и незаметно выплевывал на пол. Вообще, его настроение всецело зависело от трактирщицы: когда она появлялась – он бледнел, когда выходила – с трудом приходил в себя. После обеда, поднявшись в свою комнату, он стал ломать голову, как незаметно выбраться отсюда. При малейшем шуме за окном он вздрагивал, а если его оставляли одного хоть на минуту – плакал, как ребенок. Пришлось вызвать из ближайшего города полицию и национальную гвардию – только тогда Наполеон согласился отправиться дальше. Но, не полагаясь вполне на охрану, император пересел в карету Коллера, переоделся в австрийский мундир и приказал кучеру курить трубку, чтобы окутать экипаж клубами дыма.
В Ле-Люке Наполеона ожидала Полина, его сестра, приехавшая с двумя эскадронами австрийских гусар. Дальше император ехал в сопровождении этого конвоя, и его тревога рассеялась.
В Фержюсе он наконец увидел море. Наполеон остановился в маленькой гостинице – в той самой, где четырнадцать лет назад он ночевал при возвращении из Египта. Воспоминания о прошлом вновь пробудили его высокомерие. "Как только миновала опасность, как только достиг он гавани, он опять принял на себя роль повелителя", – доносил Меттерниху барон Коллер. Узнав, что французское правительство предназначило для его перевозки на Эльбу обычный бриг, он пришел в негодование:
– Что это значит? Я создал французский флот, а мне предлагают какой-то жалкий бриг! Какая низость! Они должны были дать мне линейный корабль!
Он пожелал переправиться на Эльбу не иначе как на английском фрегате "Неукротимый". Союзные комиссары не возражали.
28 апреля он взошел на борт "Неукротимого". Его встретили с почестями. Шувалов и Вальдбург приехали проститься. Наполеон был одинаково любезен с обоими, благодарил за услуги, просил передать Александру искреннюю признательность, но ни словом не упомянул о прусском короле. Коллер и Кэмпбелл остались на борту.
3 мая вдали показалась Эльба. При приближении "Неукротимого" над бастионами Порто-Ферайо взвился флаг Империи. Жители острова встретили нового повелителя восторженно, но пышность встречи напоминала скорее деревенскую свадьбу: городские власти явились в старомодных одеждах, три скрипки и два контрабаса наигрывали веселый марш. Для императора был приготовлен старый балдахин из полинявшего бархата. Однако Наполеон принимал все знаки почета с величавым достоинством. После всего пережитого ему доставили бы удовлетворение и почести аборигенов Австралии.
VI
Во Франции ничего не изменилось,
только одним французом стало больше.
Из приветственной речи Талейрана
Людовику XVIII в 1814 году
Между тем в побежденный Париж продолжали съезжаться монархи. 3 апреля состоялся торжественный въезд императора Франца. Парижане остались им недовольны: считали, что отцу Марии Луизы следовало явиться с меньшим шумом. Двумя днями ранее в столицу приехал граф д'Артуа, брат Людовика XVIII. Теперь со дня на день ожидали приезда самого короля Франции.
Людовик XVIII приходился младшим братом Людовику XVI. До революции он носил титул графа Прованского. После казни Людовика XVI граф Прованский, уехавший к тому времени из Франции, принял звание регента, а после смерти малолетнего дофина – титул короля Франции. Победная поступь революционных войск заставляла его переезжать из города в город, из страны в страну все дальше на восток, пока наконец он не очутился по приглашению Павла I в Митаве. Здесь ему отвели громадный дворец, построенный Бироном, и назначили двести тысяч рублей на содержание двора (вспомним, что сам Павел, будучи наследником, получал от матери тридцать тысяч). Русский царь был единственным государем Европы, который оплачивал расходы изгнанника, прочие коллеги Людовика по "прелестному ремеслу монарха" не дали ему ни гроша. Несколько лет, проведенных в митавской глуши, были, быть может, не самыми веселыми в его жизни, зато одними из самых спокойных – а престарелый Людовик научился ценить покой. Неожиданное сближение Павла с Наполеоном сделало пребывание Людовика в России неудобным для царя и оскорбительным для короля. Он покинул Митаву и под именем графа де Лилля перебрался в Варшаву. Здесь он получил предложение первого консула официально отречься от престола за кусок земли в Италии и шесть миллионов франков пенсии. Людовик переборол искушение. Он ответил протестами на расстрел герцога Энгиенского и коронацию Наполеона, но, как заметил последний: "Претендент должен протестовать всегда, это единственное остающееся у него средство царствовать".
Разрыв Александра с Наполеоном и приближение французов к Польше вновь привели Людовика в Митаву. Александр был не столь щедр по отношению к Бурбонам, как его отец (уроки Лагарпа о злоупотреблениях старого режима во Франции сыграли в этом не последнюю роль). Очевидцы свидетельствуют о весьма провинциальной обстановке королевских покоев и порядком изношенных фраках придворных. Время и события сделали из Людовика истинно трагическую фигуру несчастного изгнанника. Усилившиеся припадки давней мучительной подагры надолго лишали его ног, кочевая жизнь и унижения лишили бодрости духа, развили в нем подозрительность и болезненное пристрастие к подчеркиванию своего королевского достоинства. По правде сказать, во всей его фигуре только особой формы нос Бурбонов еще говорил о королевской породе этого тучного, обрюзгшего старика с кирпичной, бычьей шеей, неподвижно застывшего в вольтеровском кресле с Горацием в руках, в почти маскарадном костюме – мешковатом старомодном фраке, шляпе с белыми перьями, красных гетрах и бархатных сапогах, в которые он прятал больные ноги. Этот безбожник, предпочитавший античных классиков Библии и в интимных разговорах глумившийся, по старой памяти, над христианством и религией вообще, верил, однако, в свое легитимное божественное право на престол – это была, так сказать, его личная религия, которая одна поддерживала его угасающие силы.
В 1806 году он напутствовал русских офицеров:
– Господа! Побейте хорошенько французов, но после того имейте к ним снисхождение, ведь они мои дети.
Тильзитский мир заставил его искать убежище в Англии, где ему симпатизировали тори и принц-регент Георг. Английское правительство приобрело для него поместье Гартвелл и выделило приличное содержание.
В 1814 году Людовику было шестьдесят лет; физические и душевные силы его были на исходе. Хотя он и подписывал официальные бумаги восемнадцатым годом своего правления, ему уже плохо верилось в то, что Франция когда-либо признает его своим государем. Получив известие о том, что французская корона теперь действительно принадлежит ему, Людовик лишился чувств и несколько дней не вставал с постели.
Георг принял его в Лондоне со всеми почестями, подобающими королевской особе; солдаты почетного караула и сам принц-регент надели белую кокарду Бурбонов. Людовик был в мундире маршала Франции, который не очень вязался с его бархатными сапогами. Георг сам обвязал его колено лентой ордена Подвязки. Прощаясь с Георгом, Людовик заявил, что "королевский дом наш обязан своим восстановлением на престоле предков после Всевышнего Промысла более всего мудрым советам вашего королевского высочества и непоколебимому постоянству английской нации". Он чтил в Англии страну, не вступавшую ни в какие сделки с Наполеоном. К Александру Людовик относился неприязненно. Митавское гостеприимство не оставило приятных воспоминаний, а колебания царя в вопросе передачи престола Бурбонам окончательно истребили в сердце Людовика не только какую-либо симпатию, но даже чувство элементарной благодарности.
12 апреля Людовик отплыл из Дувра на восьмилинейном корабле, в сопровождении целой флотилии английских и французских судов. 17-го он вступил в Компьен под гром орудий и овации жителей. Маршал Бертье приветствовал его, как отца и благодетеля нации, уверяя, что Франция, "изнывавшая двадцать пять лет", с восторгом встретит своего законного государя. Ней и Мармон не отставали в лести. Людовик сразу понял, с кем имеет дело, и обошелся с ними как добродушный барин с нашалившей дворней. Он выразил солидарность маршалу Лефевру по поводу посетившей его подагры, заверил Мармона, все еще носившего руку на перевязи, что он вскоре сможет вновь служить Франции и королю, после чего назидательно напомнил всем о своем божественном праве на престол.
В Компьене Людовика от имени русского императора приветствовал Поццо-ди-Борго, корсиканец на русской службе, присланный Александром с письмом, в котором царь настойчиво советовал Бурбонам не забывать, что во Франции произошла революция, не преследовать либеральных идей, не раздражать наполеоновской армии и даровать Франции свободные государственные учреждения. Письмо осталось без ответа. Тогда Александр прибыл в Компьен сам и изложил королю на словах все то, о чем писал в письме. Выслушав царя, Людовик ничего не опроверг и ничего не подтвердил. Вообще, в продолжение всего разговора он был занят двумя вещами: своим божественным правом и соблюдением своего королевского достоинства. Принимая царя, Людовик, сидевший, как всегда, в кресле, указал ему на стул, а в ответной речи, невзирая на то что его вольтерьянство было хорошо известно царю, подчеркнул, что все перемены произошли по воле Промысла, что французский король – первый монарх Европы, а Бурбоны – старейшая династия среди царствующих домов.
Прием у французского короля произвел на Александра дурное впечатление.
– Весьма естественно, что король, больной и дряхлый, сидел в кресле, сказал он Волконскому, – но я в таком случае приказал бы подать для гостя другое.
"Император был очень оскорблен этим поведением, – свидетельствует Нессельроде, – и оно повлияло на последующие отношения обоих монархов".
Не добившись от короля прямого ответа на свои требования, Александр в конце концов объявил ему, что он сможет въехать в Париж не раньше, чем примет конституцию или обнародует декларацию о даруемых им народу правах. Людовик выбрал декларацию – дарование вольностей больше вязалось с его божественным правом.
Он въехал в Париж в английской карете, запряженной восьмеркой лошадей, в английском кафтане и английской шляпе с бурбонской кокардой, приколотой собственноручно принцем-регентом; на его ногах были неизменные бархатные сапоги. Рядом с экипажем ехали члены королевской фамилии, сзади – маршалы, национальная гвардия и регулярная гвардейская пехота. Роялист Шатобриан писал, что гвардейцы таяли от восторга, республиканец Беранже – что они стыдились белых кокард. Кажется, особого энтузиазма действительно не было. Даже Меттерних признавался, что въезд французского короля произвел на него тяжелое впечатление.
За торжественным обедом король нанес Александру новое оскорбление. Несмотря на подагру, Людовик вошел в обеденную залу первым и сел на почетном месте, а когда лакей поднес первое блюдо царю, как гостю, грозно вскричал через стол:
– Ко мне, пожалуйста!
Остальная часть обеда прошла не лучше. Выходя из Тюильри, Александр возмущенно произнес:
– Мы, северные варвары, более вежливы у себя дома. Можно было подумать, что это он возвратил мне престол.
Не желая остаться в долгу, царь усилил внимание к семейству Наполеона: неоднократно посещал в Мальмезоне Жозефину и сблизился с королевой Гортензией, падчерицей свергнутого императора. О Бурбонах он, не стесняясь, говорил:
– Эти люди ничего не забыли и ничему не научились. Они никогда не сумеют поддержать себя.
Людовик в свою очередь называл Александра не иначе как "маленький король Парижа" и не включил его в число получивших большую ленту ордена Святого Духа.
Французский король имел все основания завидовать популярности Александра. Парижане были совершенно покорены и очарованы своим победителем, который хотел, чтобы в нем видели гостя. Префект парижской полиции Пакье писал: "Замечали, что все исходит от Александра. Его союзник, король Прусский, оставался незамеченным; его мало видели, он избегал показываться публично и сохранял всюду свойственную ему застенчивость, которая не могла придать ему особенного блеска. Александр, напротив того, ездил верхом по городу по всем направлениям и внимательно осматривал все общественные учреждения. Совершая эти поездки, он искал случая делать то, что могло возбудить к нему сочувствие всех классов общества". Эти прогулки, кстати сказать, совершались без конвоя и без предварительного уведомления полиции, что доставляло немало хлопот Пакье.
Популярности царя в высшем парижском свете способствовала его дружба с г-жой де Сталь, чей салон служил ему аудиторией для высказывания либеральных мыслей.
Знаменитая писательница приехала в Париж из Лондона. Ее приезд принял значение политического события. В Париже не было ни одного хоть сколько-нибудь значительного лица, которое не посетило бы ее салон. Здесь обсуждались самые последние политические новости, ибо хозяйка салона жила под девизом: "Говорить о политике – моя жизнь". В случае прихода Александра его фигура, конечно, становилась центром всеобщего внимания. Царь с красноречием революционного трибуна громил реакционеров всех мастей и рангов. Он с негодованием отзывался о короле Фердинанде VII, который сразу после своего возвращения в Испанию уничтожил конституцию; клеймил презрением раболепство французской прессы, которая 18 марта клялась в преданности Наполеону, 19-го хранила глубокое молчание, а 20-го разразилась проклятиями в адрес "тирана" (при этом Александр заметил, что ничего подобного нельзя встретить в России); жаловался, что его политические намерения не поняты и не поддержаны французами. О Бурбонах он не хотел и говорить и, похоже, был недоволен собой за излишнюю уступчивость Талейрану.
– Бурбоны, – говорил Александр, – неисправившиеся и неисправимые, полны предрассудков старого режима. Либеральные взгляды у одного герцога Орлеанского, на прочих нечего надеяться.
Он обещал г-же де Сталь, что на предстоящем конгрессе потребует уничтожения рабства в Америке и торговли невольниками.
– Я знаю, – поспешил добавить он, обращаясь к Лафайету, – за главой страны, в которой существует крепостничество, не признают права явиться посредником в деле освобождения невольников. Но каждый день я получаю хорошие вести о внутреннем состоянии моей империи, и с Божьей помощью крепостное право будет уничтожено еще в мое царствование.
"Что за человек этот император России! – восхищалась г-жа де Сталь. Без него мы не имели бы ничего похожего на конституцию. Я от всего сердца желаю всего того, что может возвысить этого человека, представляющегося мне чудом, ниспосланным Провидением для спасения свободы, со всех сторон окруженной опасностями".
В салоне писательницы получил дальнейшее развитие польский вопрос. Здесь Александр мог встречаться и разговаривать с поляками о будущем их родины, не придавая этим встречам официального значения, которое могло бы встревожить Фридриха Вильгельма и Меттерниха. Послам командующего польским легионом Великой армии генерала Домбровского, генералу Сокольницкому и полковнику Шимановскому царь заявил о том, что предает забвению прошлое и прощает полякам участие в разорении России.
– Я желаю видеть одни ваши добродетели, – сказал он. – Вы храбрецы и честно исполнили вашу службу!
– Мы не имеем другого честолюбия, кроме любви к отечеству, – ответил Шимановский. – Это болезнь нашей земли.
– Она неизлечима и делает вам честь, – сказал Александр. – Я уже издавна благорасположен к вашей нации.
Он разрешил польским войскам вернуться в герцогство Варшавское под своими знаменами и заставил французское правительство выдать им полагающееся за прежние годы жалованье. Главнокомандующим польской армии был назначен великий князь Константин Павлович.
Царь виделся и с Костюшко, проживавшим с семьей под Парижем в небольшом домике, который казаки не тронули лишь потому, что на двери было написано его имя. Александр обещал Костюшко в скором времени восстановить Польшу под русским скипетром и даже предложил ему звание вице-короля. Костюшко поблагодарил и ответил, что вернется в Польщу только тогда, когда она будет восстановлена в прежних границах и полностью независима.
Свои планы относительно Польши Александр сформулировал в разговоре с Лагарпом: "Мое намерение состоит в том, чтобы вернуть полякам все, что только окажется возможным для меня, даровать им конституцию, относительно которой я оставляю за собой право развивать ее по мере того, как они станут возбуждать во мне доверие к себе".
Лагарп во время пребывания Александра в Париже стал как бы личным секретарем царя, занимаясь разбором обширной корреспонденции на высочайшее имя. Письма, адресованные русскому государю, приходили в Париж со всей Европы и делились на три категории: восхваления, просьбы и предложения. Александр получил 9 тысяч одних только стихотворных посланий! Среди них была торжественная ода, сочиненная Руже де Лиллем, в которой автор "Марсельезы" восклицал:
Героем века будь и гордостью творенья!
Наказаны тиран и те, кто зло несут!
Народу Франции дай радость избавленья,
Верни Бурбонам трон, а лилиям – красу!
Просьбы, в основном денежного характера, большей частью удовлетворялись. Одна француженка-бонапартистка, например, просила у царя денег, чтобы доехать до Тосканы и поселиться напротив Эльбы, где она могла бы видеть "место заточения" своего кумира. Требуемая сумма из средств императорского кабинета была ей передана. Предложения, напротив, в основном вежливо отклонялись. Так, на предложение изменить название Аустерлицкого моста в Париже Александр ответил: "Достаточно уже и того, что я перешел этот мост со своей армией!"
Вообще, без славословий в адрес "ангела мира" не обходилась ни одна официальная речь, ни один выпуск газет. Известный адвокат Беллар даже на одном из уголовных процессов умудрился начать свою речь с панегирика Александру. Парижанки выразили свое восхищение элегантным и любезным царем тем, что ввели в моду "александровские букеты", состоящие из цветов, первые буквы которых составляли имя русского государя; взрослые женщины носили их на груди, девочки – в волосах.
Восторженность парижан по отношению к Александру распространялась и на русскую армию. Появление гвардейских офицеров в театрах вызывало рукоплескания и крики: "Да здравствуют русские!" В первые дни после вступления армии в Париж хозяева кофеен отказывались брать деньги с русских – в благодарность за то, что они не мстят за сожженную Москву. Должным образом было оценено и то, что русские не хвастались своими победами над французами. Журналист одной из парижских газет писал: "Мы слышали, что молодые русские офицеры рассказывали в самый день торжественного вступления своего в Париж о подвигах своих от Москвы до Сены как о делах, в которых они были предводимы промыслом Божиим; себе они предоставляли только ту славу, что они были избраны орудием Его милосердия. Они описывали победы свои без восторга и в таких простых выражениях, что мы думали, будто они об этом условились из особенной учтивости. Но они нам показали серебряную медаль, которую генералы и солдаты носят в виде знака отличия. На одной стороне этой медали изображено Око Провидения, а на другой слова Священного Писания: "Не нам, не нам, а имени Твоему"".
Впрочем, некоторым образованным офицерам доставляло удовольствие морочить представителей самой культурной нации Европы. Так, Н. Н. Муравьев рассказывает, что однажды на прогулке он засмотрелся на лебедей в саду Тюильри. Подошедшие к нему хорошо одетые парижане спросили, есть ли в России лебеди...
– Нет, – ответил он, – как же у нас лебедям быть, когда воды целый год во льду и покрыты снегом.
– Как же у вас пашут и сеют? – ужаснулись французы.
– Пашут снег, сеют в снегу, и хлеб родится на снегу.
– О Боже, какая страна!
Иначе вели себя пруссаки. Они присвоили себе часть Пале-Рояля, где кутили с куртизанками. Пример подавал Блюхер, который целые дни проводил здесь за карточным столом. Разгоряченный игрой и вином, он снимал сюртук, засучивал рукава рубашки и сидел, покуривая маленькую трубочку. Прусские офицеры не пропускали в это "святилище" никого из посторонних. Наполеоновские офицеры приходили сюда специально, чтобы затеять дуэль, поэтому пруссаки постоянно имели при себе заряженные пистолеты.
Что касается австрийцев, то они вели себя довольно мирно, но из-за того, что они носили на киверах и шляпах зеленые ветви, которые французы принимали за изображение лавров, между ними и парижанами часто возникали ссоры и драки, вплоть до убийств.
Вообще же русским солдатам жилось в Париже несладко. Например, бивуаки конных полков российской гвардии расположились на Елисейских полях, под открытым небом. Остатки кормового сена служили конногвардейцам постелью, пуки соломы на копьях – крышей. "Во все время нашего пребывания в Париже часто делались наряды, так что солдату в Париже было более трудов, чем в походе, – свидетельствует Н. Н. Муравьев. – Победителей морили голодом и держали как бы под арестом в казармах. Государь был пристрастен к французам до такой степени, что приказал парижской национальной гвардии брать наших солдат под арест, когда их на улицах встречали, отчего произошло много драк, в которых большей частью наши оставались победителями..." Один русский солдат был казнен за то, что взял хлеб из булочной. Русские офицеры также имели своих притеснителей. Первый из них, пишет Муравьев, был генерал Сакен, которого назначили военным губернатором Парижа. Он "всегда держал сторону французов; в благодарность за сие получил он от города, при выезде своем, разные драгоценные вещи, между прочим, ружье и пару пистолетов, оправленных в золото". Другим "гонителем" был флигель-адъютант царя Рошешуар, француз-эмигрант, назначенный комендантом Парижа. Он окружил себя французами и делал различные неприятности русским офицерам, которые его не терпели. Так что Александр, продолжает Муравьев, "приобрел расположение к себе французов и вместе с тем вызвал на себя ропот победоносного своего войска".
18 мая союзники подписали с Францией мирный договор. Франция возвращалась к границам 1792 года, потеряв области с населением в 15 360 000 человек. Англия обязалась вернуть французские колонии, удержав за собой, однако, остров Мальту. Произведения искусства, вывезенные Наполеоном из побежденных и завоеванных европейских стран, благодаря заступничеству Александра остались в Париже: царь настоял на том, что здесь они будут доступнее для любителей изящного. Положено было собраться через два месяца на конгресс, чтобы обсудить послевоенное устройство Европы.
В высочайшем манифесте к русским войскам по случаю подписания мирного договора говорилось: "Всемогущий положил предел бедствиям. Прославил любезное нам отечество в роды родов. Воздал нам по сердцу и желаниям".
Александра ничто больше не удерживало в Париже. Но он не хотел покидать Францию, не оставив ей конституции. Между тем Людовик все медлил с обнародованием декларации о правах. Терпеливо подождав несколько дней, Александр решил заговорить с Бурбонами наполеоновским языком: объявил Людовику, что союзные войска не покинут Парижа до тех пор, пока он не сдержит свое обещание. 23 мая долгожданный документ, под именем хартии, был опубликован в парижских газетах.
В тот же день союзные государи оставили столицу Франции; император Франц направился в Вену, Александр и Фридрих Вильгельм – в Англию. Генерал Сакен сложил с себя полномочия военного губернатора Парижа.
Визит Наполеону был отдан. Нужно было возвращаться в свое победоносное варварское отечество.
Несмотря на торжественные слова манифеста, Александр уезжал из Парижа разочарованным. Дети революции не хотели республики, не хотели свободы. Еще одной иллюзией стало меньше. Человеческая порода вызывала у царя отвращение и презрение.
– Я не верю никому, – говорил он Волконскому. – Я верю лишь в то, что все люди – мерзавцы.
26 мая Александр и Фридрих Вильгельм высадились в Дувре. Восторгу англичан не было пределов; они выпрягли лошадей из экипажей государей и на себе вкатили их в город. (Блюхер в свою очередь поинтересовался, любят ли его в Англии, и с удовольствием выслушал ответ, что миллионы бокалов ежедневно выпиваются за его здоровье сразу после тоста за здоровье принца-регента; такой же популярностью пользовался и Платов.) Принимая представителей местных властей, царь заявил, что "всегда будет стараться о сохранении дружбы между Англией и Россией".
На следующий день монархи отправились в Лондон.
Английская столица с миллионным населением выглядела тогда не очень привлекательно. Полицейские в синей форме еще не заботились ни о чистоте улиц, ни о регулировании движения колясок и повозок, так что столкновения экипажей и драки кучеров были обычным явлением. На улицах можно было увидеть домашний скот; проститутки, несмотря на английское пуританство, бросали, по словам очевидца, свои "бесстыдные призывы весьма открытым образом, не опасаясь полиции". Зато по сравнению с другими европейскими столицами здесь было гораздо меньше воровства.
Вообще, главными достопримечательностями Лондона были два человека: Браммел и принц-регент Георг. Оба царствовали – один в умах, другой на троне.
Мимолетный властелин мимолетного мира, Браммел царствовал милостью граций, как выражались о нем современники. Однако влияние этого человека, о котором Байрон сказал, что предпочел бы родиться Браммелом, чем Наполеоном, не ограничивалось сферой моды. Дендизм не имеет синонимов в других языках. Подобно тому как Наполеон был мерилом политического успеха, Браммел в глазах людей того времени олицетворял меру вкуса.
На пути к славе ему пришлось взять на себя единственный труд родиться. Джордж Брайан Браммел появился на свет в 1778 году в Вестминстере. Двенадцати лет он был отдан в Итон, а затем в Оксфорд.
Браммел вышел из Оксфорда в 1794 году, через три месяца после смерти отца, и был зачислен корнетом в 10-й гусарский полк под начало принца Уэльского. Он не мог пожелать себе лучшего командира.
Они сразу сошлись: "первый джентльмен Европы", как называли наследника престола, гораздо более гордился изяществом своих манер, чем высотой общественного положения. Принцу было тридцать два года, и он стремился сделать блеск своей молодости вечным. "Нарисовать его портрет не составит труда, – говорит Теккерей. – Сюртук со звездой, парик, под ним – лицо, расплывшееся в улыбке. Но, прочитав о нем десятки книг, переворошив старые газеты и журналы, описывающие его здесь – на балу, там – на банкете, на скачках и тому подобном, под конец убеждаешься, что нет ничего и не было, только этот самый сюртук со звездой, и парик, и под ним – улыбающаяся маска; только одна пышная видимость".