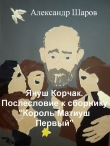Текст книги "Александр Первый"
Автор книги: Сергей Цветков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
25 августа царь приехал в Москву и вручил Филарету манифест, подписанный им 16-го числа, в запечатанном конверте, с собственноручной надписью: "Хранить в Успенском соборе с государственными актами до востребования моего, а в случае моей кончины открыть московскому епархиальному архиерею и московскому генерал-губернатору в Успенском соборе прежде всякого другого действия". Аракчеев затем особо известил митрополита, что государю не угодна ни малейшая огласка в этом деле. С величайшими предосторожностями манифест поместили в ковчег, где хранились прочие важные государственные бумаги.
Впоследствии оказалось, что никто, даже московский генерал-губернатор князь Д. В. Голицын, не знал о существовании этого акта. В Петербурге, куда послали копии акта с той же надписью Александра, о нем знали всего два лица: князь А. Н. Голицын и Аракчеев. Наиболее удивительным обстоятельством было то, что сам наследник, великий князь Николай Павлович, знал о завещании Александра в его пользу лишь со слов матери, однажды вскользь упомянувшей о чем-то подобном.
III
О Боже, я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем
бесконечного пространства...
В. Шекспир. Гамлет (пер. М. Лозинского)
В последние годы жизни Александра чрезвычайно заботило, чтобы революционные волнения на Западе не перекинулись на Россию. Поэтому политика народного просвещения приобрела в его глазах величайшее значение, наряду с полицией умов – цензурой. Чтобы устранить опасность революционного движения в России, царь принял ряд мер, призванных дать должное направление школе и литературе. Не в первый и не в последний раз на Руси пытались создать официальную науку, официальную добродетель и официальное благочестие.
В эти годы главным лицом в министерстве народного просвещения стал Михаил Леонтьевич Магницкий. В свое время он не без успеха кончил курс в Московском университете, затем служил в гвардейском Преображенском полку, а перед Отечественной войной сделался довольно бойким сотрудником Сперанского. В 1812 году он разделил судьбу своего начальника, однако быстро раскаялся в своих грехах, занял должность симбирского губернатора и показал на этой должности большую ревность в преследовании либеральных идей. Впрочем, эта ревность при отсутствии большого ума привела к увольнению Магницкого от должности губернатора. Тогда он поступил на службу в министерство просвещения. Дух времени произвел в нем последнюю метаморфозу вольнодумца: Магницкий превратился в елейного ханжу и вскоре стал пользоваться полным доверием со стороны князя А. Н. Голицына. Магницкого видели ежеминутно возводящим очи горе и твердящим кстати и некстати о милосердии Божием, посте и искуплении грехов; принципы Священного союза не сходили с его языка. Чтобы убедить Голицына в том, что он полностью сменил прежние взгляды, Магницкий усердно посещал по воскресеньям и праздникам домовую церковь князя, где земными поклонами старался заявить о вдруг нахлынувшей на него набожности. Он внушал Голицыну, что его не оставляет мысль "основать народное просвещение на благочестии, согласно с актом Священного союза".
В 1819 году он был назначен попечителем Казанского учебного округа. Магницкий налетел на Казанский университет, как коршун на добычу. Все внимание он сосредоточил не на том, чему учили и как учились, а на том, как профессора и студенты мыслили и чувствовали. Главный порок, замеченный Магницким в преподавании, был "дух вольнодумства и лжемудрия". Он подлежал немедленному и полному искоренению. Пробыв шесть дней в Казани, Магницкий по возвращении в Петербург доложил, что университет по всей справедливости и строгости законов подлежит уничтожению, причем в виде его публичного разрушения. Александр наложил на докладе примиряющую резолюцию: "Зачем разрушать, можно исправить".
Магницкий, нимало не медля, принялся за исправление. Просматривая списки почетных членов Казанского университета, он с ужасом встретил имя аббата Грегуара, который был членом Конвента и подал голос за казнь Людовика XVI. Магницкий выставил этот факт как главное доказательство овладевшего университетом якобинства. Он издал инструкцию, призванную направить юношество на правильную дорогу.
Инструкция подробно определяла направление преподавания каждого предмета, а также быт студентов. Философия, например, должна была руководствоваться посланиями апостола Павла; политические науки – черпать свои доводы из книг Моисея, Давида и Соломона и, в случае крайней нужды, из сочинений Платона и Аристотеля; преподаватель всеобщей истории, говоря о первобытном обществе, должен был показать, как из одной пары произошло все человечество, и т. д. Определен был точный порядок жизни студентов, большинство которых жило при университете. Студенческое общежитие превратилось в подобие монашеского ордена, в котором господствовали столь строгие нравы, что по сравнению с ними тогдашние институты благородных девиц могли показаться школой распущенности. Студенты распределялись не по курсам, а по уровню личной нравственности; каждый разряд жил отдельно от другого, дабы избежать опасности заражения пороками. Провинившийся студент должен был пройти курс нравственного исправления, причем проказника называли не виновным, а грешным. Одетого в крестьянский армяк и обутого в лапти, его сажали в "комнату уединения" (попросту карцер), над входом в которую красовалась надпись из Священного Писания; в самой комнате на одной стене висело распятие, на другой – картина Страшного суда, на которой грешнику предлагалось самому отметить свое будущее место в пекле. Пребывание в "комнате уединения" продолжалось до полного нравственного исправления; все это время товарищи грешника обязаны были молиться за него. Само собой, взаимные доносы студентов и преподавателей вменялись в обязанность каждому честному христианину.
У Магницкого нашлись ревностные помощники. Так, ректор университета Никольский, преподававший математику, на своих лекциях доказывал студентам полное согласие законов "чистой математики" с истинами христианской религии. По его словам, "математику обвиняют в том, что она, требуя на все точных доказательств, располагает дух человеческий к пытливости, отчего преданные ей люди ищут во всем – и даже тогда, когда дело идет о вере, очевидных убеждений и, не находя их, делаются материалистами". В доказательство полной правоверности математики Никольский приводил следующие примеры: как без единицы не может быть числа, так и мир не может быть без единого творца; прямоугольный треугольник является символом Троицы, а гипотенуза в этой фигуре есть не что иное, как символ соединения земного с божественным.
Не все преподаватели, однако, согласились профанировать свою науку. По требованию Магницкого из университета были уволены 11 профессоров.
Охранительное неистовство Магницкого в духе просвещенческой деятельности известных градоправителей Салтыкова-Щедрина нашло подражателей и в других университетах, сделавшись, таким образом, целым направлением в истории русского просвещения. Попечитель Петербургского учебного округа Дмитрий Павлович Рунич применил инструкцию Магницкого к Петербургскому университету и выгнал из него четырех профессоров. Из Харьковского университета выгнали двух преподавателей, из Дерптского – трех, из Виленского – четырех. Это сумасшествие прекратилось только в 1826 году, когда Магницкого уволили от должности и сослали в Ревель.
В подобные же условия пытались поставить русскую мысль и русское печатное слово. Цензурный устав 1804 года вполне соответствовал тогдашней политике Александра и был чрезвычайно благожелателен к российской словесности. Наиболее важный его пункт гласил: "Когда место (в сочинении. С. Ц.) подверженное сомнению, имеет двоякий смысл, то лучше истолковать его выгоднейшим для сочинителя образом, нежели его преследовать". Но, как заметил Рунич, "тогда было время, а теперь – другое". Устав 1804 года был признан неудовлетворительным и неспособным сдержать разгул мысли. Теперь цензорам поручалось не только строжайшим образом следить за новыми изданиями, но даже пересмотреть все ранее выпущенные книги.
Князь А. Н. Голицын подвергал сомнению не только книги духовного содержания, но и невиннейшую светскую литературу. Так, по поводу одного романа он высказал мысль, что большинство романов "совершенно ничтожны и для чтения вредны, равно как и сказки волшебные и простонародные, не приносящие не только ни малейшей пользы, ни чести для жителей государства, но и служащие более к развращению вкуса и ума".
Шишков, сменивший в 1824 году Голицына в должности министра народного просвещения, пошел еще дальше. Будучи убежден, что уровень нравственности в обществе и литературе стремительно падает, он счел необходимым исправлять и слог, и мысли авторов. По поводу одной статьи в "Академических ведомостях" о статистике убийств и самоубийств в России он с возмущением писал: "Какая надобность знать о числе сих преступлений?.. Хорошо извещать о благих делах, а такие, как смертоубийства и самоубийства, должны погружаться в вечное забвение".
Подобный уровень образованности и вкуса самих цензоров привел к тому, что новая политика в области литературы вылилась в ряд смешных или печальных анекдотов. Дошло до того, что в 1823 году приостановили печатание переводного сочинения "Нечто о конституциях", переводчиком которого был... Магницкий! Книгу, впрочем, нашли вполне благонамеренной, но сочли, что "нет ни нужды, ни пользы, ни приличия рассуждать публично о конституциях в государстве, благоденствующем под правлением самодержавным".
До сих пор Александр никогда не чувствовал каких-либо серьезных недомоганий: сказалось закаливание, полученное им в детстве. Но в январе 1824 года он впервые в жизни слег в постель с приступами лихорадки и жестокой головной болью. Лейб-медик Виллие и его помощник доктор Тарасов пришли к заключению, что Александр заболел горячкой с сильным рожистым воспалением на левой ноге. За эту ногу врачи особенно опасались, так как она уже дважды была травмирована. 14 января появился первый бюллетень о здоровье императора.
В конце января наступило улучшение. В начале февраля Александр уже мог сидеть в вольтеровском кресле. 8 февраля в Петербург по случаю бракосочетания великого князя Михаила Павловича прибыл из Варшавы Константин Павлович и сразу поспешил в Зимний дворец, уже не надеясь застать брата в живых. В это время у царя находился Тарасов. "Как только камердинер Анисимов отворил двери, – вспоминает он, – цесаревич в полной форме своей, вбежав поспешно, упал на колени у дивана и, залившись слезами, целовал государя в губы, глаза и грудь и наконец, склонясь к ногам императора, лежавшим на диване, стал целовать больную ногу его величества". Тарасов, еле сдерживая умильные слезы, поспешил оставить братьев наедине.
Хотя весной царь уже начал ездить верхом, больная нога еще долго нуждалась в перевязке и тщательном уходе.
Болезнь окончательно отвратила мысли Александра от мира. Как-то после выздоровления генерал-адъютант Васильчиков сказал ему, что весь Петербург принимал участие в его болезни.
– То есть те, которые любят меня? – возразил царь.
– Нет, все.
Александр недоверчиво улыбнулся:
– По крайней мере, мне приятно верить этому, но, в сущности, я не был бы недоволен сбросить с себя это бремя короны, страшно тяготящей меня.
Весной государь, по обыкновению, переехал в Царское Село. В царствование Александра эта загородная дача Екатерины значительно расширилась. Здесь появились фабрики, лицей, театр, триумфальная арка, посвященная государем "старым товарищам по оружию", и множество фруктовых и цветочных оранжерей; в зоопарке жили ламы и кенгуру. Имелась ферма по образцу голландских хозяйств, где выращивались лучшие образцы тирольских коров, а также украинских и холмогорских буренок; были здесь швейцарский бык, по прозвищу Вильгельм Телль, злой, со спутанными ногами, и стадо мериносов. Александру нравилось воображать себя фермером. Он лично вел счетную книгу в великолепном переплете, куда скрупулезно вписывал приплод, и чрезвычайно гордился своей одеждой из шерсти собственных овец.
Его рабочий кабинет был весьма темным из-за густых кустов сирени под окнами. Устав от блеска и шума, царь искал здесь тени и тишины. Простая мебель, письменный стол с пучками перьев и вечно горевшей свечой составляли всю обстановку этого убежища, почти кельи. В царской спальне стояла жесткая походная кровать с сафьяновым мешком, набитым сеном, вместо подушки. Одевался Александр тоже просто – в военный сюртук и фуражку.
Обедал государь всегда один; его пищу в течение дня составляли почти исключительно фрукты из оранжереи; особенно налегал он на землянику. Елизавета Алексеевна жила отдельно, со своей фрейлиной Валуевой. Прогулки императора и императрицы были рассчитаны так, чтобы они не могли встретиться.
Императорский двор был почти безлюден. Министры приезжали из Петербурга раз в неделю и, быстро покончив с докладами, разъезжались. В десять часов вечера царь ложился спать. Военный оркестр под его окнами еще в течение часа играл меланхолические мелодии, потом жизнь в Царском Селе замирала до утра.
Из всех государственных дел одни военные поселения по-прежнему вызывали живой интерес Александра. Он вел оживленную переписку с Аракчеевым, в которой выражал надежду, что Всевышний "позволит и поможет привести сие дело к желаемому концу". Аракчеев отвечал утвердительно и опасался только "санкт-петербургского праздноглаголания", то есть критики военных поселений. Сообщал он также и о том, что Бог наставил его на новую мысль: не одевать крестьян в военную форму (которую они будто бы так любили) и не брить им бороды. Народное долготерпение все-таки брало верх и над этим неутомимым от недумания человеком.
Тем временем в Петербурге реакция, разгромив все вокруг, принялась пожирать самое себя. Голицынское министерство затмения казалось Фотию слишком просветительным и вольнодумным – из-за большого количества выпускаемой Библейским обществом, состоявшим под попечительством князя, переводной духовной литературы неправославного содержания. Фотий вновь решил отстоять чистоту веры. Кроме того, духовенство было недовольно тем, что духовные дела находились в ведении светского департамента.
Начало 1824 года ознаменовалось для Фотия новым "видением" и "откровением". На этот раз он видел себя в царских палатах, стоящим перед царем, который просил, чтобы он благословил его и исцелил от болезни. Тогда Фотий, "обняв его за выю, на ухо тихо поведал ему, како, где, от кого и колико вера Христова и Церковь Православная обидима есть".
Ободренный этим видением, Фотий помчался в Петербург и поселился под гостеприимным кровом "дщери-девицы". Здесь образовался центр заговора против Голицына, к которому не замедлил примкнуть Магницкий. Бумаги и документы, компрометирующие министра просвещения, тайно передавались государю через обер-полицмейстера Гладкова и генерал-адъютанта Уварова.
Вечером 17 апреля Александр назначил аудиенцию митрополиту Серафиму. Их беседа продолжалась до поздней ночи. Спустя три дня к государю был приглашен и Фотий, который был проведен в кабинет тайно, через задний вход. Чтобы придать веса своему "видению", архимандрит больше говорил не об обидах, чинимых Голицыным святой Церкви, а об опасности государственного переворота, к которому может привести направление политики министра просвещения.
Слова Фотия произвели сильное впечатление на Александра, которому казалось, что Сам Господь послал ему спасение от страшной опасности.
– Господи, сколь Ты милосерд ко мне! – воскликнул государь. – Ты мне как прямо с небес послал ангела Своего святого возвестить всякую правду и истину! Я же готов исправить все дела и Твою святую волю творить!
И, обратясь к Фотию, прибавил:
– Отец Фотий! Не возгордись, что я сие сказал тебе, я так о тебе чувствую.
Александр поручил ему составить "план" истребления крамолы, после чего пал на колени и попросил благословения. "Видение" сбылось.
Через несколько дней к митрополиту Серафиму приехал Аракчеев, посланный царем переговорить обстоятельнее о Голицыне в присутствии Фотия. Во время этого совещания митрополит снял свой белый клобук и, в сердцах бросив на стол, поручил Аракчееву передать государю, что скорее откажется от сана, чем помирится с князем Голицыным, с которым не может вместе служить, как с "явным врагом клятвенным Церкви и государства".
29 апреля Фотий представил царю доклад о том, "как пособить, дабы остановить революцию", к которому прилагался "план разорения России и способ оный план вдруг уничтожить тихо и счастливо". Способ этот, конечно, открыл Фотию Сам Бог. В числе "предложенных Всевышним" мероприятий главным было уничтожение министерства духовных дел и Библейского общества; Синоду же надлежало быть по-прежнему и "духовенству надзирать при случаях за просвещением, не бывает ли где чего противного власти и вере". В конце Фотий писал: "Повеление Божие я известил; исполнить же в тебе состоит, с тобою Дух премудрости и силы, державы и власти. От 1812 года до сего, 1824-го, ровно 12 лет: Бог победил видимого Наполеона, вторгшегося в Россию, да победит Он и духовного Наполеона лицом твоим, коего можешь ты, Господу содействующу, победить в три минуты – чертою пера".
Голицын не подозревал о чинимых против него кознях. Прозрел он весьма неприятным образом. Однажды он приехал в дом графини Орловой в отсутствие хозяйки. Между ним и Фотием завязался горячий разговор, который кончился тем, что Фотий предал министра просвещения анафеме. "Услышав глас сей, – с торжеством повествует Фотий, – князь вознеистовствовал, побежал вон в гневе и ярости, яко лишен ума, аз же вслед ему возгласил: "Ежели ты не покаешься и вси с тобою не обратятся, анафема всем; ты же, яко вождь нечестия, не узришь Бога, не внидешь в Царствие Христово, а снидешь в ад, и вси с тобою погибнут вовеки. Аминь"".
"Дщерь-девица", возвратясь домой и узнав о случившемся, пришла в ужас. Фотий же, по ее словам, "скача и радуяся, воспевал песнь сию: с нами Бог!"
Весть об анафеме министру просвещения быстро разнеслась по столице. Митрополит Серафим по этому случаю сказал: "Вот ему должная плата. Сие много подвигнет сердце царево к действию во благо".
Ожидания митрополита сбылись. Голицын попросил отставку. При встрече с Александром он сказал:
– Я чувствую, что на это пришла пора.
– И я, любезный князь, – ответил царь, – не раз уже хотел объясниться с вами чистосердечно. В самом деле, вверенное вам министерство как-то не удалось вам. Я думаю уволить вас от звания министра, упразднить сложное министерство, но принять вашу отставку никогда не соглашусь. Вы останетесь при мне, вернейший друг всего моего семейства, и, кроме того, я прошу вас оставить за собой звание члена Государственного Совета и управление почтовым департаментом. Таким образом, дела пойдут по-старому и я не лишусь вашей близости, ваших советов.
Все это было совершенно по-александровски.
Увольнение Голицына состоялось 15 мая; министром народного просвещения был назначен Шишков. Из министерства духовных дел были изъяты дела православного вероисповедания. Президентом Библейского общества стал митрополит Серафим. Доклады по делам Синода по-прежнему поступали к царю через Аракчеева, о котором Фотий восторженно писал: "Он явился, раб Божий, за святую веру и Церковь, яко Георгий Победоносец". Кто в глазах Фотия был змеем, пояснять вряд ли требуется.
1824 год был отмечен еще двумя событиями, которые глубоко потрясли Александра.
Первое из них касалось личной жизни государя.
От связи Александра с М. Н. Нарышкиной родилось трое детей – двое мальчиков и дочь София, которую царь безумно любил. Все дети носили фамилию Нарышкиных, хотя муж, Д. Нарышкин, знал о своей непричастности к их рождению. (Однажды он на вопрос царя о здоровье жены и детей язвительно уточнил: "О каких детях справляется его величество: о моих или о ваших?") Софью Александр со временем узаконил, возведя в достоинство графини Романовой.
М. Н. Нарышкина была неверна Александру. Она изменила ему с князем Гагариным, который за это был выслан за границу, и с царским адъютантом графом Адамом Оярковским. В последнем случае Александр имел возможность убедиться в неверности любовницы собственными глазами: приехав однажды внезапно в дом Нарышкиной, он увидел, как Оярковский ищет спасения в платяном шкафу. Александр проявил утонченную мстительность. "Ты похитил у меня самое дорогое, – сказал он Оярковскому. – Тем не менее я буду обращаться с тобой и дальше как с другом. Твой стыд будет моей местью". Действительно, Оярковский еще много лет после этого состоял при государе и продвигался вверх по служебной лестнице.
Эти измены в совокупности с религиозным обращением Александра привели к разрыву с М. Н. Нарышкиной. Бывшая любовница больше не смела показаться при дворе. А когда выяснилось, что у Софии развивается туберкулез, она уехала с дочерью за границу, на воды.
Разрыв с М. Н. Нарышкиной никак не отразился на любви Александра к Софии. Во время Веронского конгресса он подыскал ей блестящую партию молодого графа Шувалова. Молодые люди были помолвлены, а в 1824 году должна была состояться свадьба.
Здоровье Софии требовало дальнейшего пребывания в Швейцарии, но мать, спеша с заключением брака, повезла ее в Петербург. Здесь кровохарканье у девушки усилилось, и свадьбу пришлось отложить. Александр проявлял большую озабоченность здоровьем дочери: каждое утро и вечер фельдъегерь привозил ему в Царское Село бюллетень о ходе ее болезни.
В июне Александр выехал в Красное Село на гвардейские маневры. Однажды утром вместе с Виллие и Тарасовым в кабинет царя вошел Волконский. Пока врачи перевязывали царю ногу, князь печально молчал.
– Какие новости? – тревожно спросил Александр.
Волконский продолжал безмолвствовать. Вместо него царю ответил Виллие:
– Все кончено, ее более не существует.
Софья Нарышкина умерла накануне, в семнадцатилетнем возрасте. В день ее смерти из Парижа прибыло ее свадебное платье.
Александр молча возвел глаза к небесам и залился слезами. Все вышли, оставив его одного. Думали, что учения будут отложены, но спустя четверть часа Александр вышел из кабинета и сел на лошадь. На его лице не было и следа переживаний, он был ласков и приветлив. После учений царь сел в коляску и помчался в дом М. Н. Нарышкиной проститься с телом дочери.
Долгое время он никому не показывал, что происходит у него в душе. Но несколько позднее на вопрос графини Ожаровской о его здоровье сказал:
– Да, графиня, физически я здоров, но нравственно я все еще страдаю, тем более что никому не могу излить свое горе.
При этих словах он не мог сдержать слез и поспешно отошел.
Летом Александр, как обычно, предпринял путешествие по России. Вскоре после его возвращения Петербург постигло страшное бедствие – знаменитое наводнение 7 ноября 1824 года, превзошедшее по своим разрушительным последствиям наводнение 1777 года.
Всю ночь с 6 на 7 ноября над городом бушевала буря; сильные порывы юго-западного ветра потрясали кровли и окна, в стекла стучали потоки дождя. С рассветом вода в Неве сильно поднялась, но петербуржцы как ни в чем не бывало вышли по своим делам. Около десяти часов утра на набережных даже скопились толпы любопытных, наблюдавших, как вода в реке поднималась пенистыми волнами, которые с ужасным шумом разбивались о гранитные берега. В это время низменные места по берегам Финского залива и при устье Невы были уже затоплены и крестьяне окрестных деревень искали спасения от волн, которыми любовались жители Адмиралтейской стороны. Необозримое пространство вод казалось кипящей пучиной, над которой поднимался туман от сталкивающихся волн, разбиваемых ревущим ветром. Вода беспрестанно прибывала и наконец обрушилась на город. В одно мгновение две трети Петербурга скрылось под водой. Кареты и дрожки поплыли по улицам. Люди кинулись спасать свое имущество или искать спасения самим на высоких мостах и крышах домов. В первом часу пополудни город был залит водой почти в рост человека. Разъяренные волны свирепствовали на Дворцовой площади, которая вместе с Невой представляла огромное озеро, широкими потоками разливавшееся по улицам, по которым неслись бревна, дрова, мебель. Зимний дворец, как скала, стоял посреди бурного моря, выдерживая со всех сторон натиск волн, брызги которых доставали до верхнего этажа. Вскоре над Петербургом повисло мертвое молчание. Около двух часов на Невском проспекте на двенадцативесельном катере появился генерал-губернатор граф Милорадович, посланный Александром для оказания помощи и ободрения жителей. В третьем часу вода начала убывать, обнажая разрушенный город. На Неве были сорваны все деревянные мосты, каменные и чугунные уцелели; берега Невы были завалены судами, будками и разным хламом; под грудами развалин виднелись трупы людей и животных. Погибло более 500 человек, вода снесла 324 дома и повредила 3581 строение. В окрестностях Петербурга погибло еще около 100 человек и пострадало более 300 домов.
Александр был глубоко потрясен внезапным бедствием – он воспринял его как наказание, посланное Всевышним за его грехи. Как только вода спала, он отправился на Галерную. Здесь он вышел из экипажа и несколько минут, глотая слезы, молча разглядывал причиненные водой разрушения. Народ обступил его, послышались голоса:
– За наши грехи Бог карает нас!
– Нет, за мои! – с грустью отозвался Александр.
Тут же он начал отдавать распоряжения об оказании помощи пострадавшим. В разные части столицы были назначены временные губернаторы, каждому из которых на первое время было отпущено из казны по сто тысяч рублей. 11 ноября был учрежден "комитет о пособии разоренным наводнением Санкт-Петербурга".
Царь лично посетил наиболее пострадавшие части города. Зрелище людских страданий страшно угнетало его. "Я бывал в кровопролитных сражениях, как-то сказал он, – видал места после битвы, покрытые бездушными трупами, слыхал стоны раненых, но это – неизбежный жребий войны. А тут увидел людей, вдруг, так сказать, осиротевших, лишившихся в одну минуту всего, что для них было любезнее в жизни, – это ни с чем сравниться не может!"
Во время этих осмотров бывали и забавные случаи. На Петергофской дороге Александр посетил одну деревню, которая была совершенно уничтожена наводнением. Разоренные крестьяне столпились вокруг царя и наперебой горько плакались. Вызвав из толпы старика, Александр велел ему рассказывать. Тот начал перечислять: "Все, батюшка царь, все погибло: вот у афтово домишко весь унесло – и с рухлядью, и с животом, а у афтово двух коней, четырех коров затопило, у афтово то-то и то-то" и т. д. "Хорошо, – сказал Александр, – это все у Афтова, а у других что погибло?" Когда же ему объяснили, что старик употребляет "афтово" вместо "этого", царь рассмеялся, приказал построить на высокой насыпи новую деревню и назвать ее Афтово. Но, разумеется, забавные истории вроде этой или эпизода с сигом, обнаруженным в подвале императорской публичной библиотеки, не могли служить утешением в общем бедствии.
Личное горе, усугубленное петербургской катастрофой, вновь сблизило Александра с женой. Елизавета Алексеевна без малейшего упрека пошла навстречу неверному супругу. В это время от ее былой красоты не осталось и следа. Большие голубые глаза ее казались усталыми от множества пролитых слез; петербургский климат придал красноватый оттенок ее лицу, но нос остался белым, и это сочетание, конечно, отнюдь не красило ее. Единственным ее утешением уже давно стала религия, которая помогала ей безропотно переносить все страдания. Одна фрейлина называла императрицу "Спокойствие".
Сближению супругов помогла болезнь Елизаветы Алексеевны. Александр ухаживал за больной женой, подолгу не выходя из ее комнаты в Царском Селе. "Здесь все печально или уныло, – писал Карамзин Дмитриеву. – Мы здесь уже около недели и в беспокойстве о здоровье императрицы Елизаветы Алексеевны, которая от простуды имела сильный кашель и жар. Я видел государя в великом беспокойстве и в скорби трогательной: он любит ее нежно".
В 1825 году все в России бредили тайными политическими обществами. Н. И. Тургенев свидетельствует: "Публика... принимала видимость за действительность: это свойство толпы во всех странах. Сколько раз до этого периода и в продолжение его можно было видеть людей, обращавшихся к лицам, которых считали вождями тайных обществ, с настойчивой просьбой принять их туда! В армии офицеры низшего ранга обращались с тем же к своему начальству; старые генералы искали покровительства своих молодых подчиненных, чтобы удостоиться той же чести. Напрасно говорили тем и другим, что не существует никакого тайного общества, – умы тревожно ждали политических событий, воображали, что готовится произойти какая-то великая перемена, и никто не хотел оставаться в стороне".
Беда состояла не столько в существовании тайных обществ, сколько в том, что в каждом доме открыто высказывались ультрареволюционные взгляды. "И старики, и люди зрелого возраста, и в особенности молодежь, – вспоминает А. И. Кошелев, – словом, чуть-чуть не все беспрестанно и без умолку осуждали действия правительства, и одни опасались революции, а другие пламенно ее желали и на нее полагали все надежды... Никогда не забуду одного вечера, проведенного мною, восемнадцатилетним юношей, у внучатого моего брата М. М. Нарышкина; это было в феврале или марте 1825 года. На этом вечере были: Рылеев, князь Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические думы, а все свободно говорили о необходимости d'en finir avec ce gouvernement ("покончить с правительством")".
Подобное положение вещей, конечно, должно было рано или поздно вызвать доносы, и они действительно вскоре последовали.
13 июля 1825 года Аракчеев известил царя, что некий унтер-офицер Украинского уланского полка Шервуд желает сообщить государю "нечто, касающееся до армии", а именно о каком-то заговоре, сведения о котором "он не намерен никому более открыть, как лично вашему величеству".
Иван Васильевич Шервуд, англичанин по происхождению, родился в Кенте, близ Лондона, в 1798 году. В 1800 году его отец по повелению императора Павла был вызван в Россию в качестве механика на Александровскую мануфактуру; благодаря этому обстоятельству он стал известен и Александру. Молодой Шервуд получил в России отличное образование; кроме того, он обладал от природы наблюдательностью, вдумчивым и логическим умом.