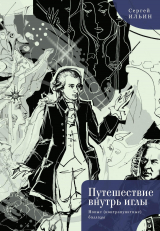
Текст книги "Путешествие внутрь иглы. Новые (конструктивные) баллады"
Автор книги: Сергей Ильин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
XVII. Баллада о Моей Хорошо Состарившейся Маме
1
Когда я думаю о том, что моя мама не удосужилась ни разу за сорок лет навестить меня в Германии – если не ради своего единственного сына, то хотя бы ради своего единственного внука – когда я, далее, припоминаю, с какой неохотой она спрашивает меня по телефону о моей жене или теще – которые, между прочим, прекрасно к ней относятся – и в то же время всякий раз прибавляет: «Ну а у тебя-то все хорошо в семье?», желая втайне услышать в ответ: «Да как тебе сказать – всякое бывает…» – чтобы опять пригласить меня к себе в наш родной город S., причем меня одного… когда она подолгу и с ностальгической старческой зацикленностью рассказывает об одном и том же: о былом и давным-давно распавшемся треугольнике семьи – отца, матери и сына – треугольнике, в котором, осмысливая его с холодным лермонтовским вниманием, буквально живого места не было, и когда я, наконец, пытаюсь понять ее несколько странную для меня материнскую любовь – как можно любя отправлять сына ежегодно в пионерские лагеря, которые он не выносит? как можно любя отвести сына в милицию за то, что он вместе с приятелями снял несколько арбузов с поезда? как можно любя не давать сыну согласие на выезд и только из-за улыбнувшейся квартиры в центре города, о которой она всю жизнь мечтала, и которую я ей путем двойного и нелегального обмена сумел обеспечить, покидая навсегда город S., изменить решение? – короче говоря, подводя все вышесказанное к общему знаменателю, я не могу не вспомнить об универсальной природе духов в буддийской интерпретации: в данном случае, духе или ангеле материнской любви.
Она, эта интерпретация, в частности, утверждает, что, несмотря на иные безграничные возможности в смысле преодоления, скажем, пространства и времени, сфера воздействия любых духов – и в особенности, после инкарнации – принципиально ограниченна, хотя и в разной степени, – отсюда вытекает, что если у какого-нибудь отдельно взятого духа материнской любви слабые крылья, то он просто не может воспарить в своей родительской любви так, как сам бы того хотел и как того требует его вечная, врожденная, и быть может, в конечном счете все-таки им самим для себя надуманная природа, и любые упреки здесь неуместны: приняв на веру такую космическую конфигурацию, начинаешь снисходительней относиться и к своим ближайшим родственникам, и к людям, и к себе самому.
Если же, напротив, проникнуться ощущением безграничных возможностей духов и души, а также прямо вытекающей отсюда полной ответственностью за каждый жизненный шаг – да еще в единственной по определению земной жизни! – то тяжесть чувства вины, рождающаяся, например, из осознания слабости любви, подобной любви моей мамы, но также и моей собственной, становится физически невыносимой, – и вот тогда, пусть и не часто, приходится невольно смотреть на себя и все вокруг тем предельно пронзительным и не знающим теплоты сочувствия взглядом, каким смотрят на созерцающего наши православные иконы.
2
Молодости человек так не рад,
как ему страшен под старость распад
тела как храма бессмертной души…
И вот тогда все средства хороши,
чтобы прочувствовать тела распад
так, словно ты ему чуточку – рад.
Я это в точности мог наблюдать,
видя, как возраст стал маме под стать.
В зеркале взгляды однажды сошлись
наши, читатель, теперь – улыбнись:
жизни пошло ей на пользу бардо —
общность явилась с Марлоном Брандо.
Прежде и мысли о сходстве таком
быть не могло – никогда и ни в ком.
Мама моя патриоткой была.
Также работницей славной слыла.
Много имела хороших подруг.
Узок был, правда, семьи ее круг.
Муж – и отец мой – ушел из семьи.
С ним и все братья и сестры мои:
их – нерожденных – прикончил развод.
Крепче семьи оказался завод,
ибо отец приучился там пить.
Многих непьющих он смог пережить.
Мама иную имела мечту,
видя предельную в ней красоту:
жить в центре города – и только там
фору легко даст всем прочим мечтам.
Каждый, кто вырос в родимом совке,
знает об этом жилом тупике.
Видел я часто – пока не подрос —
скольких испортил квартирный вопрос.
Только покинув родную страну,
смог подарить я вторую весну
маме, свершив нелегальный обмен —
и как бы крошечный стал супермен.
Но – шутки в сторону, а без меня
мама жила б до последнего дня
в дачной окраине, где так хорош
воздух, который она ни во грош
ставить упорно не склонна была,
и – девяносто с лихвой прожила.
Я же давно на чужбине живу
и – второй родиной землю зову,
где родился – в городке Эйзенах —
он – «мое все»: кто? конечно же, Бах.
Не удосужилась мама моя
съездить туда, где с семьей живу я,
втайне желая понравиться тем,
кто с перестройкой давно стал никем.
Да, изменилась Россия-страна,
но – диссонансом, как прежде, сильна.
Режет контраст нестерпимо нам слух —
это и есть сокровенный наш дух.
Подвиг великий нам легче свершить,
чем в тишине и в достоинстве жить.
Предосудителен западный свет
к тем, у кого чести в мелочи нет.
Может, конечно, с другой стороны
не понимаем родной мы страны:
так, как состарилась мама моя,
вряд ли сумею состариться я.
Что тогда проку от мыслей моих,
если мне трудно достоинство их
чуждых распаду чертами лица,
точно печатью, скрепить до конца?
Снова смотрю я на маму мою:
родины автопортрет узнаю.
Тех, разумеется, сталинских лет —
много в них мрака, но есть в них и свет.
Трусость там есть, но она так сродни
робости, всякой лишенной брони…
Свету от свечки та робость близка,
ибо в ней нет ничего – свысока.
Скучна округлость без острых углов.
Любит начальство согласье без слов.
Однообразен отчасти и свет,
если частицы в нем сумрака нет.
Сжиться с покорностью может любовь?
или нужна ей горячая кровь?
Этот вопрос, что страшней гильотин,
русским и задал маркиз де Кюстин,
нож им в самое сердце вонзя.
Вот только, к счастью, ответить нельзя
определенно вполне на него.
Я это понял лишь после того,
как пригляделся внимательно к ней:
в зеркале к старенькой маме моей.
Как хорошо постарела она!
и как вдруг явственно стала видна
прежде не видная в теле – душа…
этим-то старость ее хороша!
Многое дал бы я, чтобы узнать
и про маркиза предсмертную стать:
как его тела свершился распад,
был ли ему он хоть чуточку рад,
и сохранил ли он образ лица,
в коем достоинство есть до конца.
3
Как страшно разваливается тело под давлением возраста и болезней! и как трогательно сознание сопротивляется этому неумолимому природному процессу! ведь нет же и не может быть, кажется, в человеке ничего такого, что было бы вполне независимо от клеток, тканей и органов, а это значит, что любое и самое ничтожное их недомогание тотчас передается душе и духу, что бы под ними ни подразумевать: вот почему, когда человек мужественно и до конца сопротивляется болезням, отгоняет от себя раздражение и депрессию, пытается оставаться оптимистичным и доброжелательным к людям и к жизни, мы его уважаем и перед ним преклоняемся, – нам кажется, что кроме как силой воли и мужеством невозможно противостоять разрушению плоти, и что в этом самом противостоянии заключается как раз вся суть и сила духа, – да, все это несомненно так и есть на самом деле, но остается все-таки в сознании некий неустранимый оттенок, как бы привкус тончайшего психического дискомфорта, и вот это самое субтильное чувство, если как следует в него вдуматься, коренится в нашей врожденной вере, что между духовным и материальным нельзя просунуть и волоса, а значит, само состояние тела еще прежде, чем сознание начнет в нем и за него бороться, достаточно адекватно воплощает заключенный в нем дух.
Иными словами, здесь имеется в виду древняя истина, что в юности мы имеем лицо, подаренное нам судьбой, а в старости то, которое мы сами заслужили, то есть насколько благообразно мы состарились, как мало у нас появилось безобразных морщин и складок, и до какой степени черты лица сохранили одухотворенное выражение, – это самое важное и это является первым признаком духовности, – а если этого нет, если тело разрушилось так, что свет духовности тлеет в нем, как последний уголек в бесформенной куче сгоревших дров, и выражается только в последнем отчаянном и жалком крике: «Я, душа, существую, но не имею ничего общего с этим телом!», – то это, конечно, тоже духовность, но как бы уже второго порядка.
Поэтому когда моя мама, случайно проходя мимо зеркала, задерживается перед ним взглядом – а я тоже смотрю на нее в этот момент, и мы полуулыбаясь встречаемся взглядами в зеркале – и видит там крупные благородные черты лица, видит осанку головы, напоминающую Марлона Брандо – а ведь в молодости и зрелости такого сходства не было и в помине – видит все еще живые и теплые карие глаза под высоким безморщинистым лбом – хотя и волос на голове почти не осталось – и все это несмотря на девяностолетний возраст, несмотря на то, что от болей в суставах она не проспала в последние годы ни одной нормальной ночи, несмотря также на то, что ни шагу она не может теперь сделать без крика или стона, – итак, видя все это, она, по моим расчетам, должна непременно чувствовать мгновенный, пусть и малый прилив некоей невольной гордости за несомненное и всеми замечаемое достоинство, которое сумело сохранить ее состарившееся, треплемое болезнями тело, и это достоинство как будто поддерживает ее духовно и дает ей дополнительные силы жить дальше, – но так ли это на самом деле, я точно не знаю, потому что никогда маму об этом прямо не спрашивал.
XVIII. Баллада о Трех Соседях
1
Тише как можно прожить эту жизнь – вот великое дело:
чтобы лишь ход облаков она людям напомнить могла, —
легких и светлых теней в дивной бездне, просвеченной солнцем:
это когда день за днем беззаботной плывут чередой,
темных, тревожных теней в неземном и подлунном сияньи, —
если страданье и смерть на часах подле жизни стоят, —
ибо когда все пройдет, в те же самые облаков тени —
светлы они иль темны – обратится и вся наша жизнь.
2
Если как-нибудь в начале марта, выйдя из подъезда и увидев соседа-немца, выбрасывающего мусор – чрезвычайно добродушного и общительного человека – вы спонтанно разговоритесь, и он по ходу разговора, заглянув в безоблачное голубое небо, задумчиво промолвит, что вот наконец-то наступила весна и зимняя депрессия закончилась, а вы сами не зная почему вдруг скажете, что, напротив, весной-то и разыгрывается настоящая, матерая, нутряная депрессия, но сосед не поймет вашу мысль, однако на всякий случай понимающе улыбнется, а вы, поскольку у вас всегда были хорошие отношения с ним и еще по причине вашего боевого настроения в данный момент подтвердите вашу догадку классической фразой о том, что нынче прямо «Моцарт разлит в воздухе» – а ведь это, в сущности, все равно что сказать: «Я только что позавтракал яичницей»: в том смысле, что как дважды два четыре – и тогда сосед ваш очень пристально взглянет на вас, и в его взгляде вы ясно прочтете два вопроса: первый – «Здоровы ли вы душевно?», и второй – «Не издеваетесь ли вы над ним?», – так вот, после того как вы разубедите его в обоих пунктах и даже искренне попытаетесь разъяснить ему вашу точку зрения, и разговор ваш примет привычное житейское направление, и вы от души проболтаете еще минут сорок, – знайте, что после этого разговора вы ни сблизитесь, ни отдалитесь, и ничего нового вы ни друг о друге, ни о мире не узнаете, – зато у вас будет шанс догадаться, что никогда еще, быть может, ваш скрытый комплекс неполноценности не выражался с такой детской наивностью, с такой гениальной простотой и с таким неподдельным очарованием, – а поскольку тайное, становясь явным, не обязательно исчезает, то и вы после разговора останетесь под впечатлением некоторого томительного недоумения, как и ваш сосед, – и все-таки первый шаг сделан, «лед тронулся», как говорил незабвенный Остап Бендер, и никогда еще никакой день не начинался так хорошо, как этот: в этом вы можете быть вполне уверены, – но пока только в этом.
3
Если же все это так, и финал нам досрочно известен —
самое время начать в этом мире воистину жить,
то есть не ждать ничего от спектакля под громким названьем:
«Жизнь нам однажды дана и оставить в ней надобно след»,
но – до антракта уйти, чтоб успеть наглядеться на звезды:
(их не сравнять с потолком, что над зрительским залом висит),
встретить прохожих иных: как естественны все их движенья
(и как заметна вдруг ложь на их фоне артистов игры).
4
Решительно во всем, что касается этого мира, можно и нужно сомневаться, и только в одном для порядочного человека не может быть сомнений, а именно: что существует незыблемая иерархия вещей, верхние из которых совсем не подвержены страданиям, серединные страдают тихо и незаметно, и лишь низшие не только громко страдают, но и во весь голос кричат о своих страданиях, стремясь исподволь придать им возвышенный и даже трагический характер, – итак, признавая эту великую иерархию, я постоянно вспоминаю о моем соседе-немце, совершенно непримечательном человеке, который долго болел раком, при встречах заводил какие-то странные разговоры и при этом очень внимательно заглядывал в глаза, точно пытаясь в отведенные ему последние месяцы жизни проникнуть во что-то, о чем в обыкновенном и более-менее здоровом состоянии люди даже и не задумываются, а потом он внезапно исчез и больше уже не появлялся, и вот это его тихое и бесшумное исчезновение, подобно проплывшему в осеннем небе облачку, действует на меня и по сей день, не знаю почему, сильнее любых громких героических смертей, в том числе и самой, пожалуй, громкой: нашего Пушкина… впрочем, что значит – не знаю почему? очень даже хорошо знаю – как раз по причине существования вышеописанной иерархии, – но для того, чтобы чувствовать ее душой и сердцем, нужно иметь хотя бы минимальную склонность к восточной духовности, и то обстоятельство, что наш русский брат из всех народов земного шара как будто наименее для нее восприимчив, принуждает меня в ином и новом ракурсе взглянуть и на нашу культуру, и на нашу историю, и на нашу ментальность: быть может, в этой-то онтологической перспективе как раз и залегают корни той непостижимой по масштабу дисгармонии – это не значит, что в ней нет своеобразного величия, еще какое! – которая является, думается, первичной характеристикой нашего национального характера, да, слишком большая, я бы даже сказал, вопиющая по масштабу театральность, лежащая в его основе, театральность безусловно талантливая и все же мучительно несоответствующая главной тональности бытия, театральность, отступающая только тогда, когда речь идет о жизни и смерти нации, – вот она-то, думается, и является источником всех наших бед, и поразительно, что осознать эту великую истину помог мне мой сосед.
5
Далее: в дом возвратясь и с женой выпив чай на балконе
(есть ли сильнее контраст той заумной, пустой болтовне,
что завершает всегда всякий культовый акт театральный?),
тихо в иной мир уйти – разумеется, лишь до утра —
(если же дольше, то нас отведут туда только за руку), —
и, перед тем как заснуть, очень странный один диалог
вспомнить с соседом весной, – и другого соседа припомнить,
что не дожил до весны, и в глаза вам подолгу смотрел…
что-то хотел он сказать, но что именно, я не узнаю,
можно о том лишь гадать: это был бы скорее всего
самый обычный пустяк, – их не склонна удерживать память,
ибо похожи они на песок или капли воды,
кои немыслимо счесть… то ли дело предсмертные жесты,
но еще больше слова, что последними мы назовем:
лягут отныне они на душе их услышавших камнем, —
трудно тот камень нести, сбросить напрочь гораздо трудней.
6
Музыкальная гармония – и только она одна – сохраняет наш мир и правит этим миром, так что в той самой степени, в которой отношения между людьми перестают «звучать», как говорят музыканты, – в той самой степени в мир входит феномен, который моралисты именуют громким словцом «зло»: зная этот мировой закон, я и еврей-профессор-искусствовед, приехавший давным-давно из Санкт-Петербурга и проживающий двумя этажами выше, встретившись случайно на улице, в магазине или в лифте, общаемся самым сердечным образом, – нам есть настолько много о чем поговорить, что, кажется, душевный разговор, раз возникнув и приняв классическое «русское русло», уже никогда бы не остановился, – однако существует опасность, что один из нас будет с «аппетитом», как говорил Тургенев, говорить только о себе, слушая собеседника лишь для проформы, – ведь мы оба, в конце концов, авторы, а какой автор интересуется другим автором? ему нужны только собственные читатели или слушатели… впрочем, за себя я поручиться могу, а вот за моего соседа – нет, кроме того, я на подобном одностороннем диалоге уже «собаку съел»… итак, мы упорно не приглашаем друг друга в гости и даже при случайных встречах не говорим часами, хотя взаимная симпатия между нами есть, хотя пообщаться о «высоких материях» нам кроме как друг с другом больше и не с кем, и хотя всякий раз, когда разговор обрывается по сути не начавшись, я испытываю очень субтильное и очень тягостное чувство, и мой профессор, наверное, тоже… и все-таки мы боимся сделать решающий шаг и распахнуть двери стихийного общения, – а ведь наверняка из этого вышло бы больше хорошего, чем плохого, и оправдание нашей взаимной уютной трусости необходимостью «держать дистанцию», дабы не разрушить хотя бы то, что есть, – оно, это оправдание, при внимательном рассмотрении не выдерживает критики: в конце концов, разве на одной дистанции зиждется музыкальная гармония? и разве не бывает в музыке острых диссонансных всплесков и полного катартического примирения? да, все это бывает, но только не у самого великого музыканта: И.С. Баха, – и как пушкинский Сальери в финале оправдывает свое злодеяние сомнительной ссылкой на Микеланджело, так по крайней мере я – о моем славном соседе судить не берусь – вынужден оправдывать наше странное, но по-своему оригинальное и, главное, вполне искреннее общение с соседом-профессором с верхнего этажа ссылкой на великого немца: нет, а ведь воистину есть в нем – этом нашем общении – что-то похожее на баховскую тональность, клянусь вам, и если меня спросят, что же именно, я без запинок, как хорошо выученный урок, отвечу: главное – это когда люди субстанциально, то есть день и ночь и пожизненно, связаны пусть тонкой, зато несокрушимой взаимной внутренней симпатией, а вот сколько и как они при этом общаются, не играет по сути особой роли.
7
Также есть третий сосед – и совсем для меня он не лишний:
тоже, как я, эмигрант (немцы были те первые два), —
хоть и общение с ним, соответственно, очень непросто, —
с музыкой сходно оно, где двойной и тройной контрапункт,
в узел сплетаясь тугой, расплетаются множеством нитей, —
этим хочу я сказать, что великая, может быть, роль
выпала в жизни тому (но лишь в жизни, как облако, тихой),
кто к вам приставлен судьбой как простой ваш по дому сосед.
XIX. Баллада о Собаке
1
Остановившись посреди моста,
она меня обнюхивала страстно, —
возбуждена от морды до хвоста, —
хозяин ей кричал напрасно.
По существу и я доволен был,
играя роль востребованной вещи, —
к мирам иным разыгрывая пыл,
мы на себя немного – но клевещем.
Как правило, чужой собачий взгляд
всего лишь душу в нас разнюхать хочет, —
приятный, но бессмысленный обряд,
он только самолюбие щекочет.
Самой природой сделанный акцент
на всех людских амбициях тщеславных
и, может быть, единственный момент
понять, что мы с животными на равных.
2
Она стояла на мосту с тоскливым и прибитым видом и, несмотря на повторные окрики хозяина, никак не могла отказаться от удовольствия тщательно и всесторонне меня обнюхать, и взгляда ее – снизу вверх, извиняющегося, слегка заискивающего, почти жалобного и до боли искреннего – можно было бы даже устыдиться: вот, мол, кто она и кто я, и какая бездна пролегает между нами, – если бы она не рассматривала меня в первую очередь как любопытно пахнущий предмет.
И вот хоть на короткое время оказаться таким любопытно пахнущим предметом, на которого взирают с благоговейным любовным вниманием, точно в первый день творения, вниманием настолько пристальным, что, глядя в собачьи глаза, вы забываете все на свете, и в то же время настолько необязательным, что вы, зная, что о вас в следующую минуту навсегда забудут, чувствуете себя свободным как ветер, свободным, как вы никогда не были свободны среди людей, – да, в этой мимолетной встрече с миром животных есть что-то абсолютно первобытное и даже, я бы сказал, райское, хотя не обязательно в библейском смысле.
Тем более что появляется странное, непонятное, но вполне ощутимое блаженство полноты общения, точно вы встретились и поговорили с человеком, которого не видели двадцать лет и за это короткое время успели понять его в главном, как никогда бы не поняли, если бы прожили все эти годы рядом с ним (так художник понимает своих персонажей и так никогда не понимают они себя и друг друга): только в одном случае полноте общения сопутствовали два десятилетия, а в другом – две минуты (тождественные, правда, отсутствующей вечности), однако результат один.
Вот в такие именно моменты не умом одним, а всем существом своим начинаешь догадываться, почему люди нас так часто разочаровывают, а домашние животные практически никогда, – и хотя из этого никак не следует, что животных нужно любить больше, чем людей, мы все-таки, точно назло кому-то, упорно продолжаем это делать.








