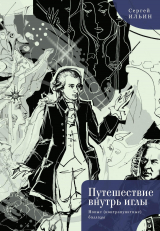
Текст книги "Путешествие внутрь иглы. Новые (конструктивные) баллады"
Автор книги: Сергей Ильин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
V. Баллада об Анфасе и Профиле
1
Когда мы смотрим на медали и монеты римских императоров, то их профили как-то особенно легко и незаметно позволяют нам скользить по времени их правления, точно по гребню волн, раздвигая мыслью и воображением известные нам факты эпохи, мы скользим в узкой лодчонке нашего индивидуального сознания по морям и океанам минувшей жизни и, кажется, любой анфасный лик в качестве компаса задержал бы наше плавание, заставил бы остановиться на каких-то отдельных чертах характера правителя или его эпохи, но профиль… по профилю можно скользить без препятствий и сколько угодно, а в образе скольжения мы всегда безошибочно узнаем почерк бытия, которое, как последний иерархический чин, скрепляет своей подписью любое событие текущей под его невидимым присмотром жизни, – вот почему все в мире движется в едином направлении, но бесконечная прямая, куда бы она ни отправлялась, рано или поздно замыкается на саму себя: таким образом описывается виртуальная окружность, которую мы никогда вполне физически не ощущаем, но помимо которой наш космос решительно не в состоянии вообразить.
В самом деле, и небесные тела, и само мироздание в целом мы не можем помыслить иначе, как по образу и подобию шара, – тем самым вполне удовлетворительно решается знаменитая антиномия конечности – бесконечности Универсума: ведь сколько бы ни скользить – уже мыслью, но никак не космическим кораблем – по краю космоса, никогда не натолкнешься на какой-нибудь предел, но само скольжение Мысли или Духа будет совершаться по какой-то окружности, означающей предел нашего мышления и знания на данный момент: диаметр гигантского шара, в котором мироздание и мысль человека о нем слились воедино, будет, очевидно, непрестанно увеличиваться, но принцип вряд ли изменится, – точно так же мы уезжаем, чтобы возвратиться домой, так Гете сказал насчет отпусков: перефразируя его мысль, можно заключить, что мы рождаемся, чтобы умереть, однако, строго говоря, мир, из которого вышел младенец, ничего общего не имеет с тем миром, куда, по всей вероятности, войдет старец, и если бы речь шла о чистом и последовательном возвращении к первоисточнику, то мы должны были бы, достигнув определенного возраста, возвращаться назад, как в известном романе Скотта Фицджеральда, то есть от старости в зрелость, оттуда в юность, дальше в детство, из детства в младенчество, и наконец в зародышевую клетку, а затем в чистое ничто: но мы все-таки уходим в старость и разве что, проделывая этот тысячу раз пройденный путь, обнаруживаем, что все, что мы осуществили в жизни, было не столько свободным творческим созиданием, сколько высвобождением того, что было заложено в нас с детства, как семя в растении, а это как раз и значит, что, уходя в старость, мы в каком-то очень глубоком и подспудном смысле возвращаемся в детство.
2. Перед зеркалом
Когда мы в зеркале подчас свой видим профиль,
соблазн в нас тонкий подымает круговерть,
и гордость шепчет в сердце, точно Мефистофель:
«Смотри так на себя и – и победишь ты смерть!»
И точно – в выгодном всегда представит свете
все наши мысли и поступки взгляд косой, —
так что по воздуху придется на рассвете
махать ожесточенно Женщине с Косой.
Когда же обратим в себя мы взор анфасный —
так в подсудимого вонзает взгляд судья:
прямой, суровый и отнюдь не беспристрастный —
то в нем любое человеческое Я,
кривляясь в пламени, мучительно сгорает,
хоть оправданье ищет, как в избе иглу, —
и лучшие частицы жизни собирает,
но видит в них одну истлевшую золу.
3
Да, мы знаем, что мы смертны, что наши испытания и страдания когда-нибудь раз и навсегда закончатся и что то тело, в котором накапливаются болезни и боли, которое обезображивается с годами и как бы невольно нас компрометирует, тоже когда-нибудь исчезнет с лица земли, – но одновременно и с той же самой искренней целеустремленностью мы замедляем нашу смертность, цепляемся до последнего за жизнь, предпочитаем любые болезни и боли их исчезновению, то есть смерти.
Находясь в смертельной опасности, мы приближаемся к самым ужасным мгновеньям нашей жизни, каковые символизируют нож убийцы, падение лайнера или пасть крокодила, ужасней этого вроде бы ничего быть не может, но, приближаясь к ним, мы, как однозначно показывают опросы людей, стоявших на пороге, как им казалось, неминуемой смерти, и оставшихся в живых, одновременно приближаемся и к переживанию неописуемого блаженства, заменяющего в последний момент ужас, как в один голос свидетельствуют те же очевидцы.
Мы ценим любовь, на словах признаем ее высочайшим на земле благом, мы от всей души хотим верить той религии, которая, можно сказать, в математической зависимости от степени осуществленности любви в этой жизни определяет нашу посмертную участь, – и однако одновременно количество любви в нас как бы тоже есть своего рода математическая постоянная, мы не можем давать больше любви, чем это нам дано от рождения, и даем ее обычно тем людям и постольку, которые и поскольку либо вызывают нашу естественную симпатию, либо сюжетно вплотную к нам примыкают, каковы родственники, друзья, женщины и тому подобное.
В первые минуты великой влюбленности мы заглядываем в глаза любимой женщине – и видим там, наряду со взаимной любовью, еще и некое неописуемое в словах волшебство, – и вот оно-то, это самое волшебство, одновременно с развитием отношения начинает необратимо сходить на нет, и нет решительно никакой возможности остановить исчезающее на глазах волшебство влюбленности.
Мы в интимных связях теснейшим образом привязываемся к особам противоположного пола – таков, казалось бы, великий смысл половой любви – но одновременно и параллельно та же самая физическая любовь по самой своей природе, постепенно и неизбежно ведет к ослаблению чисто человеческой близости, а то и к ее полному разрушению, – и только те пары могут стать счастливыми исключениями из этого печального правила, которые научились великому искусству любящего управления человеческим началом начала полового.
Даже став буддистами, мы стремимся к освобождению от желаний, но одновременно мы всего лишь очищаем душу и сердце для более тонких и чистых желаний, которые, подобно сновидениям, спят в общечеловеческих архетипах, так что полное отсутствие желаний – как и жизни, расцветающей на их основе – по-видимому, просто онтологически невозможно.
Испытывая сострадание к страдающим мира сего, мы замечаем, что страдание безбрежно, как мировой океан, и что ежеминутно на свет божий рождаются для страдания миллионы живых существ! да, мы ощущаем искреннее сострадание ко всем, кто страдает, но одновременно испытываем и некоторое глубочайшее метафизическое недоумение, которое возникает на почве осознания неизбежности страдания как такового, и как следствие бросает некоторую тень сомнения на само чувство сострадания.
4. Лесная дорога
Как выразительна дорога
посреди леса без людей!
она не ведает ни бога,
ни человеческих идей.
Ее завидев, сердце знает,
что цель заветная близка,
и ноша, что обременяет,
так вдруг становится легка!
Пойдем по ней и мы с тобою:
там, если правильно идти,
нас ждут с раскладкою любою
развилки нового пути.
5
Узнавая по телевизору или из газет о какой-нибудь очередной чудовищной катастрофе, мы искренне сочувствуем жертвам, но одновременно испытываем и некоторое постыдное любопытство, которое идет рука об руку с сочувствием, невольно его компрометируя, и это давно уже известно и принадлежит человеческой природе, а лучше всего об этом сказал римский поэт Гораций: «Сладостно наблюдать с надежного берега за терпящими в бурном море кораблекрушение», – и тем не менее килограммовое любопытство не упраздняет граммового сочувствия: эти нравственно мнимо несовместимые чувства все-таки в нас прекрасно уживаются.
Мы постоянно надеемся на удачную личную судьбу, но параллельно на каждом шагу наталкиваемся на необозримое множество чудовищных несчастных случаев: сознавая, что такое могло бы вполне случиться и с нами и что мы, положа руку на сердце, не заслужили лучшей по сравнению с неудачниками доли, мы все-таки одновременно продолжаем в глубине души просить «наших» богов о поддержке, а заодно и самодовольно верить, что наша карма чуть лучшая по сравнению с ними.
Мы нуждаемся в людях и потому с таким сладостным самозабвением растворяемся иной раз в толпе, но одновременно мы склонны достигать так называемой «критической точки общения», после которой толпа невыносимо раздражает нас и мы, чтобы не сойти с ума, должны остаться наедине с собой.
Мы непрестанно разочаровываемся в посторонних людях, но одновременно догадываемся, что иными эти люди быть не могут, именно потому, что они – посторонние, и тогда мы поневоле примиряемся с ними, но наше разочарование в них до конца все-таки не исчезает.
Мы стараемся искренне забывать обиды и даже прощать их, но одновременно замечаем, что никакие конфликты в жизни не проходят бесследно и что, искренне стремясь к восстановлению добросердечных отношений с былым оппонентом или врагом, мы все-таки наталкиваемся на невидимую границу, показывающую, что дальнейшее улучшение общения невозможно, и тогда вместо углубления отношения начинается недоуменно-болезненное движение психики по замкнутому кругу.
Мы на протяжении всей жизни только и делаем, что обустраиваем родимый очаг: семью и дружество – и как бы накапливаем тепло на узком и тесном, окружающем нас участке жизни, но одновременно мы движемся к финалу, где этот очаг будет неизбежно разрушен – и в таком странном, самоупраздняющем движении не находим ничего предосудительного.
Мы очарованы бесконечным разнообразием мира, но одновременно замечаем, что сами суть то окно, через которое мы видим мир: окно это постепенно запотевает и покрывается пылью, – и мысль, что мы всю жизнь видели не мир сам по себе, а всего лишь пейзаж из грязного и запотевшего окна, все чаще нас навещает, хотя ничего не меняет.
Как следует узнав себя к середине возраста, опробовав собственные сильные и слабые стороны, у нас обычно появляется ощущение, что жизнь сложилась не так, как она должна была бы сложиться, нам кажется, что в иных условиях мы раскрылись бы полней и самодостаточней, но одновременно в глубине души мы все больше убеждаемся, что все вышло именно так, как и должно было выйти и что иначе быть не могло, так что все самое существенное в нас эта наша жизнь с преизбытком выставила наружу.
6. Заветная просьба
В погоне за духовным урожаем —
кто с этим феноменом не знаком? —
себя мы иногда воображаем
большого мастера учеником, —
и как бы соблазненные богами,
отвергнув путь обыденный, но свой,
спешим мы семимильными шагами
пусть и к прекрасной цели, но – чужой.
Так собираются фанаты в зале,
чтоб насладиться зрелищем звезды, —
но зрителем быть в этом ритуале
ни для кого особой нет нужды.
Куда как лучше за поливкой грядки,
за книгой иль кормлением кота
встретить Того иль Ту, кто без оглядки
доставит нас… в знакомые места, —
где та же нам откроется дорога,
и будем мы, идя по ней, стареть,
а под конец опять попросим Бога,
чтоб дал нам своей смертью умереть.
7
Так что в итоге, родившись, мы двигаемся во времени к расцвету жизни и далее к ее концу, то есть мы с каждым шагом приближаемся и к жизни, и к смерти: казалось бы, взаимоисключающие координаты и разные пути, но нет – это именно один и тот же путь, потому что приходится допустить, что, идя к смерти, мы одновременно идем и к нашему следующему рождению, – и путь жизни уподобляется кривой, замыкающейся на себя и вырисовывающей… что? разумеется, всего лишь наш собственный профиль и ничего больше, но могло ли быть иначе?
Ведь как художник в дневниковых записях и черновых вариантах набрасывает пунктиром характеры персонажей, разрабатывает сюжетные перипетии, меняет местами сцены, сдвигает и раздвигает время действия, – так точно мы живем и движемся в повседневной жизни, но стоит нам внимательно взглянуть на себя со стороны, задуматься, почему наша жизнь так сложилась, как она сложилась, припомнить основные фазы биографии, вспомнить мнения о нас людей нас знающих и любящих, а также критически к нам относящихся, представить себе иное течение жизни и скоро его отвергнуть как надуманное и несущественное, – итак, стоит нам проделать этот болезненный, но невероятно полезный для души эксперимент, как тотчас из расползающихся во все стороны черновых биографических зарисовок выступит более-менее ясная сюжетно-образная канва.
8. Лесная тишина
В лесу осеннем, просквоженном низким солнцем,
иной раз странная повиснет тишина:
так в доме нежилом, за выбитым оконцем
мерещится нам жизнь, – но где и в чем она?
Ее постичь – как с собственной обняться тенью:
быть может, тайный Замысел о нас таков?
пусть даже по чьему-то щучьему веленью
неисполнимым был он испокон веков.
Невидимая жизнь нам не дает покоя,
сама предельный демонстрируя покой, —
так с нашей вытянутой в зеркале рукою
нельзя соединиться чувственной рукой.
И цель последнюю достигнув ненароком,
цель жизни: с чем-то Высшим слиться в тишине,
но так, чтоб это школьным не было уроком,
бредем мы дальше, но вовнутрь, а не вовне.
И вот, чтоб снова эту истину проверить
на личном опыте – все прочее не в счет,
я в ближний лес иду – там тишину измерить,
миры иные больше не беря в расчет.
А то, что среди леса узкая дорога —
теперь, как в первый день творенья, без людей —
в буквальном смысле означает слово Бога, —
я к лучшей отнесу из всех моих идей.
Хотя, по правде, когда мы пойдем с тобою
по ней, то не придется долго нам идти:
известно все – и мы с раскладкою любою
упремся только в выбор нового пути.

9
Ситуация коренным образом меняется, когда тот или иной отрезок жизни заканчивается и замыкается на самом себе, становясь по субстанции уже фазой бытия, но и тогда остается некоторая стилистическая незаконченность, которая оставляет на языке привкус эстетической неудовлетворенности, последняя исчезает вполне лишь тогда, когда заканчивается вся жизнь, – только полный и необратимый финал расставляет окончательные акценты: вот почему смерть, являясь антиподом жизни, выступает одновременно главным творческим инструментом бытия, она для него – как слова для поэта, как краски для живописца, как звуки для композитора, как мрамор для ваятеля.
Великим таинством смерти бытие запечатывает жизнь, придавая ей раз и навсегда тот высший и глубоко художественный смысл, который равно далек как от теологического оправдания жизни, так и от полного нигилизма, смысл этот тем более заслуживает внимания, что как-то сразу и насквозь пронизывает нас – от кожных рецепторов до самых субтильных и одухотворенных глубин нашего существа, – и вот оптическим аналогом человеческого бытия является, как нам кажется, взгляд в профиль.
VI. Баллада о Возвращении
1. Эпиграф к Возвращению
Снова домой
после дальней поездки вернувшись,
мир и покой
на душе ощущаете вы,
мир и покой —
они очень похожи на небо,
прочих же чувств
совокупность – она как земля, —
но как не то
небо за самолетным окошком:
скучно оно
и ужасна его пустота,
в то время как
в него глядя из грешного мира —
снизу наверх —
все величие видишь его, —
так, если вы
слишком долго в покое и мире
будете жить,
они пресными станут для вас, —
вот почему
посреди приключений житейских —
да, только там —
мы предвечный находим покой,
и дом родной
в юном возрасте мы покидаем,
лишь для того,
чтоб под старость вернуться в него:
оба пути
в основанье и жизни и смерти,
видно, лежат, —
было так, есть и будет всегда,
и никогда
им в окружность одну не замкнуться,
как никогда
сердцу слиться с умом не дано, —
ну и потом —
возвращение больше чуть весит,
нежели путь,
что предшествовал в жизни ему:
значит ли то,
что когда-нибудь жизни не будет
и бытие
в чистом виде заменит ее?
этот вопрос —
как эпиграф ко всей нашей жизни —
пусть же теперь
и поставит все точки над i.
2. Пролог к Возвращению
Возвращаясь домой после очередной воскресной прогулки, я иду обычно через центр города, где каждый отрезок маршрута, будучи пройден многие тысячи раз, напитан воспоминаниями, как кусок янтаря медом веков, конечно, иной раз думаешь: а не свернуть ли в какой-нибудь малознакомый переулок, чтобы придать ритуальному пути хоть какое-нибудь разнообразие? однако, поразмыслив минуту-другую, я продолжаю идти по знакомому маршруту, точно какая-то посторонняя сила не позволяет свернуть в сторону, – так, наверное, малоопытный рисовальщик, отрабатывая чей-нибудь профиль и найдя правильный абрис, уже не рискует новым штрихом отклониться от него и лишь по инерции повторяет карандашные росчерки, отчего рисунок делается толще и отчетливей, причем эта примитивная в своей основе весомость не только не боится однообразия, но даже откровенно и точно кому-то назло всячески ее подчеркивает.
Впрочем, из тех же самых штрихов состоит и обыкновенная жизнь: рождение, шалости детства, любовь, семья, работа, болезнь, старость, смерть, – все это уже было и будет тысячу раз – это и есть профильный рисунок любой жизни, неоднократно наносимый и повторяемый на фоне никогда не прекращающегося бытия, – и вот, запомнив его, можно сказать, на генетическом уровне, мы инстинктивно воспроизводим его где надо и где не надо, в данном случае, пожалуй, скорее где не надо: когда я, например, возвращаясь с воскресной прогулки домой, стараюсь ни на шаг не отклониться от привычного маршрута.
3. Притча о Возвращении
Колокол громко звонит – но по ком?
сын возвращается в отческий дом:
сколько провел на чужбине он лет,
в землях каких ни оставил свой след…
Свет повидать для мужчины не грех —
вот домоседа поднимут на смех,
плохо, когда, инородством греша,
к землям чужим прирастает душа.
Год на двадцатый несчастная мать
сына устала на родину звать, —
в доску отчаявшись – шутка ль сказать?
мать перестала звонить и писать.
Да и отец выбивался из сил,
выпороть сына он даже грозил:
«Нет, уж позволь, – говорил он в сердцах, —
не на таких ведь, как ты, подлецах
держится русская наша земля:
всем докажи, что ты лев, а не тля —
страх победи ты вернуться домой,
чтоб я сказал – сын воистину мой!
да и к тому же, с библейских времен
знают сыны всех великих племен:
вновь на круги возвратиться своя
есть непреложный закон бытия».
Мрачным предчувствием с детства томим,
в путь отправляется сын-пилигрим:
всем европейская жизнь хороша, —
что же так плачет родная душа?
Должно вернуть ей мистический долг,
только кому – не возьмет она в толк,
чувствует: минула чтобы беда —
лучше сейчас, чем совсем никогда.
Подлый свой страх наконец одолев, —
стал он не тля, а воистину лев, —
сын возвратился в отеческий дом —
колокол плачет: и знает, по ком…
4. Квинтэссенция Возвращения
Если Будда действительно прав и мы обречены рождаться снова и снова, пусть в разных обличьях, и ничто не может не только упразднить, но даже просто ослабить этот великий космический закон, и мы на самом деле уже не раз приходили на эту землю и просто не можем вспомнить, когда, где и как именно это было, – короче говоря, если все это действительно так и никак иначе, то сама невозможность вспомнить о прежних инкарнациях, по-видимому, только и спасает нас от безумия осознания тысяч и тысяч нанизанных друг на друга, подобно пестрым бусинкам, жизней, потому что все эти жизни, будучи связаны таинственным законом кармы, психологически для нас никак не связаны, и – всего лишь в качестве гипотетического примера – чем больше мы бы о них узнавали, тем абсурдней они бы нам казались, так что всего лишь узнавание того факта, что наша мать, которая в силу предвечной раскладки ролей, должна быть нашей матерью и никем больше, была когда-то… да кем угодно, но только не нашей матерью, мгновенно и радикально обратило бы весь этот мир в абсурдный спектакль: недаром тень абсурда лежит на нашей жизни, и мы эту тень смутно улавливаем боковым зрением.
Но если бы наша память вдруг раскрыла скобки наших предшествующих существований, и тень абсурда, разросшись и поглотив привычные контуры бытия, выступила бы на сцену мира во всем своем сумасшедшем великолепии, то каждый из нас увидел бы себя в роли человека, покинувшего рожденьем дом родной и на протяжении всей жизни к этому дому родному возвращающемуся, и окончательное возвращение означало бы смерть.
Это как если человек после долгих странствий возвращается на свою старую родительскую квартиру, он намерен стучать в дверь до тех пор, пока ему не отворят, – и просить у отца с матерью прощения, если надо, на коленях, за то, что он забыл про них или же умереть на пороге родного дома, но, миновав лестничный пролет, отделявший подъездное окно от родительской квартиры, он знакомой двери не найдет, а на месте квартиры, из которой он когда-то, давным-давно вышел в мир, будет зиять сплошная каменная ниша, и ради пущего правдоподобия будет еще, наверное, пахнуть известкой.
И тогда блудный сын пойдет по лестнице наверх: в надежде, что он ошибся этажом, он отсчитает тысячу ступеней, а потом, вымотавшись и потеряв ощущение времени, присядет на холодный пол, он забудется и начнет вспоминать, как когда-то выбегал по этой лестнице во двор, как писал нецензурные надписи на стене, как ходил в родной сад, как ездил в город, чтобы посмотреть новый фильм, и припомнится ему, как это обычно бывает в столь важную минуту, еще множество иных, не идущих к делу подробностей, не сможет он только вспомнить одного: когда же именно, на каком этапе своего возвращения на родину он сам умер – и это будет самым неприятным во всей истории.
Да, действительно, возвращение только тогда полное и окончательное, когда человек покидает родные края надолго, а то и навсегда, не надеясь, а может быть, даже втайне и не желая возвращаться, и вот после как минимум двух десятилетий, подчиняясь настойчивому требованию обстоятельств – тут и мольбы родителей «увидеться напоследок», тут и непреодолимое любопытство соотнестись хотя бы один раз с друзьями и приятелями (как они распорядились жизнью? и чего в ней достигли? и в чью пользу вышло соревнование судеб?), тут и уникальная возможность посмотреть, как насиженные места, будучи символом мира как такового, изменились за двадцать лет – человек этот, наконец, решает возвратиться.
Но делает это не торопясь, оформляя свое возвращение по всем правилам искусства: он, во-первых, приезжает в родной город не с обычной, западной стороны, а с противоположной восточной, потому что там у них с отцом и матерью был когда-то сад, и в этот сад он приходил работать с весны по осень еженедельно в течение долгих-долгих лет, а однажды даже застал в саду отца с любовницей, короче говоря, поскольку сад оказался самым незабываемым и тоскливым его воспоминанием, и еще, поскольку он странным образом связывал их развалившуюся семью, а также, поскольку сад стал со временем и в европейском далеке воплощать с его точки зрения всю российскую сновидческую реальность, – постольку он через Европу, Америку, Японию и Сибирь возвращается в родную квартиру именно через сад, и в нем предварительно встречается с давно живущими в разводе отцом и матерью – он даже поставил условием своего возвращения приезд их в сад в установленный день и час – а потом, молча посидев за самодельным столом, выпив водочки, вкусив и колбаски, и нехитрый салат из только что собранных овощей – новый владелец сада за скромную плату предоставил сад в полное распоряжение его прежних владельцев – они идут уже на старую квартиру, где он родился и вырос и в которой проживала теперь одна мать.
И там их ждут многие из тех, кого он знал до отъезда, и стол накрыт яствами, и чтобы передать друг другу все накопленные за двадцать лет впечатления, не хватит, кажется, и года… и вот они окунаются воспоминаниями в прежнюю жизнь как в омут, все глубже и глубже – и то сказать: только она, эта былая жизнь до отъезда на Запад ему только и снилась, тогда как его хваленое существование заграницей, в котором он якобы «души не чаял», не приснилось ему ни разу! – и кажется уже нашему великому возвращенцу, что былые участники его довыездного жития-бытия так плотно его обступили, что из их смертоносного кольца ему уже не выбраться, что и речи нет о том, что ему нужно рано или поздно возвращаться в Европу, где у него тоже семья: жена и сын и кое-какие новые знакомые, и работа, да и вообще: новая жизнь, куда там!
Незаметно, под шумок и стопочки! стопочки! стопочки! строятся планы его женитьбы на девушке, с которой они сидели когда-то за одной партой и которая умудрилась так ни разу и не выйти замуж (поистине знак судьбы!), и она сама жмется к нему за столом, а все либо отводят глаза, либо понимающе им подмигивают, а кроме того со всех сторон заводятся странные, многозначительные, неслыханные, безумные разговоры о том, что «человек только для того и уезжает, чтобы возвратиться», и вот уже его первая учительница: старушка, которую он еле узнал, подымает дрожащей рукой тост за «того, кто нашел в себе силы наконец вернуться в родимое лоно», а неузнаваемо грузный полковник (давно в отставке) внутренних дел с начисто стертыми чертами лица предлагает выпить за «человека, который сыграл особую роль в истории нашего города, которого в свое время мы выпустили заграницу с дальним умыслом: чтобы в один прекрасный момент он сам и добровольно вернулся, продемонстрировав всему миру, что как ни хороша для русского человека заграница, а по большому счету лучше отчизны для него в мире ничего нет и быть не может», и следом родной его отец, почему-то метая на сына недоброжелательные взгляды и в неприятных подробностях пересказав, как они с матерью на протяжении десятилетий уговаривали его хотя бы раз посетить родину («ну точь-в-точь тащили его из Европы, как больной зуб изо рта»), добавляет, «что пусть заграницей хорошо жить, зато умирать нужно только там, где родился».
И вот тут уже наш герой по-настоящему настораживается, нехорошее предчувствие (которое он всю жизнь имел: потому, наверное, и не хотел приезжать) пронизывает его до костей, и он решает бежать: сию же минуту и под первым благовидным предлогом он покидает родную квартиру, но застольники, конечно, его не хотят отпускать, пытаются удержать и даже бегут за ним, но он все-таки в последний момент вырывается и захлопывает за собой тяжелую дверь… куда теперь? скорее в аэропорт, благо паспорт и деньги при нем, а вещи… до вещей ли теперь? и вот он бежит сломя голову вниз по лестнице, но что за чудо? вместо двух лестничных пролетов он насчитывает пять, десять, двадцать, тридцать… спускаться дальше ему уже страшно и он возвращается назад, по пути, впрочем, его осеняет спасительная мысль: здесь было когда-то окно, да, вот оно, и подле него лежит лунная полоса – светлая и ровная, настолько слившаяся с подъездным интерьером, что, кажется, отделить ее от пола можно разве лишь отбив ломиком верхний слой, а какая огромная луна висит над землей! и в лунном свете перед ним коснеет знакомый двор без единой людской души, сплошь залитый лужами, в которых без особых искажений, придавленный луной как пресс-папье, отражается слитный силуэт дома, тополей и сараев и в них же, нисколько не портя пейзажа, застыли старые газеты, стаканчики из-под мороженого и прочий мусор.
И вот он разбивает первое и внутреннее окно, отодвигает раму, собирается таким же способом расправиться и со вторым внешним, как вдруг… кулак его с размаху натыкается на стенку, смяв и продырявив картон: какой ужас! это было не настоящее окно, а всего лишь безукоризненно выполненная декорация дворового ночного лунного пейзажа, приклеенная каким-то шутником в каменной нише… откуда она взялась? кто был автором рисунка? когда и как окно подменили нарисованной копией? и, главное, с какой целью? все это были вопросы, на которые только пронзительная щемящая боль в сердце да смутное сознание сгущающейся над ним безнадежности были ответом.
И тогда, цепляясь за жизнь, он со стыдом плетется на старую свою квартиру, откуда только что сбежал: он теперь намерен стучать в нее до тех пор, пока ему не отворят, и просить у отца с матерью на коленях прощения или умереть на пороге родного дома, но, миновав лестничный пролет, отделявший подъездное окно от родительской квартиры, он знакомой двери не находит: квартира, из которой он несколько минут назад выбежал, непостижимым образом отсутствует, а вместо двери зияет сплошная каменная ниша и пахнет известкой.
И тогда, тихо заплакав, он идет наверх, без цели и без смысла, просто потому что физическое движение было последней посланной ему Провидением отрадой: шагать или бежать, то вверх, то вниз, отмеривая ступени – он насчитал уже больше тысячи! – было все же легче, чем стоять на месте… в конце концов, вымотавшись и потеряв ощущение времени, он приседает на холодный пол: наверное, он ненадолго сумел забыться, потому что ему показалось, что он идет в свой родной сад, но деревья, обрамляющие аллею, стоят голые и корнями наверх.
Припомнились ему, как это обычно бывает в столь важную минуту, и множество иных, не идущих к делу подробностей, зато не мог он вспомнить лишь одного: когда же именно, на каком этапе своего возвращения на родину он сам умер, – и это было самое неприятное во всей истории… – да только тогда и при таких условиях возвращение становится полным и окончательным.
5. Баллада о Возвращении
В далеких семидесятых
двадцатого века он
путем формального брака —
не будучи даже влюблен —
землю родную оставил
ради чужой стороны:
с детства любил он Европу,
как светлые любят сны.
Здесь и засел он надолго:
на добрые двадцать лет,
на просьбы родных вернуться
ни «да» отвечал, ни «нет».
Он возвращенья боялся
даже и как визитер, —
но кто же тоску об отчизне
ему из памяти стер?
Зажил он припеваючи
на Западе, как в раю, —
а мать и отец все ждали
сыночка в родном краю.
Ждали – и письма писали,
а он лишь время тянул,
и каждый из них упрямо
свою все линию гнул.
Его погостить просили,
как принято у людей:
лучше – хотя бы на месяц,
хуже – на пару хоть дней.
Но была в его ответах
какая-то ерунда:
мол, если уж возвращаться,
так истинно навсегда.
Еще условье поставил:
встретиться в бывшем саду,
который давно был продан, —
впрочем, за добрую мзду
новый хозяин уступит
бывшим владельцам их сад
на день, чтоб они забыли
пыльный семьи их распад.
А было в семье их единство,
в супругах была любовь, —
пока в отце не взыграла
к другим вдруг женщинам кровь.
Взрастили сад они вместе —
то есть отец и мать,
и в том же саду он начал
женщин чужих принимать.
Пришлось развестись им скоро,
отец ушел из семьи,
а он подался на Запад,
ища там пути свои.
Не часто ведь так бывает:
родившись в одной стране,
имеешь ты принадлежность
совсем другой стороне:
как будто не там родился,
не счастлив ты там душой, —
здесь проявление тайны,
быть может, самой большой.
К чему клоню я, читатель?
к тому, что совсем не вдруг,
на родину возвращаясь,
земной описал он круг.
Так точно, двигаясь к смерти,
от точки, где рождены,
мы к новому лишь рожденью
идем с другой стороны.
Западней сад находился
дома, где жили они, —
что, если к саду подъехать
с Запада? большей фигни
выдумать, кажется, трудно,
да и оно ни к чему:
два миновать океана
точно придется ему,
плюс к тому целые Штаты,
Азии добрую часть, —
можно о том на досуге
пофантазировать всласть,
но чтобы сделать на деле
оригинальный столь ход…
так удаляют лишь гланды —
через анальный проход.
Все же не может быть большей
в мире земном красоты,
чем торжество над привычной
жизнью безумной мечты:
вот этот жизненный подвиг,
оставшись самим собой,
совершил легко и просто
наш неприметный герой.
И было в саду свиданье,
и скромный, как жизнь, обед, —
потом пошли они к дому
во тьме сквозь полдневный свет.
Им встретился мальчик странный:
собрался он рыб удить
в дождливой громадной луже,
где рыб не могло и быть.
В трамвае сидели люди,
болтая о том и сем,
но лишь он к ним обращался,
в горле вставал у них ком:
будто на чуждом наречье,
он все обращался к ним,
они ж от него скрывали,
каким он был им чужим:
сочувствуя отводили
догадливые глаза,
и взгляд его застилала
обидчивая слеза.
Вот наконец и достигли
они родного двора:
детство припомнить и юность
пришла для него пора, —
минувшая жизнь с отъездом
не только распалась в прах,
мстить за себя ему стала,
являясь все чаще в снах,
тогда как все эмигрантство,
в котором он счастлив был,
ни разу и не приснилось:
но кто же смысл его смыл?
И если у сна со смертью
глубокая общность есть,
не выиграл он ни йоты,
в Мюнхене вздумав осесть:
сойдет с него эмигрантство,
как старая чешуя,
останется русская сущность —
бессмертная, как змея.
И мыслью этой пронзенный,
в которой обмана нет,
опять обратил вниманье
на странный вокруг он свет,
и тонкая – ниоткуда —
вонзилась в него печаль,
и больше всего на свете
себя ему стало жаль.
Зачем он сюда приехал?
вернется ли он назад?
в душе поселились разом —
чистилище, рай и ад.
Благо, желая развеять
черные мысли его,
отец ему знак вдруг сделал,
не вымолвив ничего.
И точно: перед подъездом,
взгляд держа у земли,
бывшая одноклассница
что-то чертила в пыли
носком старомодной туфли,
точно карандашом,
и жадно пломбир лизала
острым своим язычком.
И спрашивать она стала,
помнит ли он, кто она,
и что у него за паспорт,
и ласкова ли жена,
чем хороша заграница,
какой он проделал путь,
и не хотел бы в награду
мороженого лизнуть?..
От этих странных вопросов
кругом пошла голова,
а в тополях шелестела
цинковая их листва…
И солнце в небе сияло,
и не было облаков, —
это и было мгновенье,
в котором – веки веков.
Даром за все это время
тайны срывая печать,
слова ему не сказала
его же родная мать?
Напрасно хотел он вспомнить,
что было – здесь, а что – там,
поскольку не ясно было,
когда же он умер сам.
6. Легенда о Возвращении
Однако как нельзя сразу и наобум совершить какое бы то ни было великое достижение, в том числе даже такое и всем, казалось бы, доступное, как идеальное возвращение на родину, но к нему (достижению) надлежит прежде долго и терпеливо готовиться, так точно последнему и окончательному возвращению обязательно предшествует своего рода генеральная проба, и она может выглядеть, например, таким образом: молодой человек, покинув отчий дом, скитается долгие годы с какой-нибудь бродячей актерской группой, а потом, возвратившись домой, застает отца разбитого параличом и почти лишенного памяти, однако у старика хватает все же сил кротко упрекнуть сына в долгом отсутствии и даже ворчливо попричитать, как трудно было ему, одинокому старику, содержать дом и вести хозяйство, а сын его, устыдясь своего бесплодного отсутствия, возьми да и скажи отцу, что он никуда не уезжал, а все это время был здесь, при отце, тот только запамятовал, ему, сыну, мол, неудобно вдаваться в подробности отцовского недуга.








