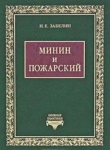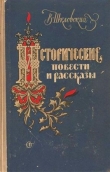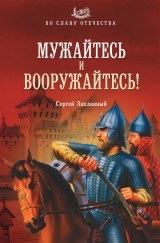
Текст книги "Мужайтесь и вооружайтесь!"
Автор книги: Сергей Заплавный
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Бог в долгу не останется
Лиха беда начало. Собирая серебро для князя Пожарского, Тырков и дружину себе начал собирать. Второго после Микеши Вестимова добровольника он присмотрел на тележном дворе Ямской слободы. Это был рослый детина в широком крестьянском азяме из полосатой домотканой коломенки. Легко приподняв одной рукой извозничью телегу, другой он сперва на переднюю, потом на заднюю ось по новому колесу надел и бережно опустил на землю. За его действиями во все глаза наблюдала слободская ребятня – мал мала меньше. Не успел детина со своим делом управиться, как она дружно сыпанула в кузов, обшитый лубом.
– Покатай, дядька Харлам!
Тот ласково оглядел нетерпеливых седоков и с готовностью встал в оглобли. Сделал первый, затем второй шаг, а потом сноровисто покатил телегу по двору, проверяя ее ходовую часть, а заодно веселя детишек.
– Шибче! Шибче! – разохотились они. – А ну-кась вильни, как давеча вилял!
И это их желание Харлам с охотой исполнил. Резко поворотив передок телеги вправо, он тут же изменил направление. Задняя тележная ось, наглухо скрепленная с дрогами, от такого шараханья вздыбилась, грозя перевернуть телегу, но какая-то невидимая сила вновь привела ее в равновесие.
– Еще! Еще! – радостно завопили парнишонки, а притихшие девчушечки заранее округлили полные испуга и восторга глаза.
Харлам Тыркову с первого взгляда по душе пришелся. Мало ли на свете людей крепкого сложения и высокого роста, иначе говоря, лымарей? Но такой мягкой бережной силы, как у Харлама, такого умения на одну ногу с ребятней стать, не теряя при этом своей взрослости, Тыркову встречать еще не приходилось. Вот он и задумался. На том большом деле, которое ему выпало возглавить, не только ратники, искусно владеющие холодным и стрельным оружием нужны будут, но и работники, хорошо знающие тележное, кузнечное, сапожное, портняжное, шорницкое и другие разные ремесла. Без них в пути много времени и сил впустую потерять можно.
Прежде Тырков Харлама в Нижнем городе не встречал. Значит, он из людей гулящих, неустроенных, бессемейных. По всему видно, колесник и притом изрядный. У ямщицкой братии свой колесник есть, да силой и годами он крепко износился. Она давно ему помощника искала. Похоже, нашла. На вид Харламу лет тридцать, не больше. Такой и в дальнем походе хорош будет…
Заметив пристальный взгляд Тыркова, Харлам с легкого шага перешел на тяжелый, затем и вовсе остановился. Широкое лицо его со встрепанной бородой и длинными пшеничного цвета волосами, схваченными сыромятным ремешком, как-то вдруг померкло, сделалось неприветливым.
– Чего смотришь, прохожий? – спросил он с усмешкой. – Давно не виделись али как?
– Да уж давненько, – не замешкался с ответом Тырков. – С тех самых пор, как моя бабушка внучкой слыла. А может, и поранее. Нешто не помнишь?
– С какого бы я пошиба помнил? – непонимающе уставился на него Харлам.
– Коли подойдешь, так и объясню.
Любопытство заставило колесника подойти:
– Ну, вот он я. Говори!
– Про бабушку мы с тобой после потолкуем. А нынче спрошу в упор, без обиняков: хочешь ли ты святому делу послужить?
– Ежели оно и впрямь святое, почему нет? – удивился Харлам.
– Святое, святое, – заверил его Тырков. – Про нижегородское ополчение, что князь Пожарский на Руси собрал, слышать не приходилось?
– Чай, не безухий. На ямскую сторону вести не пеше идут, а коньми прилетают… Говори дальше.
– А дальше – «пожарцы» подмоги от Сибири ждут. Смекаешь? На меня это дело положено. Вот я и гляжу. Мастеровые лымари под вид тебя мне край как нужны. Богатств не обещаю, но сыт будешь. Соглашайся!
– Быстрый какой, – растерялся Харлам. – Ты ж меня вовсе не знаешь. А я – тебя.
– Ну так познаемся. В чем дело? Василей Тырков я, здешний письменный голова… А на тебе вся твоя родословная написана. Выговором ты вроде вятский, а судьбой скорее всего из крестьян, которых нарядом с пашни сорвали либо казенным делом на новые земли в Сибирь перевели. Так я говорю?.. Ну а дальше жизнь каким-то случаем вкривь пошла. Пришлось своих бросить и с места сняться. На последние копейки выправил проезжую грамоту, и вот ты здесь, Харлам. Как тебя по батюшке-то прозывают?
– С утра Гришаков был.
– Ну вот и ладно, Гришаков. По рукам, что ли?
– По рукам, воевода. Святое дело на дороге не валяется.
«Этот не подведет, – обрадовался Тырков. – Надо будет узнать, что ему жизнь скривило».
Оказалось – излишняя доверчивость. Дал Гришаков по добросердию своему поручительство за гулящего человека, который наг и бос в Усолье на Каме с семьей притащился и захотел там на государеву пашню стать. А в том поручительстве известно, что писано: ежели доверенный Харлама с места сбежит, то все убытки на него лягут. Ну а тот возьми и впрямь сбеги. Семьишку свою в четыре рта на произвол судьбы бросил, зато харламовскую жонку, которая чуть не вдвое моложе брошенки была, с собой прихватил. Брошенка Гришакову, ясное дело, ни к чему, а детишки, хоть и чужие, а все равно как свои. Очень он к ним душой привязался. Так и тянул сразу три лямки: пашню на государя пахал, пеню его же казне выплачивал, сирот при живом отце поил и кормил. Но любому терпению конец бывает. В самый разгар полевых работ городовой управщик сдернул его дорогу в Усолье чинить и чистить. А Харлам заартачился… Ах так?! Мигом набежали бездельные стражники, стали руки ему крутить. А он этого не любит. Вот и треснул их лбом об лоб. После такой передряги хошь не хошь прочь надо подаваться. С тех пор и бегает. Одно хорошо: бегая, тележником первой руки стал. Кто ж такого из Сибири в Усолье на расправу выдаст?
– Считай, отбегался, – узнав невеселую историю Харлама, объявил ямскому старосте Тырков. – Я его к себе забираю. Не себя ради. Дело требует. Еще два-три охотника с Ямской слободы мне пообещай. Сделаешь?
– Не сомневайся, Василей, – заверил его тот. – Будут тебе люди вместе с серебришком.
– Вот и ладно. Бог в долгу не останется…
На следующий день в дружину к Тыркову попросились казаки Стеха Устюжанин, Юряй Нос и Федька Глотов. Каждый троих стоит. Крепки, уживчивы, прямодушны, и Русь для них не пустой звук. Этих Тырков взял с радостью. Правда, Федька Глотов стал было просить и за Сергушку Шемелина, но Тырков отрубил:
– Слышать про него не хочу! Хорошо море с берега, а Сергушка издали. Мал еще старших задирать, – однако, вспомнив увещевания Павлы, смягчился: – Но ты его все же с глаз не спускай. Мало ли что…
Не успел Тырков с казаками разобраться, следом половники [12]12
Крестьяне, обрабатывающие чужую землю за половину доходов и сборов.
[Закрыть]воеводского подьячего Ивана Хапугина идут. Вместо того, чтобы сразу о деле речь повести, стали плакаться на свою худую жизнь. Слушал их Тырков, слушал да и посочувствовал:
– Не прав медведь, что корову съел; не права и корова, что в лес зашла… Чего от меня-то хотите, ребятушки?
– Как чего? – опешили они. – Места! Слыхали мы, будто ты, державец, большое серебро на увоз собираешь. А мы люди нехилые. По твоему слову хучь до Москвы иттить готовы. Лишь бы ты нас копеечкой за то не обидел.
– Так. Понятно, – сопнул рваной на бою с ордынцами ноздрей Тырков. – А пашня, что вы на Ивана Хапугина пашете, без вас как же будет? Под мое слово хотите ее бросить?
– Ну што ты! Как можно? Мы ж на ней своих половников оставим, а сами при тебе будем. Нам в караулах куда как привычней.
– Стало быть, у вас свои захребетники имеются? Чего ж тогда плакались? Своего времени не жалко, так мое б пожалели… Милости прошу к нашему шалашу мимо ворот щи хлебать…
Ушли мужички, костеря Тыркова на чем свет стоит. Враз он для них державцем перестал быть. Такое сплошь и рядом бывает. Отказы получать никто не любит.
Следующий разговор у Тыркова с большим сибирским воеводой Иваном Катыревым состоялся. С ним он привык все дела через Нечая Федорова решать. Однако на сей раз пришлось идти к нему самолично.
В воеводской палате, стены которой были обиты зеленым сукном, потолок голубым, а пол украшен лещадью, Тыркова ждали два короба с серебряными блюдами, вазами, кубками. Среди них то рог, окованный серебром, проблеснет, то пояс с серебряными бляшками, то коломарь, увенчанный изображением льва, то еще какая-нибудь замысловатая вещица. Все это подношения сибирских князьков, тайш, тарханов либо откупы торговых и промышленных людей, без которых теперь шагу ступить нельзя.
– Проходи, Василей Фомич, докладывай, – скупо улыбаясь, поднялся навстречу Тыркову дородный Катырев, облаченный в камчатый лазоревый кафтан с бобровой опояской, желтые козлиные штаны и сафьяновые сапоги, отливающие изумрудной зеленью. – Сколько чего успел сделать?
Выслушав Тыркова, тяжело вздохнул:
– Сам знаешь, казаков и стрельцов у меня нынче не густо. И взять неоткуда. Так что сильно губу на них не раскатывай. Самое большее, что я могу с тобой отпустить, десятка с полтора. Да еще дозволяю поискать охотников среди тех послужильцев, что из Томска, Сургута, Тюмени, Березова и других городов с посылками к нам явились и покуда назад не убыли. Не все же Тобольску за Сибирь отдуваться! Пусть-ка и другие воеводы не серебром, так служилыми людьми поделятся, – тут Катырев хитро глаза сощурил: – Вроде как в долг, но без возврата. А?
Тырков криво улыбнулся, а про себя подумал: «Полтора десятка казаков с Тобольска всего… Не мало ли? Даровым серебром откупиться хочет. Да и что с катыря [13]13
Помесь жеребца и ослицы; мул.
[Закрыть]взять? Сейчас скажет: остальную дружину из пришлых и посадских людей набирай»…
Как в воду глядел Тырков. Помолчав со значением, большой сибирский воевода повел свою речь дальше:
– Князь Пожарский земским войском богат. Заметь, Василей Фомич, земским! А кто, спрашивается, под его знамя встал? В первую голову миряне. Так и ты делай! Жилецких и промышленных людей на Тобольске, слава богу, хватает. Выбрать есть из кого. Ну, а мало будет, так по пути в Ярославль еще сколь надо доберешь. Для этого Нечай Федоров ныне же тебя походным воеводой напишет. Он мне давеча напомнил, что ты на сына Кучум-хана, Алея, в сто пятнадцатом [14]14
1606.
[Закрыть]году походным воеводой ходил, а до того на томском воеводстве в товарищах у Гаврилы Писемского сидел. Вот снова и повоеводствуешь.
От таких слов Тыркову совестно стало. Он Катырева в душе с мулом равняет, а Катырев его в походные воеводы тем же часом ставит. Неладно получилось, ох неладно. На доверие доверием следует отвечать, задние мысли отбросив.
– Не сомневайся, Иван Михалыч, – дрогнул голосом Тырков. – Служилых людей теперь по пальцам считать буду. Лишних не запрошу. Ополченье, так ополченье…
Но пообещать легко, а выполнять обещанное куда как трудней бывает. Мог ли Тырков знать, что атаманы Гаврила Ильин и Третьяк Юрлов надумают отдать ему в дружину своих сыновей Ждана и Надея, а полусотники Ивашка Лукьянов и Осташка Антонов своих – Ольшу и Христюху? Все четверо – хваткие, степенные, речью и видом похожие на отцов.
Пример заразителен. Решили не отставать от своих старшин и другие ермаковцы. Фромка Бородин привел к Тыркову своего добродушного увальня Савоську, Пашка Ерофеев – балагура и мечтателя Томилку, Дружина Васильев – невеликого ростом, но юркого и башковитого Хватку, Гришка Мартемьянов – знатока и любителя коней Конона, Федька Антропов – медлительного, но основательного во всем Матюху, Тарах Казарин – легкого на ногу узкоглазого молчуна Аспарку по прозвищу Бердыш, а сын покойного атамана Черкаса Александрова сам, без заступника, припожаловал.
От такого нашествия Тырков за голову схватился. Вместе с Устюжаниным, Носом и Федькой Глотовым у него уже четырнадцать служилых казаков набралось, а следом за ними еще столько же, если не больше, возбудилось. Да четыре стрельца. Одни опытом богаты, другие молодостью и душевным порывом, третьим Бог силы телесной добавил.
Одному, затем второму добровольнику из служилых Тырков как можно мягче отказал, а третий вскопытился:
– Чем я хуже ермачат? За отцовы заслуги нехитро наперед выскочить, а ты свои покажи! Я в поле двадцать лет без малого, а Матюха Антропов или тот же Томилка Ерофеев и по году еще не служили. Это как? Ты нас рядом поставь, сравни, тогда и видно будет, кому какое место дать.
– Неправильный разговор, – набрался терпения Тырков. – Не с того конца его вести надо.
– А с какого?
– А с того, что я не на службу людей набираю, а на служение. Чувствуешь разницу? Местничать тут никак не годится. Так что досады свои в сторону отложи. Сперва подумай. Ну поставлю я тебя рядом с Матюхой и Томилкой, сравню и што? Тебя похвалю, а их отрину? А на чем же тогда они свои заслуги покажут? Нет, друже, молодым дорогу надо давать, смену себе готовить. Иначе под корень изведется племя казацкое. Ты лучше из посадских людей, что у тебя в соседях, добровольников приведи. Земской люд тоже к служению прилучать надо. Тут золотая середина должна быть – они и мы, бывалые и только-только мужающие.
Пришлось строптивцу отступиться.
Помня дозволение воеводы Ивана Катырева приискивать себе заединщиков из служилых людей других сибирских городов, оказавшихся по делам в Тобольске, Тырков без труда удвоил свое воинство. Среди иногородних казаков он сразу выделил своих бывших послужильцев Иевлейку Карбышева и Треньку Вершинина. Восемь лет назад судьба свела их на Сургутском плотбище, где чинились и строились дощаники для казаков, заверстанных на поставление Томского города. Среди множества разгоряченных работой лиц больше других Тыркову тогда запомнились эти. Почему? А потому, наверное, что была в них какая-то удалая красота, свежесть, неутомимость. С той же неутомимостью двигали они тяжелыми греблами, перебарывая могучее течение только-только вскрывшейся ото льда Оби, а после долгого изнурительного плавания сходу вместе с другими походниками принялись Томскую крепость рубить, подбадривая товарищей шутками и собственным примером. За два года, что Тырков пробыл на томском воеводстве, Карбышев и Вершинин ни разу по службе не оплошали, напротив, все делали проворно и с охотой. На таких во всем положиться можно…
Узнав, что делается в казацком стане на Чукманском мысу, пришел в движение и Нижний город. Кто-то из посадских сам захотел в дружину Тыркова вступить, а кто-то вслед за казаками старой ермаковской сотни сыновей или племянников поспешил выкликнуть. Всего за несколько дней более двух десятков земских добровольников набралось. Вот и отдал их Тырков под начало Треньке Вершинину и Стехе Устюжанину. А в десятники к ермачатам хотел было поставить Иевлейку Карбышева, но те, не дожидаясь его решения, выбрали себе в большаки Афанасия Черкасова, сына того самого Черкаса Александрова, что двадцать девять лет назад доставил от Ермака царю Иоанну Грозному весть о сибирском взятии, затем в самом конце сто седьмого года [15]15
1598.
[Закрыть]вместе с товарищем Тарского воеводы Андреем Воейковым окончательно разгромил войско живучего Кучум-хана на реке Ирмень близ впадения ее в Обь, а незадолго до своей смерти успел составить казачье написание пошествию дружины Ермака в Сибирь и оставил листы с тем написанием на хранение Вестиму Устьянину в Воскресенской церкви вместе с алтарными книгами.
Среди добровольников Верхнего посада Тырков выделил водовоза Федюню Немого. С утра и до вечера громыхает он со своей водовозкой от Иртыша на гору и обратно, а когда выпадет свободная минутка, свистульки ребятишкам ладит, корзины на загляденье плетет, туеса делает. Единственное окошко своей избенки резными досками украсил, а крышу теремком слепил. При случае и звонаря, и мельника, и мыловара, и много еще каких рукодельников подменит. Не стар и не молод, не слаб, но и не силен. Жил невенчано с остячкой из Бояровых юрт, да она от него снова к сородичам вернулась. Вот и остался один, как перст. Такому в дорогу собраться – только подпоясаться.
А среди добровольников из Нижнего города приглянулся ему табунщик монастырского стада, крещеный татарин Ивашка Текешев. Еще год назад он и двух слов по-русски сказать не умел, а теперь так и сыплет ими, пусть не всегда правильно, зато бойко.
– Бери меня к себе, главный человек! – потребовал он. – Хужум [16]16
Поход.
[Закрыть]месте идить нада. Моя твоя помогай буду. Твоя моя кони дай. Орусы говори: друг другу другом будь!
– Правильно говорят! – подтвердил Тырков. – Желание твое похвально, Ивашка, но сказать по совести, не совсем мне понятно. Веры-то мы с тобой теперь одной, это правда, да по разные стороны света выросли. У вас тут на Сибири свои раздоры шли и продолжаются, а на Московской Руси – свои. Издали их понять трудно бывает. Насколько я сведом, есть и среди татар, и у остяков с вогуличами такое рассуждение: белого-де царя настоящего на Москве давно нет, на Сибири одни воеводы остались, а русских людей в городах везде мало; не побить ли их разом по такому случаю? Как ты сам на это смотришь? И зачем тебе ввязываться в чужие ополчения да еще в те края идти, где ты сам не бывал?
– Неправильна эта рассуждение, – с достоинством ответил Текишев. – Мудрые люди говори: хорош-не хорош был твой стоянка, когда кочевать иди, видно будешь. Моя тоже так думай: хорош-не хорош Москва, когда джунгары и аргыны [17]17
Племена западных монголов и казак-киргизов Средней орды.
[Закрыть]приходи, кто нам защиту дай? Москва – большой народ, широкая спина. С ней живи, без нее плохо будешь. Ее царь – мой царь. Ее враги – мои враги. Сам с тобой иди хочу. Если не иди, как я твою сторону света знать будешь?
«Ай да Текишев, ай да молодец! – мысленно похвалил его Тырков. – Ну, точь-в-точь, как я казаку, вздумавшему с ермачатами местничать, ответил. Такого смело можно в поход брать – успел русского духа набраться».
А вслух сказал:
– Правильно мыслишь, Ивашка. Мы теперь все заодно делать должны. Куда передние колеса везут, туда и задние поспешать должны…
Серебряный воздух
Нижний город разбрелся по широкой луговине меж семи рек и речушек. Самая большая из них, Курдюмка, вытекает из оврага за северной оконечностью Алафейской горы и, прежде чем впасть в Иртыш, струит свои ржавые, плохо мылящиеся воды под высоченным, в тридцать с лишним саженей [18]18
Сажень – 2,336 метра.
[Закрыть]. Чукманским мысом. Здесь в нее впадает речонка, которую жилецкие люди называют просто Ручьем. А дальше к Иртышу устремляется тоже небольшая, зато чистоводная, двумя ключами подпитанная речка, о которой следует сказать особо.
Получая чин сына боярского, Тырков и поместье впридачу к нему должен был получить. Но их в ту пору у Тобольского воеводства еще не было. Вот и предложил ему князь Андрей Голицын самому сыскать подходящее место близ города да и построить там посильную деревеньку. Тогда Тырков и выбрал пустошь у этой речки, а дворы подрядил ставить тех самых казаков Устюжаниных, что поделали улочку в Верхнем городе у Казачьих ворот. Со временем деревенька Тыркова влилась в Нижний город. Речку, само собой, стали называть Тырковкой, улицу вдоль нее – Второй Устюжской, а жить сюда перешли дети Тыркова. Сначала Василий с молодой женой и ее многочисленными родственниками, затем Аксюта с Микешей Устьяниным, следом Настена с мужем, а при них невесты на выданье Вера и Луша. Так и живут себе в пять дворов. Слава богу, согласно живут, по первому слову помогая друг другу. А Павла беспокойной птицей сверху вниз перелетывает, чтобы тут же снизу вверх устремиться. Откуда у нее только силы на это берутся?..
Каждый раз, спускаясь в Нижний город по Казачьему взвозу, Тырков останавливается на середине склона, чтобы зачерпнуть глазами расстилающуюся под ногами даль, уходящую за излучину Иртыша к Тоболу и дальше – к лугам и озерам среди таежных урманов. Ширь-то какая, первозданность, величавость! Будто кто-то Невидимый звуками, красками, глубоким дыханием мир наполнил. А за спиной земляною стеной, в которой не увидишь ни единого камешка, вознесся яр с крепостными башнями и бревенчатыми пряслами, надежно подпирающими сквозистое небо. Разве есть еще где-нибудь такая буйная, щедрая и вместе с тем суровая красота, как в Сибири? Разве есть еще где-то такой город, где одна из семи речек зовется Тырковкой?..
Вот и нынче Тырков замедлил шаг на середине Казачьего взвоза. Здесь от него отделяется Малый Казачий спуск. По нему путь до Ручья, на берегу которого поставлена кузня Тивы Куроеда, намного ближе. Пришла пора складочное серебро, перевезенное к Тиве накануне из Вознесенской церкви, в слитки превращать.
День выдался теплый, но ветреный. Сильная заверть подернула рябью луговые речки и старицу Иртыша – будто рыбацкие сети на них набросила, а дымы на трубах Нижнего города порвала, сплющила и порывами понесла к земляной стене Алафейской горы, смешивая их с запахами близкого жилья. Один из таких порывов и запорошил глаза Тыркову. Он долго не мог проморгаться, а когда наконец стал различать хоть что-то, не узнал привычного семиречья. Юрты татар с береговой линии Иртыша надвинулись на беспорядочно поставленные строения прочих посадников. Курдюмка и другие речки слились с кривыми улицами, застеленными в болотистых низинах хворостом. Торговую площадь стерла ядовито-фиолетовая пустошь. А таежное заречье и вовсе в синее пятно превратилось.
Этого только не доставало – от встречного ветра глаза не уберечь. И ведь что самое обидное – ветер-то западный. Казаки называют его не как-нибудь, а ветром с Руси, или московским ветром.
Осторожно ступая, Тырков двинулся вниз по Малому Казачьему спуску. Шаг к шагу, ветер к ветру – и вот он уже у подошвы Чукманского мыса. Вот ступил на выбитую в молодой пружинистой траве тропинку. Вот по ходульному мосточку перешел на другую сторону плещущего в низкие берега Ручья. Вот через огород и заднюю калитку прошел на просторный кузнечный двор Тивы Куроеда.
У коновязи под навесом беспокойно похрапывал заседланный жеребец, недовольный множеством кур, которые расхаживали у его ног.
«Чей бы это такой конек мог быть? – попытался рассмотреть жеребца сквозь пелену в глазах Тырков и сам себе ответил: – Ну, конечное дело, Нечая Федорова! Только его каурый имеет темные оплечья и не в масть желто-бурый навис [19]19
Хвост и грива.
[Закрыть]…»
Едва не наступая на кур, до которых так охоч любитель поесть Тива, Тырков вошел в избу.
– Эй, Груняша! – присев на лавку у двери, деловито кликнул он. – Выдь сюда да подай-ка мне две крупицы соли!
Из дальнего закутья тотчас выкатилась грудастая, коротконогая кузнечиха Груня.
– А-а-а, это вон кто! – всплеснула она полными руками. – Чичас принесу, Василей Фомич, и снова скрылась.
Раньше соль приходилось дорогой ценой из Соли-Камской в Сибирь завозить, а с недавних пор казаки ее сами на Ямыш-озере добывать стали. Путь к нему втрое короче, но сыновья Кучум-хана Ишим и Канчувар и до сего дня этот путь крепко стерегут. Через заставы ордынцев не каждый раз пробьешься. Так что ямышская соль дешевле не стала. Казаки – рядовичи и неимущие посадники ее и впрямь крупицами мерят. Но семейство Куроедов не из их числа. У них соли всегда в достатке. Вот и сейчас кузнечиха вынесла Тыркову сразу щепотку.
– Благодарствую, – подставил он ладонь. – А скажи-ка на милость, Груняша, кто еще кроме дьяка Федорова на кузне сейчас собрался?
– Еще Стеха Устюжанин, Савоська Бородин да мои сынчишки Игнашка с Карпушкой, да твой сват Вестимчище с твоим же зятем Аникитой.
У простого народа так принято: себя и свою ровню умалительно называть Стеха, Савоська, Игнашка, Карпушка, государевых людей при чине и звании – по имени-отчеству и непременно с «вичем»: Василей Фомич, Нечай Федорович, ну а попов черных и белых вовсе до небес возвеличивать: Вестимчище или, скажем, Диомидчище. Не совсем складно звучит, зато впечатлительно.
Слушая кузнечиху, Тырков сначала в уголок левого глаза возле переносицы крупицу соли положил, потом в уголок правого. Ах ты, господи, защипало-то как! Однако терпеть можно.
– Ну што, полегчало? – выждав некоторое время, участливо спросила хозяйка дома. – А то я для Тивы настой чистяка приготовила. Жалко сказать: глаза у него чуть не на всякий день воспаляются. А нонче еще и ветер загулял. Не им ли тебя прихватило?
– Им, им, Груняша. Но все, как видишь, прошло. На-ко возьми, что осталось, – Тырков молодецки поднялся. – Спасибо за соль, за ласку. Пойду я. Не люблю, когда меня долго ждут…
Но в кузне работа и без Тыркова уже кипела. В горновом окне под широким челом выварной печи бился, гудел, плескался многоцветный огонь, а внутри, над горнилом, зыбился слепяще-белый солнечный полукруг. Это плавился серебряный лом, выплескивая в тягу пучки искр. Вокруг затаилась пещерная полутьма. По стенам двигались тени. Звучали отрывистые голоса.
Тырков остановился на пороге, ослепленный. Голоса разом смолкли.
– А вот и Василей Фомич пожаловал, – первым обозначил его появление Нечай Федоров. – Каким это ветром тебя носит?
– Тем же, что и тебя, Нечай Федорович! – не задумываясь, ответил Тырков. – Заезжим.
– А конь тебе для чего дан? Ногами вверх-вниз много не набегаешься. Когда-то и подъехать надо. Опаздывать не будешь.
– Так мы ж не договаривались, что и ты сюда заявишься!
– А я без уговора. Прогулки ради. Решил серебряным воздухом подышать.
При этих словах все заулыбались, задвигались. Лишь Тива Куроед, мельком глянув в сторону Тыркова, попенял одному из сыновей-близняшек:
– Не зевай по сторонам, паря. Поддуй маленько. Не видишь, што ли, огонь падает?
Его слова прозвучали, как упрек собравшимся: не для разговоров-де мы здесь сошлись, а для дела, вот и займемся им.
Сын Тивы, то ли Игнашка, то ли Карпушка, принялся докачивать воздух в топку, а Вестим Устьянин, облаченный в глухой кожаный передник, стал у изложницы, дожидаясь, когда через литник потечет в нее первая серебряная струйка.
И вот она потекла, заполняя дно квадратной изложницы жаром текучего серебра. Оно шипело, укладываясь в опоку, сделанную из суглинка с меловым известняком.
Тырков и Нечай Федоров замерли позади Вестима Устьянина. Жар выварного горна жег их лица, огонь слепил глаза. Закрываясь от него руками, все трое внимательно следили, как рождается первый слиток – толщиной в палец, шириной – в два.
Выждав нужное время, Вестим достал его из гнезда разливной ложкой и, осмотрев со всех сторон, посоветовал Тиве уменьшить входное отверстие изложницы. Тот заспорил было, но затем согласился.
Так и пошло. Вестим свое слово скажет, Тива – свое. Игнашка с Карпушкой их пожелания тут же исполнят. Им полувзгляда достаточно, полузнака. Казаки в свою очередь сыновьям кузнеца стараются подсобить, а Микеша Устьянин слитки к двери охладиться уносит.
Много раз Тырков видел Вестима на церковной службе, но впервые заметил его на службе серебреника. И ту, и другую он исполнял самозабвенно и с превеликим достоинством. Все бы священники такими, как он, были не пришлось бы святой церкви краснеть за попов, в личной жизни от Божьих истин отступающих.
Вот и Нечай Федоров таков же. Редкий дьяк государские дела столь добросовестно и бескорыстно вершит. Что с его колокольни кузня Тивы Куроеда? – Песчинка, не более. А Нечаю и до нее дело есть. Нашел время, приехал. Само его присутствие здесь вдохновляет.
Тырков глянул на Федорова – и не узнал его: лицо набрякло, тело огрузло, дыханье тяжелым сделалось.
«Вот тебе и серебряный воздух! – встревожился он. – Годы свое берут. Пора бы и поберечься. Так нет, надорвусь, но все равно заявлюсь. Неугомонный…»
Сам Тырков к яркому свету, копоти и духоте, несмотря на мураши в глазах, успел притерпеться, а Федоров – нет. Надо его поскорей из этой душегубки выводить, не то он с ног свалится.
– Ну все, братцы! – стараясь не выдать своей тревоги, деловито объявил Тырков. – Вы тут заканчивайте с Богом, а нас с Нечаем Федоровичем другие дела ждут. За себя Устюжанина оставляю. Он знает, куда серебро перенесть… А тебе, Тива, низкий поклон и великое почтение за помощь.
Не говоря ни слова, Нечай Федоров последовал за ним.
Завидев хозяина, жеребец с темными оплечьями (таких принято называть крылатыми) потянулся к нему, но Тырков повел Федорова дальше – к лавке под широким навесом.
– Принеси-ка нам водицы, голубушка, – велел он случившейся поблизости дочери кузнеца, – Изжаждались совсем.
Нечай Федоров тяжело привалился к подпорному столбу, непослушными пальцами расстегнул кафтан на груди, захлебываясь, стал глотать ветер, который вдруг таким желанным и освежающим сделался.
– Ты прости, Нечай Федорович, что я тебя из кузни выдернул, – будто не замечая его немощи, подпустил в голос виноватости Тырков. – Сомлел малость в преисподней у Тивы. Вот и запросилось сердце на волю.
Нечай Федоров с усилием глянул на него и, едва ворочая языком, согласился:
– Глаза у тебя и впрямь красные… Отдыхай… Да и мне полезно…
Вода, принесенная дочерью кузнеца, заметно взбодрила обоих.
– Как серебро надумал везти – вроссыпь или внакладку? – вновь сделался деловитым Нечай Федоров.
– Вроссыпь, – отлегло у Тыркова от души. – Задал я колеснику Харламу Гришакову и Федюне Немому в брусяных днищах обозных телег схоронки поделать. Снизу пласт с гнездом для слитков, сверху – глухая доска для отводу глаз. Другое гнездо в передке, где подушка осевой связи. Вот и пойдем мы – с виду как обычный обоз.
– Ничего не скажешь, дельно придумано… И когда же ты будешь готов выступить?
– А уже, считай, готов. Осталось все собрать да уложить. Завтра Троицкая неделя кончается. Стало быть, на Исакия [20]20
30 мая.
[Закрыть]… Между прочим, знаменательный день! Помню, в детские поры дединька мой Елистрат Синица сказывал, будто именно на Исакия змеи ползучие начинают идти на свадьбы змеиные, да не как-нибудь, а змеиным поездом, и ежели укусит человека какая гадина, не заговорить от нее никакому знахарю. После таких страхов мы босыми в лес или в поле опасались бегать.
– А нынче не страшно? – усмехнулся Федоров. – Смута, чай, повсюду гуляет – что в городах, что в глубинках, что по большим дорогам. Мог бы другой день для спокойствия выбрать.
– А в тех сказках, на которых меня ростили, клин клином вышибался. Потому и привык я от земных и небесных гадов не прятаться, своим поездом к ним навстречу идти.
– Хорошая привычка. Ее и держись. На Исакия – так на Исакия… У меня грамоты в Ярославль тоже, считай, готовы. Пора Артюшку Жемотина да Игната Заворихина спешной гоньбой к Пожарскому отправлять. Пусть знает князь, что мы его клич услышали и близко к сердцу приняли. По себе знаю, каково в неведеньи быть… А теперь давай с жалобами разберемся.
– С какими еще жалобами?
– Так Овдока Шемелина челом на тебя нам с воеводой Катыревым ударила. Не знаешь, что ли?
– Первый раз слышу. И на что жалуется?
– А на то, что ты ее Сергушку к себе в дружину не берешь. Других ермачат без разговора взял, а от ее ненаглядного нос воротишь.
– Пусть сперва Богдану Аршинскому повинную даст!
– Уже дал. Нешто ты и об этом не знаешь?
– Значит, не успел.
– А надо бы. Тогда тебе известно было бы, что Овдока Богдана больше не хулет. Отступилась к лешему. Ныне у нее самый большой обидчик – это ты. Ведь что получается? Она в ополчение князя Пожарского любимого сына жертвует, а ты ей препятствуешь. Исплакалась вся, изгоревалась. Заслуги Семена Шемелина перечисляет. Просит в ее положение войти.