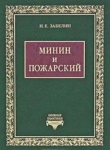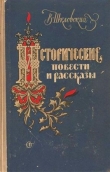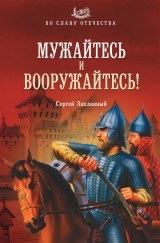
Текст книги "Мужайтесь и вооружайтесь!"
Автор книги: Сергей Заплавный
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– От хвастливой курицы да худые яйца…
Тырков понял, о ком речь – ну, конечно, о Матвее Годунове, однако промолчал, зная, куда разговоры на эту тему могут завести.
– Была бы у меня под рукой Тюмень, разве б я столько дал? – не унимался туринский воевода. – Да ты сам сравни, Василей Фомич.
– Уже сравнил, Иван Никитич, можешь не сомневаться. Лично о тебе у меня мнение самое похвальное. О других говорить не будем. На святом деле грешно считаться. Лучше давай вспомним былое. Как-никак, а служишь ты в том самом месте, где у Ермака первая стычка с сибирцами вышла. Я тут в уме прикинул, когда это сталось, и вышло у меня ровно тридцать лет тому. Вроде бы много, а будто вчера.
– Да-а-а, – неопределенно протянул туринский воевода. – Вчера – не сегодня. Что было, то прошло. Всего не упомнишь, Василей Фомич, да и не к чему вроде.
– Кому как, – не согласился с ним Тырков. – Ты человек московский. А московские люди, заметил я, беглым взглядом вокруг привыкли смотреть. Отслужат свое и поминай как звали. Зачем им знать о каком-то Ермаке или еще о чем-то бывшем и далеком? Но мы-то здесь остаемся, Иван Никитич. Здесь! А если едем куда, непременно возвращаемся. Так что прощай и помни: без Ермака ни Туринска, ни тебя самого здесь бы не было.
Будто подслушав их разговор, Микеша Вестимов завел песню, которую любили певать в своем кругу казаки старой ермаковской сотни. К нему тотчас подстроился Михалка Смывалов. Слов он явно не знал, но иные из них подхватывал по догадке:
Как по белым по рекам подымалися
Удальцы-молодцы ермаковские
На Земной на Пояс по большой воде
На резвЫх на лодках на коломенках.
На ту сторону они перехаживали.
С-под небес на Сибирь они поглядывали.
– Ну-ка где там засел Змей Горынович,
Старый хан Кучум, что Сибирь пленил?..
С этой песней и продолжила путь дружина Василия Тыркова. С каждым шагом песня крепла, становилась шире, многозвучней:
Как по черным по рекам спускалися
На резвых на лодках на коломенках
Удальцы-молодцы ермаковские,
Чтоб Сибирь опять к Москве прилепить.
Не успел тут змей-Кучум и глазом сморгнуть,
Как они на него все насыпались,
Отрубили ему враз-то буйну голову,
А другие от них он едва унес…
Кто через Камень в Сибирь хаживал, тот знает, что белыми реками здешние жители называют те из них, которые на его западных склонах зарождаются и несут свои воды в Московскую Русь, а черными – восточные, текущие в Русь Сибирскую. В пору большой воды белые реки чуть не до истоков глубокими становятся, судоходными. Перебираясь с одной на другую, можно до поднебесных вершин добраться и, сделав там пешую переволоку, по черным рекам спуститься в чащобы лукоморские. Вот большой атаман Ермак Тимофеевич со своей дружиной и совершил стремительный бросок за Камень. Воспользовавшись временем осенних дождей, он сначала вверх по белой реке Чусовой и ее притоку Серебрянке поднялся, затем посуху переволок струги к Жаровле, а дальше по черным рекам Баранче, Тагилу и Туре домчал до Тобола. Он знал, что еще весной Кучум-хан отправил старшего сына Алея грабить Чусовские городки в пермских землях и дал ему для этого лучшую часть своего войска – закаленных в боевых походах уланов, а при себе оставил лишь вспомогательные отряды юртовских татар и остяков. С Тобола Ермак повернул струги на Иртыш, где находилась главная крепость Сибирского ханства, Искер, и там, у мыса Потчеваш, обратил его защитников в бегство. Однако уже на четвертый день после этого сражения сибирцы стали возвращаться в свои жилища и вести с Ермаком переговоры о том, как им вернуться за спину Москвы.
Обо всем этом, но по-былинному кратко и рассказывала песня о сибирском взятии, с которой дружина Василия Тыркова выступила из Туринска. А ермакова хоругвь, плывущая впереди, напоминала о том, что Искер был взят не когда-нибудь, а 26 октября 7091 [48]48
1582.
[Закрыть]года – на день памяти святого Дмитрия Солунского.
Словно продолжая эту песню, на переходе до Верхотурья родилась другая – о нынешнем сибирском ополчении:
Как у нас-то было на святой Руси.
На святой Руси Смута сделалась.
Смута смутная, подколодная.
Лжецари на Москву литву навели.
Про беду про ту всей Земле слыхать.
Сам собою и припев к ней сложился:
Издалеча-далеча, из Тоболеска,
Из сибирской и-ех из украины!
Под такой припев и шаг бодрей становится, и дорога ровней, и небо выше.
Вострубила труба тут серебряна:
«Что, ребятушки, призадумались,
Призадумались, прикручинились?
Не пора ли взашей нам чуженинов гнать,
Под крыло идти к князь-Пожарскому?»
Дождавшись, когда их черед настанет, походники с чувством подхватывают:
Издалеча-далеча, из Тоболеска,
Из сибирской и-ех из украины.
А Микеша Вестимов и Михалка Смывалов песенное повествование дальше ведут:
То не гуси, братцы, и не лебеди
Со лугов, озер подымалися —
Подымалися добры молодцы,
Добры молодцы, все люди вольные,
Люди вольные, православные…
Сергушка Шемелин, стременной Тыркова, раньше других торопится выкрикнуть:
Издалеча-далеча, из Тоболеска,
Из сибирской и-ех из украины!!
Голос у него звучный, но непесенный. Однако на косые взгляды товарищей Сергушка и внимания не обращает, так высоко душа его воспарила.
Поначалу песня имела три запева с припевом, но где-то между Салдинской слободой и Верхотурьем она стала заметно длинней:
Тут и вышло вперед знамя ратное,
Знамя ратное, ермаковское,
Атаманами сбереженное.
Повело оно в путь за три волока
Против смутчиков и наемников
Издалеча-далеча, из Тоболеска,
Из сибирской и-ех из украины!
Впереди-то, поглянь, воеводушка.
На борзом коне он поезживает.
Молодцов своих он подбадривает:
«Вы шагайте по торной дороженьке,
Поспешайте на дело на отчизное»…
Издалеча-далеча, из Тоболеска,
Из сибирской и-ех из украины!
Верхотурье срублено в излучине реки Туры на скалистом утесе. С одной стороны его подрезает речушка Свияга, с другой – Дернейка. По кромке утеса со стороны Туры и Свияги постенно слеплены казенные избы и угловые башни. Со стороны Дернейки к городу примыкает Жилецкая слобода с острожным частоколом. И лишь та часть Верхотурья, что не защищена реками, обнесена рвом и двойными бревенчатыми стенами с земляной засыпкой. Город венчает соборная церковь Во имя Живоначальной Троицы, потому и утес принято величать Троицким камнем. А в Жилецкой слободе поставлена церковь Во имя Воскрешения Христова.
Взору тех, кто следует в Верхотурье из Сибири, открываются сначала купола Воскресенской церкви и лишь затем – Троицкое златоглавие. Они словно в небеса, лежащие на лесистом склоне, врезаны.
Еще издали Тырков заметил людей в рясах, степенно шествующих к дороге через пригородную чистину. Первой его мыслью было: «Странствующие монахи». Однако, приглядевшись, он заметил впереди невеликого ростом, припадающего на левую ногу, но еще крепкого телом Иону Пошехонца. Стало быть, это не случайные путники, а старцы Никольского монастыря, вышедшие его дружину встречать.
Лишь теперь он вспомнил, что Нечай Федоров заодно с верхотурским воеводой Степаном Годуновым собирался и монастырского игумена Иону о предстоящем походе оповестить. Но с Ионой Тырков рассчитывал встретиться во вторую очередь. Ведь на первом месте у него дела службы, а их положено с воеводой решать. Стало быть, что-то случилось, раз Степан Годунов свое место Ионе уступил.
Спрыгнув с коня, Тырков передал поводья Сергушке Шемелину и поспешил навстречу старцам. Шел и радовался новой встрече с Ионой…
Познакомились они одиннадцать лет назад. Тырков, в ту пору присланный в Верхотурье таможенные неполадки расследовать, стал свидетелем распри тогдашнего воеводы Ивана Вяземского с черным попом Ионой Пошехонцем. Иона дал обет построить рядом с Троицким камнем монастырь Во имя Николы Чудотворца, но Вяземский запретил ему и его споспешникам брать для постройки храма и келий близкий к городу казенный лес. Препирательства меж ними кончились тем, что воевода строптивого попа в темницу запер и велел не кормить три дня, а Тыркову, вступившемуся за Иону, в сердцах бросил: «В другой раз не будет меня всяко лаять… Да и то сказать: поп со всего возьмет, а с попа ничего не возьмешь. Это как?». Однако к вечеру того же дня он упрямца из затвора выпустил. Иона тут же челобитную на имя царя Бориса Годунова написал да побоялся с воеводским посыльным ее в Москву отправлять: не дойдет ведь, Вяземский ее мимо себя вряд ли пропустит. Вот и обратился к Тыркову: помоги!..
На добром деле почему и не помочь? Тырков челобитие Ионы с верным человеком прямо в руки Нечая Федорова переправил, ведь такие дела от имени государя в ту пору именно он, второй дьяк приказа Казанского и Мещерского дворца, решал. Ответ из Москвы последовал скорый и твердый: «Лесу на построй Никольской обители столько дать, сколько на то потребно будет, понеже сибирская земля им премного богата, а православными монастырями нищенствует».
Получив такое указание, Вяземский ухмыльнулся: «Здесь не сказано, что лес я тебе должен давать мирской дачей, Иона, так что пиши казне заемное обязательство. Задолжаешься, вмиг сговорчивей станешь». Пришлось Ионе кабальную запись на себя делать. Зато монастырь на глазах расти стал, крепкой стеной от придорожной суеты отгородился, церквой, рубленой, как принято в поволжском Пошехонье, украсился.
Сменивший на воеводстве Вяземского Неудача Плещеев взялся было долг с Ионы сыскивать, а тот гол как сокол. Одно и осталось: в долговую темницу его засадить. И снова Тырков, по делам через Верхотурье следовавший, из затвора его вызволил. Более того, убедил Иону самому с челобитьем в Москву поспешить. И снова Нечай Федоров ему поспособствовал: именем царя Бориса заемный лес монастырю списал, Ионе и дьячку государево жалованье положил, еще и церковное строение с собою дал. С тех пор Иона Пошехонец и Василей Тырков сблизились настолько, насколько могут сблизиться люди, живущие в разных городах, но единые в стремлениях и помыслах…
Вот и сейчас, сойдясь под стенами Жилецкой слободы, они замерли, всматриваясь друг в друга, разговаривая глазами, будто вдруг дар речи потеряли. Первым спохватился Иона. Оборотившись к иконе Николая Чудотворца, которую нес молодой чернец, он с чувством возгласил:
– О всеблагой отче Николае, пастырю и учителю всех, верой притекающих к твоему заступлению! Перед твоею иконою здравствуем прибытчикам, идущим на дело, которое само себя хвалит. Молитвами твоими отжени от них усталость, испроси им у Христа Бога нашего твердости и терпения, от всяких бед и скорбей избавления, научи подвигам добрым подвизаться, удостой покровительства своего и от всех злых и бедственных обстояний огради, подаждь согласие и дерзновение ныне и во веки веков!
Затем старец осенил Тыркова большим медным крестом и уже будничным, но по-отечески теплым голосом добавил:
– Рад зреть тебя и твою дружину, державец. Добро пожаловать в нашу обитель на постояние и молитву. Се с воеводой нашим Стефаном Стефаниевичем согласовано.
Поцеловав крест, Тырков ответил:
– И я рад тебя видеть, отче. Спасибо, что со всей душою встречаешь. Дай тебе Бог всего в честь и в радость.
В это время знаменщик Ольша Лукьянов, покинув строй, встал рядом с чернецом, держащим икону, и все увидели, как встретились святые образы Дмитрия Солунского и архангела Михаила со светлым образом Николы Чудотворца.
Сам собою сложился порядок дальнейшего движения: впереди чернец и знаменщик, за ними игумен и походный воевода, следом старцы, головные запевалы и все остальные ополченцы-обозники. Путь их лежал вдоль Жилецкой слободы к отрогам Троицкого камня, где кончалась Туринская дорога и начиналась Соликамская. Там и утвердился недостроенный еще монастырь Во имя Николы Чудотворца. Его высокие стены острием вклинились между берегом Свияги и еще одного притока Туры-Калачика.
Как у нас-то было на святой Руси.
На святой Руси Смута сделалась… —
взвились над дорогой звучные голоса Михалки Смывалова и Микеши Вестимова. Дождавшись припева, походники привычно грянули:
Издалеча-далеча, из Тоболеска,
Из сибирской и-ех из украины!
Через проездные ворота Жилецкой слободы вышли к дороге несколько любопытствующих стариков и женщин с ребятишками. Сколько мимо обозов езживало, сколько всяких людей хаживало, а такое шествие им видеть раньше не доводилось. Будет о чем потом поговорить. Счастливцы…
Воспользовавшись тем, что их никто не слышит, Тырков спросил у Ионы:
– Сам-то Степан Годунов где?
– Прихворнул малость. Но дело и без него делается. Не беспокойся.
– А о пелымских воеводах что скажешь?
– Федор здесь, тебя дожидается.
– С пустыми руками пришел?
– Считай, что с пустыми.
– Как он тебе поглянулся?
– И так, и сяк. Речь слышна, да сердца не видно.
– Какова же речь?
– И шьет, и порет, и лощит, и плющит.
– Что делать собирается?
– С тобою идти, но далеко ли, не сказывает. Думаю, до развилка, сам знаешь, до которого. Так что полагаться на него не советую.
– Понимаю, отче. Нанесла же его нелегкая на мою голову! Ну да ничего. Как-нибудь оттерплюсь…
Вскоре показались монастырские строения. Миновав Святые ворота, дружина втянулась на просторное подворье. Уместив на нем возы, коневщики отогнали лошадей за ограду. Там до самой береговой линии Калачика простерлась поросшая молодой травой низина. На ней они и оставили пастись стреноженных коней. А караулить их выпало Ивашке Текешеву с двумя помощниками.
Хлебосольные старцы сделали все, чтобы дружина после трех дальних переходов душой и телом в их обители отдохнула. А душой лучше всего отдыхается в Божием храме. Только здесь можно почувствовать всю красоту и целительность общей молитвы, набраться сил на следующие переходы.
Вечернюю службу в Никольском храме Тырков отстоял вместе со всеми, а утреннюю ему перебил Федор Годунов. Явившись в монастырь, он стал обиды Тыркову высказывать:
– Почто до сих пор в воеводской избе не побывал? Или думаешь, она за тобой ходить станет? Ошибаешься! Всякая служба свой порядок знает!
В ответ Тырков лишь плечами пожал, всем своим видом показывая, что не с того Годунов разговор начал.
Поняв это, тот стал о своем назначении в Пелым рассказывать, о грамоте, которую получил от большого сибирского воеводы Ивана Катырева, о своей готовности присоединиться к дружине.
Тырков слушал его по-прежнему молча, отстраненно, чувствуя, что Годунов чего-то не договаривает. Не выдержав, спросил:
– Говори прямо, Федор Алексеевич, в чем твоя забота?
Споткнувшись о его пристальный взгляд, Годунов голову вскинул:
– Коли мы дальше вместе идем, не худо бы нам обо всем сразу договориться!
Голова у него заметно сплющена: лоб длинный, нос длинный, подбородок тоже длинный. Борода на нем торчит, как метла на черене. Волосы горшком стрижены. Уши тонкие, заостренные. Видом не вышел да и умом, похоже, не блещет, а ведет себя, как гонорный пан. Вот что делает с людьми царское имя.
– Ну так и договаривайся, – нахмурился Тырков. – Вот он я.
– Ладно, Василей Фомич, слушай! Я как-никак московский дворянин, литву и поляков бил, родословие царское имею. И прислан сюда, заметь, полномочной властью. А у тебя всего чин сына боярского, хоть ты весь в заслугах. Вот и посуди: гоже ли мне на походе ниже тебя быть?
– А как тебе мыслится?
– Вровень!
– Вровень, так вровень, – не стал спорить Тырков. – Лишь бы ты без моего согласия ничего не решал. Ни-че-го! Такое у меня будет условие.
Его уступчивость озадачила Федора Годунова. Уж не подвох ли какой у сына боярского на уме?
– А ты сговорчивый, Василей Фомич. Глядишь, и поладим…
Провожать дружину высыпало все Верхотурье. На этот раз ермакову хоругвь выпало нести Савоське Бородину. Шаг у него веский, спокойный. И лишь заалевшие щеки выдавали его волнение.
Глядя на хоругвь, Тырков устремился мыслями вперед – в ярославский стан князя Пожарского, а оттуда прямым ходом к Москве. Ему вдруг увиделось, как вместе с другими стягами нижегородского ополчения хоругвь эта победно вступает в Кремль, а вместе с ней вступает в него вся служилая, посадская, крестьянская и ясачная Сибирь.
Рядом с Тырковым на мышастом жеребце трусил его нежеланный соначальник Федор Годунов. Он тоже смотрел на ермакову хоругвь, но пустыми глазами. Его уязвляло то, что приходится покидать Сибирь не солоно хлебавши. Хорошо, хоть походным воеводой, а не отставным искателем воеводского места. Годунов прикидывал, что ему выгодней – к Трубецкому и Заруцкому при первом же удобном случае вернуться или и впрямь на сторону Пожарского перейти? И не находил ответа.
Сибирь осталась у них за спиной. Но они еще вернутся в нее: Тырков в Томск – первым воеводой, Федор Годунов в Пелым – на место своего сородича Ивана Михайловича, а тот – первым воеводой в Тару. Вместе с ними получит назначение Иван Биркин, тот самый, что хотел стать вровень с Дмитрием Пожарским, утаил часть казны нижегородского ополчения, но потом ее лишился. Ему доведется воеводствовать сначала в Березове, затем в Мангазее. Не зря говорится: пути Господни неисповедимы.
Со свечой Гермогена
Утро на Самсонов день [49]49
27 июня.
[Закрыть]выдалось ясное, голубоглазое, но в полдень по Ярославлю прокатился проливной дождь с подстегой. Однако надолго его не хватило. Он тут же сменился ситничком, пропущенным через самосветное солнце. Но и ситничек быстро иссяк, растворился в теплом парящем воздухе. Лишь влажные пятна на дорогах и крышах указывали на то, что дождь все же был, и немалый.
Давно замечено: если на Самсона Странноприимца случится дождь, следом другие аж до бабьего лета зарядят. А в мокрую пору хорошего сена не заготовить. Почернеет оно, гнилью пойдет. Чем тогда скотину кормить? Гречихе, которая сухую погоду любит, да и другим злакам, тоже не поздоровится. Зато просо уродится на славу – густое, плотное. Соберут его бабы, от шелухи отолочат, а из полученного пшена худо-бедно станут в зиму кашу варить, а то и пироги-пшенники делать.
Приказные дьяки сено не косят и просо не ростят, но и мимо их внимания дождь на Самсонов день не проскочил. За ужином только о нем разговору и было. Ведь от того, что у земледельцев в поле, напрямую зависит, сколько припасов для нижегородского ополчения заготовщикам кормов собрать удастся. Да и для предстоящего похода к Москве слякоть помехой может стать. Хоть до нее путь недальний – всего двести пятьдесят верст, а дороги во многих местах разбиты, все в ухабах да рытвинах. После дождей они и вовсе в болотину превратятся – ни пройти, ни проехать.
– Для нас теперь дождь, как монах на свадьбе, – пошутил Семейка Самсонов. – Мало того, что не зван, так еще и не уместен.
– Это ничего, – подал голос Кузьма Минин. – Дождь-то недолгий был – чирикнул и нет его. Значит, и другие недолгими должны быть. Зачем пугать себя раньше времени? И поважней дела есть.
Дьяки приготовились слушать, что за дела их завтра ждут, но тут Дорога Хвицкий, тугой на правое ухо дьяк Земского двора, поворотился к Самсонову:
– Какой это монах для нас не уместен, а? Уж не троицкий ли келарь Авраамий-громословец?
– При чем тут Авраамий? – пожал плечами Самсонов. – Я другое в виду имел. Совсем другое.
– При том, – объяснил Кузьма Минин. – Нынче Авраамий со словом старцев Троицкого монастыря и впрямь к нам на беседы пожаловал. Вот Дороге и примнилось, что это о нем Семейка что-то негожее брякнул. Успокойся, Дорога! Он тебе после все как есть обскажет.
Но Хвицкий и не думал успокаиваться:
– Ныне кто свечу Христова воина Гермогена перенял и высоко держит? – Владыка Троицкий Дионисий с избранником Божиим Авраамием. Их не зовут, они сами приходят!
– А и верно, – запереглядывались дьяки. – Митрополит наш Кирилл от ветхости своей пастырским словом не силен. Вот бы Авраамия послушать.
– Даст Бог, послушаем! – заверил их Кузьма Минин. – А пока пусть дела своим чередом идут. Авраамий в Спасо-Преображенском монастыре пребывает. Там у нас свой приказ. Через него и будем сноситься. Остальное Совету земли решать да князю нашему Дмитрию Михайловичу.
Известие о том, что Авраамий Палицын прибыл в Ярославль, взволновало, но не обрадовало Кирилу. Могучий образ святого старца Иринарха, провидца и страстотерпца, вытеснил из его сознания образ человека, которого он прежде обожествлял так же страстно, как Дорога Хвицкий, а, пожалуй, и поболее, но потом вдруг охладел к нему. Голову сверлила мысль: «Палицын здесь, в Ярославле. Свидимся ли? А если свидимся, что я ему скажу? Что он мне скажет?»
В волнении Кирила отхлебнул из кубка житного кваса и, поперхнувшись, часть его проплеснул себе на бороду. Чувствуя, что все взоры обратились к нему, промокнул влагу коротким утиральником из рыхлой камчатной ткани и как можно беспечней вымолвил:
– Не в то горло попало.
– Кабы в него вина, а не квасу влить, и второе бы горло первым стало, – добродушно подтрунил над ним Семен Сыдавный-Васильев.
– В свое и вливай! – огрызнулся Кирила. – Тебе, чай, не привыкать!
– Я бы влил, тем паче повод есть, – разулыбался Сыдавный. – Впрочем, за хлебом-солью и смех с хреном за милую душу съестся.
– Но, но! – вмешался в их перепалку Кузьма Минин. – Что за разговоры? Чтоб я такого больше не слыхал!
Кирила послушно уткнулся в свою тарелку.
«Много чести – с Сыдавным перепираться, – думал он, – У него одно на уме: вино да вино. Однако нынче он про него с намеком сказал. И понимать его надо так: за здравие-де Палицына не грех напитком покрепче кваса угоститься. Думал, я ему поддакну. Видит, что душа у меня к нему не лежит, а все равно лезет. И не в первый уже раз. В прежние-то годы этот гусь высоко летал. Привык дело с боярами и церковной властью иметь, с поверенными людьми то польского, то шведского короля на посольских встречах заздравничать. Вот и въелись в него застольные острословия. А у Минина трапезы деловые. Хмельного-развеселительного он не терпит. Однако Сыдавного если и пресекает, то больше для вида. Значит, ценит. Знать бы только за что…»
После ужина дьяки разошлись по своим углам в жилецких покоях купца Никитникова. Отправился к себе и Кирила. На двух монахов посреди двора, держащих под уздцы оседланных коней, он и внимания не обратил. Зато они его сразу приметили.
– Братко! – негромко уронил один из них.
Кирила замер, потом радостно бросился навстречу:
– Иваша?!
Это был его старший брат Иванец, в иночестве Феодорит. Два месяца назад они вот так же вечером на подворье Троице-Сергиева монастыря встретились, но тогда Кирила ждал Иванца. Он прибрел к нему за советом: как дальше жить? кому верить? за кем следовать? Авраамий Палицын на ту пору в Москве был, вот Иванец и посоветовал к Иринарху с поклоном пойти. Теперь они снова рядом. Ну не чудо ли?.. Впрочем, никакого чуда и нет. Иванец – келейник Палицына. Где ему как не при келаре быть?
От избытка чувств у Кирилы в глазах защипало. Обнимая брата, он вышептнул:
– Обо мне Авраамий спрашивал?
– И не единожды. А нынче повидаться к тебе отпустил. Так что вторую спальную лавку готовь.
Отстранившись от Иванца, Кирила глянул на его спутника:
– А он разве не останется?
– Нет, братко. Се раб Божий Вахтисий из Спасской обители. Сопроводить меня по отзывчивости своей вызвался. Я бы и пеше дошел, да на верхах быстрее. Давай ему за это на прощанье поклонимся.
Они проводили Вахтисия до ворот. Там чернец резво вскинулся на коня и в поводу со вторым скакуном неспешно затрусил в сторону Спасо-Преображенского монастыря. Солнце давно закатилось за черту крепостной стены, но его желтые лучи с розовыми переливами еще подсвечивали вечернее небо. В этих лучах очертания всадника гляделись как изображение, сделанное писчим углем на иконной доске: некий монах-воин, устремленный в даль заоблачную.
– Видишь? – спросил Кирила, захваченный этим видением.
– Вижу! – без объяснений понял его Иванец.
Подождав, пока Вахтисий скроется за поворотом, а вместе с ним померкнет внезапно возникший образ ратника в черном одеянии, соединивший в себе немало славных имен из прошлого и настоящего, братья поспешили в дом. Им не терпелось остаться вдвоем, чтобы наговориться всласть. Затеплив свечу, они уселись друг против друга.
– Ну, рассказывай, братко!
– Ты старший, ты и начинай, – возразил Кирила. – У меня уши чешутся тебя послушать.
– Ладно, – не стал спорить Иванец. – Только нового я тебе мало скажу. В нетерпении люди многих городов и краев пребывают. Устали ждать, когда земская рать из Ярославля к Москве двинется. Спрашивают: когда безнарядью конец будет? Вот и взялся батюшка Авраамий это дело ускорить, а получится, так и Пожарского с Трубецким примирить. Все же они друг к другу ближе, чем к Ивашке Заруцкому. Оба княжеского рода. Душою на царской службе заматерели. Даже наречены одинаково.
– И что из этого? – не удержался от прекословия брату Кирила. – Разве можно сокола с петухом равнять? Один в небе княжит, другой у навозной кучи. Об именах я и не говорю. Сам знаешь: Димитрий по-гречески – сын богини Земли Деметры. К Пожарскому это очень даже подходит, а к Трубецкому? То-то и оно… Димитрии всякие бывают.
– Я сказал: все же. И не со своих слов, братко. За Дионисием и батюшкой Авраамием повторяю. Тут к ним посланцы от Трубецкого приезжали – уверить, что подмосковное ополчение не по своей воле, а по злому умыслу казачьей вольницы псковскому самозванцу Матюшке крест целовало. Слава богу, сейчас от греха этого отложились. Вот и просил Трубецкой передать Пожарскому, что готов мимо Заруцкого с ним в союз войти, за Московское государство верой-правдой постоять.
– Всяк про правду трубит, да не всяк ее любит.
– И я так считаю. Но ведь и за Трубецким немалая сила собралась. Другую-то в помощь взять негде.
– Выходит, Авраамий сюда Трубецким послан? – так и вскинулся Кирила. – А я думал, что его соборные старцы уполномочили.
– Допреж всего он сам себя уполномочил! – голос Иванца дрогнул, на лбу залегла сердитая складка. – Не ожидал я от тебя таких слов о благотворце нашем, братко. Нешто и впрямь думаешь, что он на посылках у Трубецкого может быть? Ну так я тебе твердо скажу: ни у него, ни у кого иного из малых сих! Лишь Господь наш спаситель ему судья да народ православный. Одно им движет: подвиг изгнания из Московского государства изменников и душителей да упование на грядущий мир и покой. Ради этого он готов примирять тех, кого еще можно примирить, собирать тех, кто еще не собран, ободрять слабых духом. Сам знаешь, что в подмосковных станах делается. Многие дворяне для ран, поместного раздела либо от бедности, а больше того – от казачьего грабежу и всякого дурна, которое Заруцкий попускает, прочь разбегаются. Но и в осажденном ими Кремле дела не лучше обстоят. Там сейчас горстка польского и литовского войска осталась. Зборовский свой полк с обозом из Москвы вывел, а те жолнеры, что с ним не ушли, с голоду ропшут, началие свое в копейку не ставят, о том лишь думают, как ноги поскорей назад унести. Следом за Зборовским Гонсевский восвояси собирается. Нюх у него крысиный. Чует, что дело плохо. Самое время по ним общими силами ударить, пока Зборовскому и Гонсевскому смена из Польши не подошла. Вот батюшка Авраамий и спешит увязать подмосковные дела с делами ярославскими. Увязать, а не навязать! Понимаешь?
– Не серчай на меня, Иваша, если я не то ляпнул, – с готовностью повинился Кирила. – Сам не знаю, с чего это я мыслью не туда повернул?
– Истинно речешь: не туда! Ну коли осознал, то и слава богу… Врать не буду: не со всеми соборными старцами и мирской властью у батюшки Авраамия согласие есть. Иные только на словах с ним едины, а на уме готовы повернуть, куда ветер подует. А у Пожарского как? Ладит ли он с Советом всей земли?
– Насколько я успел понять, кое-как. Для бояр он всего лишь неродовитый стольник. Хоть его весь народ на ополчение избрал, а первым воеводой земских полков против коронного литовского гетмана Яна Ходкевича и казачьего атамана Наливайки бояре Совета всей земли своего князя Дмитрия Черкасского-Мастрюкова послали. Но, может, это и к лучшему, что Пожарский в Ярославле остался. Вместе с Мининым они общее дело наладили, мало-помалу власть над боярскими старшинами взяли. На посаде им быть удобней: к войску ближе, от происков ярославской верхушки дальше. Но она и тут Пожарского своими придирками достала. Третьего дня он в Кремль по слову ярославского воеводы боярина Василия Морозова был зван, да по срочной занятости не управился. Так он за ним окольничего Семена Головина прислал. А тот, аспид, все делает с улыбочками. Вот и в этот раз он до того наулыбался, что вечером у князя приступ черной немочи сделался. Он от телесных ран еще не оправился, а тут душевные. Хорошо, Минин рядом был. Он умеет человека из падучей поднять. Уж не знаю, сможет ли Пожарский с Авраамием нынче перебеседовать. Минин к нему никого не допускает. Всем языки строго-настрого велел замкнуть.
– Ах ты, боже мой, какое несчастие!
Движимый нахлынувшими чувствами, Иванец опустился на колени и, крестясь на икону Спаса в красном углу покойчика, зашептал: – О, Христос Всеблагой Господь Бог наш, Всещедрый Владыка, простри твои руки к честному воину князю Димитрию, от всяких бед и лютых болезней его сохрани…
Кирила опустился на колени рядом.
– …також-де от нестерпимыя огневицы, трясовицы и черной немочи избави, от видимых и невидимых врагов соблюди, уврачуй силой своего неисточимого врачевания, даруй здравие на великое дело государского очищения, осияй его светом благодати свыше, сподоби нас, грешных, узреть плоды здравия его и твое милостивое предстательство о детях своих, ныне и присно и вовеки веков. Аминь.
Вместо молитвы, в которую погрузился Иванец, у Кирилы получилось причитание: …избави …соблюди… уврачуй… даруй… осияй… сподоби… аминь. Но причитание это было такое же искреннее, как и молитва.
– Верю я, – торжественно поднялся с колен Иванец, – что даже на ложе болезни князь Пожарский свидится с батюшкой Авраамием. Словом своим он зажжет свечу его выздоровления.
– Вот и наш дьяк Дорога Хвицкий слово Авраамия со свечой Гермогена сравнил, – поднявшись за ним, вспомнил Кирила.
– А какими словами преславный угодниче Христов Иринарх душу твою к Пожарскому подвигнул?
– Не поверишь, Иваша, слов-то особых и не было. Сидел он, мои покаяния слушал, лапоть меж тем плел, а напоследок изрек: стань-де под хоругви нижегородского подвига, остальное тебе само откроется. И лапти в дорогу дал. А я ему – твои медные листы для изготовления крестов.
Иванец приблизил ладони к настольной свече, будто обнимая ими язычок высокого пламени. Глаза его стали большими, золотистыми.
– Вот об чем слагания писать надо, братко. Или канон об Иринархе у тебя уже есть? Ну так поделись скорей!
– Не сподобился покуда, – чувствуя неловкость, вздохнул Кирила. – Признаюсь тебе по совести: отвык слагательно мыслить. Начну и застряну. Будто ходить заново учусь.